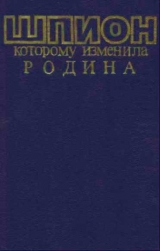
Текст книги "Шпион, которому изменила Родина"
Автор книги: Борис Витман
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 23 страниц)
Так я освоил эту, а позднее и более сложную систему перестукивания… Прежде всего я сообщил фамилию подсадной утки и просил, чтобы предупредили соседей, если есть с ними связь. От перестукивания по каменной стене у меня стали распухать суставы, но радость общения была куда сильнее этой боли. Каждую ночь, точнее, в то время когда не работал двигатель, мы продолжали наш разговор.
После карцера меня поместили в небольшую камеру, где уже были два человека. Один высокий, стройный красавец в кителе морского офицера, с небольшой бородкой. Другой – невысокого роста, пожилой, с круглым бабьим лицом без признаков растительности, с приплюснутым носом и шелками монгольских глаз. Он сидел на кровати-лежаке, поджав под себя ноги. Будда не Будда, шаман не шаман… Мы представились друг другу. Моряк оказался капитаном польского военно-морского флота, но разговаривал он на чистейшем русском, без единого намека на польский акцент. Я все больше обращался к моряку, хотя он был совсем не разговорчив. Поначалу я решил, что «шаман» плохо говорит по-русски. Но вскоре выяснилось, что он прекрасно говорит не только по-русски, но знает французский, английский, китайский, японский и еще несколько восточных языков. Он окончил два высших учебных заведения, одно из них во Франции. И был этот уникальный башкир не кто иной, как Великий Имам Дальнего Востока. Ему при жизни сооружен памятник в г. Дайрене. В 1918 году у него была встреча с Лениным. В Лефортово его доставили из Дайрена вместе с каким-то японским наследным принцем, после капитуляции Японии в 1945 году. Хазрату– так он просил себя называть – шли многочисленные посылки из многих стран. Общаться с ним было очень интересно. От него я много узнал о магометантстве, о жизни и религии мусульман. Дважды в день он совершал молитвенный обряд. Делился с нами продуктами из полученных посылок, На допросы, а точнее, на «беседы», как он их называл, вызывали только его. Гебисты хотели перетянуть имама на свою сторону, с далеко рассчитанными наперед целями…
Следствие по делу моряка было закончено. Его подозревали в связи с иностранной разведкой…
Мой путь по лефортовским ухабам продолжался.
Вскоре меня снова поместили в одиночную камеру. Когда опять привели на допрос, я увидел моего следователя в благодушном настроении.
Он угостил меня «Казбеком» и как ни в чем не бывало сказал:
– Ну вот что: все, о чем мы с тобой до сих пор говорили, все это ерунда. Теперь мы займемся настоящим делом. Нас интересует твоя связь с Интеллидженс сервис…
Я невольно рассмеялся.
– Поздравляю!.. Если так, то вам придется освободить меня. Вот этого вы никогда не докажете!
– Ну что ж, увидим.
Снова каждую ночь допросы. Только я засыпал, входил надзиратель, тряс меня, спрашивал фамилию, хотя в камере я был один, и вел к следователю. Допрос продолжался до утра. Следователь часто отлучался, и его подменял человек в штатском, который внешне немного походил на меня.
Этого человека интересовала Вена, мои связи, круг моих знакомых, подробное описание города, характерные особенности венцев, система образованиям многое-другое. На следователя он не походил, и его роль так и осталась для меня непонятной. Хотя, не трудно было догадаться.
Утром, незадолго до подъема. меня приводили в камеру. Я раздевался, тут же засыпал. Но объявляли подъем, и я должен был подниматься. Лефортовская круговерть не отличалась разнообразием. Тогда я приноровился дремать стоя, вставал спиной к двери, закрывал глаза и отключался. Но и эта хитрость скоро была разгадана. Надзиратель стал требовать, чтобы я стоял лицом к глазку.
Обычно допрос начинался с вопроса: «Ну что, надумал?».
Однажды следователь заявил:
– Вот ты стараешься выгородить своих друзей в Половинке, – и он назвал Виктора Ивановича и, конечно, Лиду. – А они дали показания против тебя. – В доказательство он потряс какими-то бумажками, но не показал, что в них написано.
– Все упорствуешь, не хочешь сознаться. Твоя подружка же спуталась с главным инженером шахты
Как выяснилось позже, Лида в это время находилась в больнице. После моего вынужденного отъезда у нее было сильное нервное потрясение, а после выхода из больницы она приехала в Москву и некоторое время жила у нас дома, добивалась разрешения на свидание со мной, но, разумеется, не получила
Допросы, пытка лишением сна – страшная пытка – продолжались теперь почти непрерывно, даже но воскресеньям.
Когда подошли к венским событиям, я умолчал о совместной операции движения Сопротивления с частями 3-го Украинского фронта по освобождению Вены. Моя причастность к этой операции и знание полной правды о ней уже едва не стоили мне жизни тогда, в сорок пятом. Эти добивались от меня признания в связях с английской разведкой!
Я был на грани помешательства. Еще немного, и я сознался бы в любом преступлении, даже в связях с преисподней. Но в самый критический момент, когда нервная система была истощена до предела, где-то внутри меня зазвучала музыка. Да-да – музыка. Она была подобна прохладной струе воды, утоляющей многодневную жажду. Эта музыка заполнила меня всего, перенесла в какой-то другой мир, где не было ни тюрьмы, ни следователя, И хотя я отчетливо видел его за столом, дымящего папиросой, и даже, кажется, отвечал на его вопросы, но все это было уже как бы помимо меня И более того, меня не затрагивало. Я наслаждался чудесной мелодией и чувствовал, как отдыхает мой мозг и все тело. Это было невероятно. Когда перед подъемом меня привели в камеру, я совсем не хотел спать.
Все это пришло в самый последний момент, как спасение– было похоже на какую-то космическую подпитку, на Святую Защиту…
В этот день надзиратель ни разу не стучал в дверь. Я с нетерпением ждал допроса, чтобы снова услышать чудесную музыку. И она зазвучала снова, как только я опустился на табурет в кабинете следователя. Он, видимо, заметил перемену во мне, но не мог понять причину Вроде бы все делал по инструкции, и его метод всегда срабатывал. А тут вдруг осечка за осечкой. Он стал нервничать, еще больше курить, часто вскакивал – выходил Обычно уравновешенный, он стал чаще кричать. Даже однажды чуть не ударил, когда на очередной его выпад я сказал:
– Вы, – это вы делаете преступниками честных людей
Он вплотную подошел ко мне и прошипел сквозь зубы:
– Тебе это дорого обойдется. Я загоню тебя туда, куда Макар телят не гонял. Оттуда уже не выберешься!
Несмотря на все его старания, с Интеллидженс сервис у следователя ничего не получалось. Я научился управлять спасительной музыкой. Делал ее звучание громким, когда нужно было заглушить его брань, и видел только шевелящиеся губы, как в кино, когда пропадает звук. Следователь недоумевал.
Дважды меня возили на Лубянку, держали там часами в «стоячей камере» – когда ноги затекают и пухнут, немеют до полного одеревенения. Меня тщательно обследовали их врачи – большие специалисты по общим вопросам и мало что понимающие в психиатрии, а в моей музыке и вовсе не разбирающиеся. Они задавали мне-совсем не медицинские вопросы – все пытались доискаться, не псих RH я. А еще: откуда это у меня рубцы от ранений, сделанные, видите ли, «не фронтовым способом» (неметаллическими зажимами), а профессиональным игольно-ниточным швом?.. – Уличили!.. Вот уж действительно следовательская медицина.
Как-то после отбоя меня не повели, как обычно, на допрос. В ожидании подвоха я вспомнил майора-смершевца, того, что допрашивал меня в Бадене в 1945 году Это была моя первая встреча с представителем всемогущего ведомства. И тому майору и этому следователю– уж очень хотелось сделать из меня изменника родины, какого-то империалистического шпиона. Почему этого хотелось тому майору, я знаю: меня нужно было устранить как нежелательного свидетеля. Чем же я им помешал теперь? Отчего так старается этот капитан?..
Я знал, что из Лефортово есть только два выхода, первый – в лагерь, второй – в небытие… Для второго выхода больше всего подходили те, кто не совершил никаких преступлений. Деятелю этого ведомства не составляло труда состряпать любую фальшивку. Грош цена была следователю, не умеющему из простого советского человека сделать шпиона, или, на худой конец, просто врага народа. Пои этом они входили в такой раж, что потом сами удивтялись, какого матерого врага разоблачили. В итоге врагу – «вышка», следователю – благодарность от начальства и народа. Я рассудил и твердо решил: меня больше устраивает первый выход – в лагерь.
И вот тут ко мне пришло некое просветление. Я понял, что надо помочь капитану в стряпании моего дела. А то ему одному не справиться, а отдуваться-то придется мне. Если ему, чтобы упечь меня в лагерь, недостаточно будет того, что он уже попытался приписать мне, то он пойдет на запредельную фантазию, и тогда меня уничтожат… Нужно подбросить ему что-нибудь попроще, от себя… Но попроще… чтобы «с правом переписки», а не «без»… Например, мол, «добровольно сдался в плен– (покажите мне такого кретина. который «добровольно» лезет в пасть к крокодилу); мог, «работал переводчиком; завербовался к самому Круппу аж электриком; послан учиться в Вену самим гауляйтером Рура… Но главное– не переборщить И ни слова больше об участии в подпольной и разведывательной работе Ни слова!.. А то ведь, чего доброго, не судить, а выпускать надо, да еще извиняться, платить компенсацию и награждать?! Этого здесь ни в одном циркуляре не предусмотрено. Ведь их дело – врагов народа создавать, а наше дела/им помогать. Или уж, на худой конец, не мешать!.. Но до таких мыслей допереть надо – просто так, в нормальную голову они прийти не могут. До них доводят.
Вот такое сквозное прозрение поразило меня, но другого выхода из этой мертвой ловушки тогда я не нашел.
Захотелось, очень захотелось поскорее с моим заклятым капитаном увидеться, пока он сам какого-нибудь еще более скверную каверзу не придумал, «на всю катушку».
Я догадывался, что в арсенале Лефортовской тюрьмы были и другие методы допросов, и понимал, что рано или поздно меня сломают. Позже мне рассказали, что в следственных кабинетах нижнего этажа под рокот двигателя, о котором я упоминал, допрашивали менее утонченными способами. У человека, который рассказал мне это;, были выбиты зубы, тело в кровоподтеках, суставы кистей рук раздроблены.
Несколько дней меня не вызывали. Возможно, самому капитану потребовалась передышка. Шутка ли так истязать себя? Каждую ночь, без выходных. Одного «Казбека» сколько извел.
На очередной вопрос меня вызвали раньше обычного Сразу после того как заработал двигатель. Повели не наверх, а вниз. Следователь и в самом деле выглядел осунувшимся. То ли приболел, то ли получил нагоняй от начальства за то, что либеральничал со мной. Что-то подсказало мне: промедление может обернуться большой бедой. Пора!
Не дожидаясь, когда он задаст свой обычный вопрос: «Ну что, надумал?», я сам обратился к нему:
– Мы изрядно надоели друг другу. Больше мне вам сказать нечего. Теперь остается только придумывать то, чего не было. Стоит ли зря терять время Я подпишу протоколы, хотя они и искажают суть дела Что же касается Интеллидженс сервис, это несерьезно, начальство может усомниться в Ваших профессиональных качествах. Я не надеюсь выйти отсюда на свободу. А для лагеря, наверное, уже достаточно того, что вы там понаписали– сотен пять страниц будет… Кое что можно будет еще дополнить… – осторожно пообещал я
Удивительно, но следователь дал мне все это высказать и ни разу не перебил. Может быть, он думал, что я буду продолжать упорствовать и именно сегодня намеревался применить ко мне так называемый жесткий допрос. А я вроде бы уступил, словно предупредил его намерения. И это как-то обезоружило его. Он принял предложенный мной компромисс.
Показывая на три пухлые папки следственных протоколов, капитан произнес:
– Может быть, когда-нибудь ты напишешь роман. У тебя биография поинтереснее, чем у графа Монте-Кристо. И выдумывать ничего не надо.
Хотя следствие еще не закончилось и впереди предстоял трибунал, но был повод немного воспрянуть духом. Мне кажется, появился первый просвет…
Еще несколько допросов, и я подписал протокол об окончании следствия. Меня ознакомили с показаниями свидетелей. Австрийские друзья-антифашисты подтвердили мое участие в подпольной работе.
По следственному заключению, я обвинялся в том, что сдался в плен, бежал из ссылки, проживал по поддельным документам. Я надеялся, что мне удастся доказать трибуналу несостоятельность этих обвинений. В плен я добровольно не сдавался, в официальной ссылке не значился, а побеги совершал только в тылу у фашистов. Моя деятельность там подтверждена госпроверкой и письменными свидетельствами антифашистов-подпольщиков.
Теперь я ждал трибунала. Но дни шли, а меня никуда не вызывали… Это было мрачное затишье… А когда наконец вызвали, то завели в небольшой кабинет, и чиновник в штатском подвинул ко мне, лист бумаги со следующим текстом: «Особое совещание в составе… (кто был в составе, чиновник прикрывал рукой)… к десяти годам исправительно-трудовых лагерей».
– А где же суд, где трибунал, который должен меня судить?
Нехотя чиновник процедил сквозь зубы:
– Трибунал вернул твое дело за отсутствием состава преступления…
– Ну так нет ведь преступления, почему же десять лет?!
– А это спрашивай у Особого совещания.
– Я должен знать, кто такой щедрый, иначе подписывать не буду.
– Да хрен с тобой, можешь не подписывать. А впрочем… – И он отнял ладонь, с таким видом, словно хотел сказать: все равно там скоро сдохнешь, смотри, не жалко…
Я прочел: «.. в составе Абакумова, Алферова и Меркулова…» Вот уж не ожидал, что удостоюсь такой чести со стороны главного карательного треугольника страны.
Позже выяснилось, что осужденным обычно давали расписаться в копии приговора, где состав Особого совещания, как правило, не назывался Чем объяснить, что на этот раз «тройка» раскрылась, – не знаю. Скорее всего исконно нашей расхлябанностью А может быть, министру Абакумову хотелось удовлетворить свое мелкое честолюбие: отыграться за упущенную возможность расправиться со мной еще тогда в Бадене, в 1945-м. Мол, знай наших!..
Еще несколько дней я провел в Лефортовской тюрьме, но теперь уже в большой общей камере, человек на сто. Здесь находились самые разные люди. Многие были совершенно сломлены. Рядом со мною оказался человек из Краснодона, переживший там оккупацию. У него на теле не было живого места. Очевидно, это был один из тех, кого допрашивали под шум двигателя. У некоторых в глазах стоял ужас – они ни с кем не разговаривали, словно онемели. Но были и такие, кто сохранил силу духа, даже пытался шутить, ободряя других. Мне они были больше по душе.
Рассказывали, что Абакумов до вступления в высокую Должность питал склонность к занятиям боксом. Став министром, нет-нет, да и удостаивал чести подследственных лефортовской тюрьмы: не отказывал себе в удовольствии иногда «размяться» на наиболее упорных, разумеется, «в интересах следствия»…
18. КУДА МАКАР ТЕЛЯТ НЕ ГОНЯЛ
Из Лефортовской тюрьмы осужденных увозили партиями. Перед отправкой мне передали из дома кое-какие вещи, в том числе мой новый темно-серый костюм, оставленный в Половинке. Как он оказался в Москве, я тогда еще не знал (о том, что Лида приезжала к маме в Москву, добивалась свидания со мной, я узнал много позже). Только зачем его передали мне – этот костюм?.. В том опсихелом мире, куда мне предстояло отправиться, из-за такого костюма уголовники могли просто прирезать. Так мне сказали товарищи по камере и посоветовали нашить сверху несколько заплат для маскировки. А сделали мне этот костюм в городе Половинке, в индпошиве.
Почти каждое утро открывалась дверь камеры и зачитывались фамилии: «На выход с вещами!». В одну из групп попал и я. Нас, человек десять, втиснули в фургон без окон, где уже было примерно столько же людей. Привезли на какую-то товарную станцию. Здесь, под охраной конвоиров с собаками, шла погрузка заключенных в «столыпинские» вагоны, введенные еще до революции царским министром Столыпиным для перевозки переселенцев и заключенных. Более удобные и приспособленные для человека (хоть и арестованного) при нормальной загрузке, они в системе ГУЛАГа превратились в настоящее орудие пыток.
В тесное купе нас затолкали столько, что на двухэтажных нарах-полках можно было лежать только на боку, тесно прижавшись друг к другу. Конвой суетился, спешил, но все равно все совершалось очень медленно. Лишь к вечеру наш вагон прицепили к какому-то составу, и поезд тронулся. За весь день нас не кормили ни разу, только теперь дали по куску очень соленой рыбы без хлеба. Хотя все видели, что хлеб загружали. Некоторое время спустя «рыбка запросила пить». Но поить нас никто не собирался. Жажда становилась все невыносимее. На наши просьбы конвоиры не отзывались. Стали раздаваться возмущенные крики. Зрел бунт. Тогда начальник конвоя – старшина – открыл решетчатую дверь купе, и тот, кто был ближе к двери, не успел и моргнуть, как оказался в наручниках. Они так сильно сдавили запястья, что заключенный начал кричать и трясти руками. Он не знал коварного свойства этих наручников, прозванных «шверниковскими» – по фамилии Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Каждое резкое движение сопровождалось щелчком, и наручники еще сильнее сдавливали запястья. Бедняга кричал от нестерпимой боли и еще сильнее тряс руками, а сталь еще глубже врезалась в тело. Душераздирающий крик – не аргумент для конвоира, а подтверждение действенности принятых мер. Пострадавшего спасло только то, что от боли он потерял сознание.
– Кто еще хочет пить? – с издевкой, под гогот остальных охранников, спросил старшина. Все молчали. Я вспомнил, как хладнокровно расстреливали эсэсовцы евреев, попавших в плен под Харьковом, и мне показалось, что между теми и этими много общего. Только те не хохотали. Для тех они были врагами, которые стреляли в них и так же, как и они, убивали. А для этих?.. Через их руки проходили не сотни и не тысячи осужденных, а сотни тысяч. Неужели они все не понимали, что в народе не может быть столько преступников, изменников, врагов народа?
От невыносимой жажды люди обезумевали. Надо было что-то придумать. Я приметил одного конвоира, который не принимал участия в издевательствах над нами. У кого-то нашелся листок бумаги и огрызок карандаша. В несколько минут я набросал портрет этого конвоира и, когда он проходил мимо нашего загона, показал ему рисунок. Хотя это и пахло заискиванием, но что было делать? Конвоир остановился. Я свернул рисунок в трубочку и протянул ему через решетку. Конвоир долго рассматривал портрет, словно впервые увидел собственное лицо, потом ушел и вскоре появился с ведром воды. Это была невиданная победа – «Влияние искусства на массовое сознание!». А чуть позднее он же принес хлеб и пачку махорки. Некоторое время спустя напоил и остальные отсеки.
Ко мне стали проявлять признаки внимания и даже какого-то уважения. Один из уголовников сообщил:
– Теперь ты вроде академика в законе!
Тогда я не придал его словам значения, но это оказалось куда серьезнее, чем я мог предположить.
В нашем этапе не было мелких уголовников. Здесь были крупные преступники с неоднократными судимостями и большими сроками – так называемый «цвет преступного мира»: грабители банков, ювелирных магазинов, крупные рецидивисты, виртуозы-«медвежатники», предводители банд и содержатели притонов. Многие из них, общаясь с образованными, интеллигентными людьми, которые в ту пору составляли большинство на этапах, в тюрьмах и лагерях, нахватались «культуры и науки», даже могли, когда это им было нужно, сойти за неплохо образованных людей. К тому же, не редко они обладали живым, острым умом. Во всяком случае, среди этого разряда уголовников я не встретил ни одного дурака и знал даже нескольких с высшим образованием.
Обеспечив всем обильный водопой, я и не подозревал, какую медвежью услугу оказал себе и всем остальным. От выпитой воды возникла естественная потребность – отлить. Конвоиры водили по одному в туалет, но явился старшина и запретил это передвижение. Кто не мог терпеть, мочились под себя. Не повезло больше других тем, кто располагался внизу, на нижних пол-
… Поднялся шум, снова защелкали наручники и снова раздались истошные крики да кромешный мат.
Здесь, в этой тюрьме на колесах, приоткрылась, может быть, одна из причин бесчеловеческого отношения к узникам. Кусок газеты, переданной нам вместе с махоркой, оказался гулаговской малотиражкой для служебного пользования, под девизом: «Смерть изменникам Родины» (вместо обычного – «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»). R ней я прочел призыв: «Никакой пощады врагам народа, предателям и шпионам, агентам иностранных разведок!». Газета призывала все партийные ячейки «усилить активную политико-воспитательную работу в охранных подразделениях, ежедневно разъясняя всему личному составу почетную роль органов по беспощадной очистке общества от внутренних врагов, на благо всего советского народа». Можно ли было после ежедневной накачки, где все мы. политические, выставлялись лютыми врагами, ожидать от вохровцев иного к нам обращения. Виновность каждого из час не должна была вызывать у них сомнений. Охранник чувствовал себя «народным мстителем», а «за что мстить» – причин накопилось у всех предостаточно.
Что касается уголовников, этих «социально близких» строю и карательным органам, то их здесь давили, как мне казалось, для острастки – чтобы политическим было еще страшнее и трепетнее…
Поезд часто останавливался. Нас отцепляли, прицепляли вновь и везли, везли дальше. И если говорить о разнице между гитлеровскими лагерями и сталинскими– а я могу их сравнивать, – го в первых, пожалуй, было побольше порядка… По беспредельному изуверству они были равны.
Первая выгрузка была произведена в городе Кирове, там находилась Вятская пересылка. Прибыли мы туда вечером. До тюрьмы шли пешком, под конвоем с собаками. Одноэтажное, из потемневших, почти черных толстых бревен здание тюрьмы было огорожено сплошным высоким забором со сторожевыми вышками по углам.
Огромная общая камера до отказа набита людьми. Крохотные оконца ехидно поблескивали под потолком. У одной стены – двухъярусные нары. Сырые почерневшие стены и земляной (возможно, впрочем, так показалось) пол. Никаких признаков отопления. Согревались снова тем, что прижимались друг к другу, – «о великое российское братство!».. Только успели загнать нас в камеру – погас свет. Я с трудом протиснулся подальше от двери и параши, источавшей вонь. Улегся на холодный грязный пол, положил голову на чьи-то ноги, в сырых вонючих валенках, и тут же заснул.
Утром принесли пустой кипяток. Объявили, что питание на двое суток вперед нам выдадут «сухим пайком». Разумеется, потом!
Как только дневной свет проник сквозь грязные стекла окошек, меня кто-то окликнул с верхних нар. Потеснились, дали место, сунули в руки кусок хлеба с салом, отсыпали самосада. Это знакомые по вагону матерые уголовники держали слово. Оказалось – вот что такое похвала «в законе». Я недоумевал, откуда у них такое богатство А спросить не решался. Вскоре источник снабжения стал понятен. Загремел засов, открылась дверь, и в камеру запустили пополнение. Многие оказались местными жителями. У некоторых были довольно объемные котомки. Одни тут же доставали продукты, завтракали сами; другие делились с товарищами по несчастью, третьи клали котомки под себя, украдкой вытаскивали провизию и торопливо, чтобы никто не заметил., ели. Одного из таких и приметили сверху мои покровители. Его запасы были тут же реквизированы.
В вятской богадельне мы пробыли около двух суток без казенного питания, И снова – путь на восток в столыпинском вагоне. В пересыльных тюрьмах нас размещали по разным камерам. Сначала я думал, что это случайно. Но, как выяснилось, надзиратели специально отбирали тех, на ком еще уцелела приличная одежда. Их помещали в камеру с уголовниками. Нетрудно представить, что происходило дальше. У них отнимали все, что можно было сбыть надзирателям за табак, хлеб, а иногда и за водку. Сопротивляться или звать кого-нибудь на помощь было бесполезно. Тюремщики и уголовники действовали единым фронтом.
Все, кто начинал со мной этап в приличном виде, теперь были одеты в жалкое отрепье. У многих не осталось даже обуви: ноги были обмотаны тряпками. Среди них я выглядел «полным пижоном». На мне было приличное московское пальто, теплая рубашка, даже хромовые сапоги. Уцелел и новый темно серый костюм, с фальшивыми заплатами. За время этапа мне не пришлось еще расстаться ни с одной вещью – вот что значит «магическое влияние искусства на народные массы (которым оно принадлежит)», ну и покровительство верхушки блатного мира. Я быстро понял и оценил свое преимущество. Если попадал в камеру с незнакомыми мне по этапу, я окидывал взглядом верхние нары, где обычно располагалась уголовная элита. Если даже там не было никого из знакомых, пробирался вперед, пользуясь замешательством, вызванным моим шикарным видом, швырял небрежно наверх свою котомку и устраивался рядом. Плюс облегченный блатной жаргон, несколько известных в уголовном мире имен, подцепленных у тех же уголовников. Действовал этот прием безотказно. И все же один из «шестерок» [19]19
Мелкое ворье, прислуживающее «элите».
[Закрыть]как-то попытался меня прощупать, он нацелился на мою котомку и даже умудрился запустить туда руку – «играть так играть до конца». Пришлось коротким ударом в солнечное сплетение охладить его любопытство. Бедняга долго не мог вздохнуть и сипел. Остальные недоумевали, а что же, собственно, произошло?.. Но больше прощупывать меня никто не пытался.
В одной пересылке мне предложили сыграть в «буру» на мое пальто или сапоги против английского френча В нем, неизвестно откуда добытом, щеголял один из главарей картежной компании Признаться в том. что из всех карточных игр я знаю только «подкидного дурака», значило полностью разоблачить себя. Пришлось под большим секретом открыться:
– Ухожу с концами (то есть готовлюсь совершить побег). Мне английский френч и на… не нужен..
У блатных побег всегда считался делом серьезным.
Конечно же, я общался не только с уголовниками. Много интересных людей пришлось встретить на этапах, пересылках и в лагерях. Математики, физики, конструкторы, поэты, писатели, артисты, дипломаты. Как правило, это были известные, талантливые люди.
Бывали случаи, когда в лагеря попадали и несовершеннолетние. Рассказывали, что во время этапирования Умерла женщина. При ней находился ее сын, подросток, лет одиннадцати-двенадцати Фамилия украинская, а мамины инициалы подправили
Так и оказался паренек в лагере. Потом он, уже с помощью заключенных, писал и в Верховный Совет, и Швернику, и даже лучшему другу всех детей, отцу родному, товарищу Сталину. Но ни ответа, ни привета. Тогда ему кто-то посоветовал: «Напиши товарищу Ленину!» Письмо пошло с таким адресом: «Москва, Красная площадь, Мавзолей. Владимиру Ильичу Ленину»… И вот только после этого освободили парнишку.
В Новосибирской пересыльной тюрьме мне пришлось познакомиться с академиком Париным Василием Васильевичем– секретарем Академии медицинских наук СССР, осужденным на двадцать пять лет за так называемое разглашение государственной тайны, а он всего-навсего прочел доклад на международной научной конференции; с академиком Баландиным Алексеем Александровичем, замечательным химиком, действительным членом нашей и многих зарубежных академий (этот отбывал десятилетний срок в Норильских лагерях – Бог знает за что?); с полковником Николаем Ивановичем Заботиным, помощником военного атташе в Америке (он, насколько мне известно, был среди тех, кто вторгался в сферы американской секретности на атомную тему). Я был дружен с биохимиком Побиском Георгиевичем Кузнецовым, впоследствии ставшим видным ученым. Но о нем придется рассказать позднее и подробнее.
Я познакомился со многими другими известными или неизвестными, наглухо засекреченными людьми, и с теми, кто еще не успел стать известным – молодыми, талантливыми, загубленными навсегда. Была здесь и целая группа наших летчиков асов. Они не побоялись перед войной открыто заявить руководству о том, что наша истребительная авиация уступает немецкой и в вооружении, и в скоростях, за что и получили по десять-пятнадцать лет лагерей.
Так называемый исправительно-трудовой лагерь и вся разросшаяся до гигантской раковой опухоли система– эта клоака и отстойник всех человеческих гнусностей.
Но вот и последний пункт этапа. Пересыльный лагерь около Красноярска.
В этом лагере мы пробыли с неделю. Мое внимание привлекла усиленная охрана на сторожевых вышках. Вместо одного «попки» на каждой вышке было по два. От обслуги узнали, что незадолго до нашего прибытия здесь произошло восстание. Его инициаторами, кажет-ся, была группа блатных. Они набрали камней, подобрались поближе к одной из сторожевых вышек и по команде атаковали часового, тот не успел и глазом моргнуть. Несколько человек перелезли через проволочное заграждение, взобрались на вышку, захватили ручной пулемет и открыли огонь по охране на других вышках Под прикрытием огня заключенные повалили заграждение, убили охранников еще на двух вышках. Чуть ли не половина лагеря ушла в тайгу.
Многих поймали, но некоторым удалось уйти. Такова была лагерная легенда. В доказательство показывали пулевые отметины в досчатой обшивке вышек.
В Красноярске завершилась сухопутная часть пути, теперь начинался водный – по Енисею. Никогда не видел я этой великой реки, по которой предстояло проплыть несколько тысяч километров чуть ли не до самого устья, ПРОПЛЫТЬ в глухом трюме баржи и не увидеть ни самой реки, ни ее берегов.
На рассвете нас грузили под усиленной охраной. Буксир разорвал хриплым гудком странную, я бы сказал, драматическую тишину и потянул караван огромных барж вниз по течению, На север, вслед за паводковым льдом.
Сквозь квадратный люк в палубе видны были лишь небо да часовые с винтовками, Пищу один раз в сутки опускали в трюм ковшами на длинных палках. Мисок не хватало. Овсяную баланду набирали в шапки или просто в пригоршни. Если в трюме возникала драка, конвоиры усмиряли дерущихся деревянными кувалдами на длинных рукоятках. Спускаться к нам в трюм конвой не решался. Почти все время приходилось проводить лежа а нарах. Они занимали практически все пространство, абак и спички отобрали при погрузке. И все же кто-то ухитрился добыть огонь трением деревяшек, а вместо табака мы выковыривали просмоленную паклю из бортов баржи.
Мне досталось место на верхних нарах. Здесь было сухо, и сюда, через люк, шел хоть какой-то приток свежего воздуха. Внизу же от недостатка кислорода люди нередко теряли сознание. По днищу перекатывался слой вонючей жижи. Не видя самой реки, мы постоянно ощущали ее по плавному покачиванию, а иногда и по сильной качке с настоящей морской болезнью у заморенных зэков.








