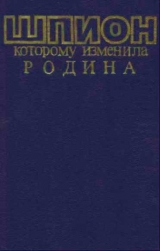
Текст книги "Шпион, которому изменила Родина"
Автор книги: Борис Витман
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 23 страниц)
Мы со Славкой понимали, что этот трюк может обойтись очень дорого. Но не было сил отказаться от такой рискованной, но и такой лихой мизансцены. Оба соображали, что лезем головой в петлю, и оба не могли отказать себе в этаком удовольствии, – видно, сработал обычный лагерный мазохизм?.. А может, так проявляет себя неумное и пошлое тщеславие?.. Нет! Так дает знать о себе вечный принцип противодействия насилию, принцип справедливости – наперекор… Но мы оба догадывались еще об одном: как все это одушевит и ободрит всю братию, всю: и уголовников, и бытовиков, и политических. Очень хотелось, чтобы спектакль обязательно им понравился – всем, а не начальству. Из-за этого и полезли на риск, как на амбразуру А если начальство рассердится или даже придет в негодование, а то и в неистовство, то. ведь это тоже великая радость, полный праздник… Нет, что ни говори, – искусство со всех сторон обнаруживало свои манящие прелести и было сродни риску разведчика.
И вот наступил день премьеры. Через дырочку, в занавесе я глянул в зал. Он был набит до отказа сельди в бочке паковались не плотнее, чем зэки в зрительном зале, и царили здесь мир и согласие: одни, сидели друг у друга на коленях, другие жались в обнимку, чтобы не свалиться, третьи теснились в проходах, сидели на полу, и все… ждали. Ждали чуда.
Недаром у Джонатана Свифта сказано: как бы невыносимо тесно не было в людской толпе, всегда над головами остается огромное свободное пространство. И вот, чтобы из тесноты и спертости вырваться в это свободное пространство, человечество изобрело три специальных сооружения трибуну, сцену и виселицу… Кажется, так у него говорится в «Сказке о бочке» или приблизительно гак. Роль трибуны здесь исполняла гостевая ложа, сцена была у нас под ногами, а виселица маячила где-то впереди.
Говори-говори, да не заговаривайся… Только гостевая ложа все еще пустовала, но с минуты на минуту ожидалось прибытие вершителей наших судеб… Наконец ОНО прибыло! В сопровождении многочисленной свиты. Все знаками различий клейменные, головы вздернуты, ноздри раздуты – псы лыцари в форме НКВД.
Наш покровитель, начальник КВЧ, подал тихий разрешающий знак, и спектакль начался.
Первый акт прошел успешна: зал бурно реагировал, взрывался аплодисментами. Не успел опуститься занавес, как за кулисы ворвались охранники, следом за ними решительно выплыл, один из представителей свиты.
– Кто позволил использовать вольнонаемную женщину? – с лютой угрозой он обратился прямо ко мне, как будто я публично изнасиловал его близкую родственницу.
– Никто! – ответил я в духе солдата Швейка.
– А вам известно, что это категорически запрещено?
– Так точно, гражданин начальник! – отрапортовал я и подумал, что он меня сейчас ударит.
– И ты, и она будете наказаны. А теперь позови мне эту блядь.
Я отворил дверь в гримерную и крикнул:
– Мадам Ксидиас, на выход! Вас, хочет видеть гражданин начальник!
Лешка пулей вылетел из гримерной, шурша юбками, виляя подкладными бедрами, играя бюстом, – он уже хватил первую порцию успеха и жаждал второй – был раскован и нагл: остановился на почтительном расстоянии и учтиво поклонился, сделав, на всякий случай, глубокий реверанс.
– Как фамилия, где работаешь? – рявкнул начальник
– Содержу в порту бардак, ваше благоро… – Тут он сообразил, что переборщил, и, запинаясь, поправился: – Гражданин начальник!
– Номер! Статья!
– Заключенный номер… (такой-то), статья. (такая-то), – промямлил Леша под хохот всей труппы.
Только теперь сообразил начальник, в чем дело, и припечатал:
– Десять суток ШИЗО. После спектакля!
Безупречен был и Филька-контрабандист. Ивлев отлично играл, но после случившегося я уловил в нем едва заметное дополнительное волнение – приближался момент, когда он должен был произнести заветную фразу.
Это был какой-никакой, а протест, пусть высказанный чужими словами. А начальство этот звук схватывает с лёту, – не по слову, а по одной букве… Ивлев взглянул на меня, как бы спрашивая. «Стоит ли?., может, нет?». Утвердительным кивком я ответил: – «Стоит!», подхлестнутый только что происшедшим инцидентом с «мадам Ксидиас».
И вот настал, как произносил Филька в своих куплетах, «криктический момент» Он обратился к зрителям и громко произнес:
– Власти приходят, власти уходят… – и, повернувшись к ложе, как бы с сожалением;, завершил: – Бандиты остаются!
Что тут поднялось в зале, трудно себе представить. Зрители ревели от восторга. Все что угодно, но такой бурной реакции я не ожидал. Спектакль приостановился, его просто невозможно было продолжать.
В тот же вечер меня вызвали в КВЧ Начальник был необычайно холоден. Я понимал, что ему из-за нас здорово досталось. Мне и Ивлеву запретили участвовать в самодеятельности и обоих остригли Труппу распустили Правда, Леша отсидел в ШИЗО только одни сутки, но его тоже остригли. Признаться, я ждал более суровых репрессий, особенно в собственный адрес. Оно так бы и случилось, если бы не вступился за нас все тот же начальник КВЧ. Как же это я забыл его имя отчество и фамилию – нехорошо. Такого следует помнить.
Так оборвалась моя режиссерско-артистическая карьера, едва-едва успев начаться, – «значит, не судьба», – подумал я.
Молва о нашем спектакле распространилась за пределы 6-го лагпункта, а фраза «Бандиты остаются!» стала своеобразным знаком солидарности не только среди заключенных, но и среди вольняшек.
Мой переход на работу в контору не нарушил дружбы с эстонцем Альбертом Трууссом, с которым мы вместе работали в ОМЦ. Чтобы не оставаться в лагерном бараке, в свободные воскресные дни, мы постоянно выходили на работу – пользовались тем, что ОМЦ и моя контора находились в одной зоне оцепления Вот так нам представлялась возможность встречаться в относительно свободной обстановке.
Однажды Альберт пришел ко мне бледным и очень расстроенным. Его только что ограбили. Остановили трое с пиками… Денег было немного, но забрали портсигар, памятный подарок из дома. Мы немного посидели, а потом я пошел проводить его. Надел поверх телогрейки свой самодельный черный плащ и сунул в карман бутафорский пистолет. Его изготовили в нашем столярном цехе для клубной самодеятельности. Мне как раз надо было отнести его в лагерь. Хотя пистолет был деревянный, но покрыт черным лаком, выглядел как настоящий. Еще мелькнула мысль: «А вдруг пригодится!». И как накаркал – в одном глухом месте из-за укрытия вышли четверо и преградили нам дорогу. Я шепнул Альберту:
– Иди прямо на них. Не сворачивай и не оборачивайся.
Сам пошел чуть сзади на расстоянии двух метров, Делая вид, будто конвоирую. Правая моя рука была засунута в карман плаща, там я сжимал рукоятку деревянного пистолета. Когда подошли почти вплотную, я прикрикнул:
– Не останавливаться! Вперед!
Четверо нехотя расступились, дали нам дорогу.
До ОМЦ мы дошли благополучно. К себе я возвращался один, готовый при встрече с грабителями пугануть их бутафорским пистолетом. Но вместо грабителей был остановлен оперативником. Теперь уже мне предложили идти впереди и не оборачиваться. Я спокойно шел впереди, знал, что меня все равно отпустят, но вспомнил про пистолет в кармане и почувствовал, как спина покрылась холодным потом. Дело в том, что в последнее время было совершено несколько дерзких ограблении. Грабитель, до сих пор не пойманный, всегда угрожал пистолетом, но ни разу не пустил его в ход. Скорее всего, пистолет был тоже ненастоящий. Как я смогу доказать, что грабил не я? За такое преступление могли запросто дать «вышку». Надо было во что бы то ни стало избавиться от пистолета. Пришлось тряхнуть стариной и вспомнить фронтовые навыки. Я мысленно прорепетировал все движения. Надо надежно отвлечь внимание конвоира, опустить руку в карман, вытащить пистолет и сунуть его в сугроб. на все не более двух секунд. Ошибка может стоить жизни. Оперативник, наверняка, вооружен, и у него-то пистолет настоящий, на боевом взводе и снят с предохранителя, Все это я понимал, но выхода не было. Выбрал момент, поскользнулся, вскинул вверх левую руку и, падая, успел правой рукой вытащить пистолет из кармана и сунуть его в снег. Все получилось как задумал. Оперработник выругался, но ничего не заметил. Пистолет надежно спрятан в сугроб, и место я запомнил. В комендатуре меня тщательно обыскали, выяснили, кто я, и отпустили. На обратном пути я подобрал пистолет и отправился в лагерь.
При возвращении из промзоны в зону лагеря всех заключенных всегда обыскивали. Я мог бы сам отдать пистолет охране для передачи его в клуб. Но под впечатлением только что происшедшего эпизода мне захотелось проверить бдительность охраны. Переложил пистолет во внутренний карман плаща и при обыске на вахте широко распахнул полы телогрейки вместе с полами плаща. Дал проверить карманы брюк, внутренний нашитый карман телогрейки. Потом быстро запахнул полы, подставил рукава для прощупывания снаружи и стал выворачивать боковые карманы, показывая, что они пусты. Пистолета охранник так и не обнаружил. А я понял: таким образом можно было бы, пожалуй, и автомат в зону пронести.
Но мне пока автомат здесь был не нужен… А что мне было нужно?.. Мне нужно было, чтобы не было зоны и всего, что с ней связано. Чтобы самых хороших людей, включая моих закадычных друзей, и даже плохих людей, по не виновных в предъявленных им абсурдных обвинениях, выпустили бы отсюда на свободу. А если это невозможно, то, как минимум, мне надо… чтобы меня в этой зоне и во всей это системе ГУЛАГа не было! Это не мое. Я не преступник. Я этого не заслужил. И еще, мне очень тяжело сознавать, что подонки, меня сюда упрятавшие, гуляют на свободе, и делают вид, что трудятся в ноте лица. Пока все это есть и царствует – я буду стоять на своем. Я буду – наперекор.
Нашей клубной самодеятельностью стал руководить профессиональный актер Сергей Абрамов. Его перевели сюда из какого-то другого лагпункта. Еще до заключения он успел окончить театральное училище. Это был невероятно одаренный человек и, скажем так, загадочный. О нем ходили всякие легенды, даже небылицы, ноя поначалу ничему не верил, пока не познакомился с ним поближе. Он талантливо исполнял драматические роли, неплохо режиссировал, хорошо пел, великолепно аккомпанировал на гитаре.
Когда он исполнял старинные романсы или баллады, зал слушал, затаив дыхание, и подолгу не отпускал его со сцены. Я видел, как под воздействием его пении травленные, непрошибаемые зэки плакали. Иногда он вдруг тайно исчезал, и никто не мог сказать, где он находится. И его ни разу не наказали. Кто-то видел его даже в городе. Поговаривали, что он владеет особой техникой гипноза или внушения и может пройти через любую вахту. В разговоре с ним я высказал однажды некоторое сомнение по поводу этой его способности. Он посмотрел на меня, пронзительно:
– Если хочешь, можем часок-другой прогуляться по городу. Посидим в ресторане.
Я подумал, что он шутит, и поэтому принял его игру:
– С удовольствием!
– Тогда идем, – он, не оглядываясь, двинулся в направлении вахты.
Мы подходили к проходной, пересекать которую в обе стороны могли только вольнонаемные. Сергей легко и безо всякого напора сказал охраннику:
– Мы скоро вернемся. – Не сбавил шаг, не приостановился, мне даже показалось, что он смотрел мимо охранника.
Невиданный случай – мы беспрепятственно вышли из зоны. Я шел как по раскаленной плите и ждал, что охранник вот-вот опомнится и выстрелит, илигаркнет: «А ну, вертайсь!». Я уже видел себя в штрафном изоляторе– самом строгом… И Сергея рядом… Но все было спокойно. Никто не стрелял, никто ничего нам не кричал. Мы шли по неохраняемой городской земле. И тут догадка ударила, как хлестанула: «Раззява, да это же сексот– секретный сотрудник ГУЛАГа. Вот тебе и вся легенда. А я-то уши развесил!».
Однако виду не подал и свое открытие решил попридержать до поры до времени при себе. Сергей хорошо ориентировался в городе, видно, бывал здесь не раз. Мы уже прошли мимо одного ресторана; он вел меня в другой, сказал, что тот лучше, Чтобы проверить свое подозрение, я предложил посетить тот ресторан, который мы уже прошли. Он не стал упорствовать, и мы вернулись. Я еще вначале предупредил его, что денег у меня всего один рубль, а он сказал, что у него и того меньше. Интересно было посмотреть, на что же он рассчитывал? Мы разделись и прошли в зал. Две официантки беседовали между собой не обращая на нас внимания. Лишь после второго призыва одна из них нехотя подошла к столику.
– Девушка, нам бы чего-нибудь перекусить, – подчеркнуто внятно произнес он, глядя на нее как младенец, пефокусированным взглядом действительно глубоких и очаровательно-красивых темных глаз.
И тут на моих глазах стало происходить непонятное. На лице официантки появилась улыбка, взгляд потеплел. Она ловила каждое слово Сергея и была готова выполнить любое его желание. Он размеренно произнес:
– Девушка! Я случайно встретил своего давнишнего друга и хотел бы отметить это событие несколько торжественнее, чем позволяет меню. Я буду весьма признателен, если вы поможете нам в этом…
Через минуту на столе появился коньяк, хорошая закуска. Сергей с аппетитом ел, а у меня кусок застревал в горле. Я понял, что мое подозрение было напрасным. Если бы он был «сексотом», зачем тогда ему было демонстрировать все это? Теперь я с тревогой ждал момента, когда придется расплачиваться за еду. Сергей же, судя по всему, не испытывал никакого беспокойства, и когда заместитель директора подошла к нам осведомиться, довольны ли мы обслуживанием, он усадил ее с нами за стол, и мы выпили за ее здоровье. Потом Сергей поблагодарил дам за гостеприимство, сказал какой-то комплимент и сделал жест, дескать, достает бумажник! Спросил, сколько мы должны за угощение. Официантка наотрез отказалась от денег… Решительно и, главное, искренно!
Я был ошеломлен, словно сам находился под гипнозом. На выходе из ресторана я боялся обернуться, ожидал, что раздастся возглас: «Вернитесь!». Но и здесь, так же, как на вахте, все обошлось благополучно. Мы беспрепятственно возвратились в зону.
Что-то происходило вокруг – и уже не скажешь странное, а какое-то нагромождение нелепостей, одичалой жестокости и еще чего-то, что и словом не назовешь… Словно все сорвалось с круга заданного вращения и понеслось к хаосу, бессмыслице и небытию… Важно было удержаться на ногах, не свалиться, не упасть, чтобы не затоптали.
В нашей строительной конторе работала нормировщицей вольнонаемная молодая женщина, Анна К. Иногда она заходила к нам просто поболтать. По отрывочным и случайным фразам можно было предположить, что в Норильске она оказалась из-за какой-то сердечной драмы. В меру привлекательна и стройна. На ухаживания вольнонаемных мужчин почти не реагировала. Не пользовалась никакой косметикой. На левой руке носила обручальное кольцо, хотя ни мужа, ни жениха, как я знаю, у нее не было. К особо ретивым поклонникам относилась холодно и даже с некоторым презрением. А вот улыбка у нее была добрая, с зеленоватыми искорками в глазах. Однажды она ввалилась в помещение почти в невменяемом состоянии и еле выговорила:
– Только что… меня ограбили. Вот тут вот – возле самой конторы… Их двое… Молодые ребята с ножами… Выродки.
У нее выпотрошили сумочку, сняли часы. Я спросил, как выглядели грабители и в какую сторону пошли. Забежал в столярный цех, сунул в карман молоток, крикнул нашим ребятам, что побежал догонять грабителей и что нужна их помощь. На мой призыв тут же откликнулся кузнец Пашка. Вдвоем мы побежали в указанном Анной направлении. Полярная ночь в преддверии весны немного потеснилась, обозначились сумерки. Вскоре я различил шагающего широким шагом человека. Приметы одежды совпадали с описанием Анны. Я побежал быстрее, сзади чуть поотстал Пашка. Человек напорно шел, размахивая руками, и не оборачивался. Расстояние между нами сокращалось. Я знал, что у него должен быть нож. Улучив момент, когда его правая рука в махе оказалась сзади, я схватил его за запястье и заломил. Парень рухнул на колени. Подбежал Пашка – в кармане задержанного мы обнаружили нож. Сомнении не осталось– это был один из грабителей. На вопрос, где его напарник, отвечать отказался. Мы повели его в направлении нашей конторы. Не успели пройти и сотни метров, как из сумрака появилось несколько силуэтов. Сначала мы решили, что это наши ребята идут к нам на помощь. Но это были не они… Еще мгновенье, и мы с Пашен оказались в плотном кольце. Их было человек пять, в темных бушлатах, с поднятыми воротниками >и надвинутыми на глаза ушанками. Лица почти не видны, только свирепые взгляды из-под шапок. И все пять пар устремлены на нас. Медленно подступая, они на ходу вытаскивали из рукавов и карманов кто нож, кто пику. Не знаю, кого из родных и близких вспомнил я в этот момент… Было ясно – это конец! Руки и ноги ослабли. Пойманный почувствовал, что его не держат, и отскочил в сторону, я вспомнил про молоток и отобранный нож в моем кармане, но понял, что любое движение только ускорит конец. Заточенной пикой вмиг пропорят насквозь… Дальше все было как во сне. Кольцо вдруг отпрянуло назад и исчезло. А из мрака уже появилась фигура в распахнутом полушубке и черном кителе. Это был вольнонаемный мастер столярного цеха Гусев и с ним еще несколько наших зэков. Появись они всего на две-три секунды позже – опоздали бы… Но вместо того чтобы радоваться избавлению, мне вдруг стало обидно, что мы упустили грабителя. Он не мог уйти далеко. Я так хотел еще раз увидеть его, что… увидел: он поднимался по насыпи железнодорожного полотна. Еще немного, и он мог бы скрыться. Мы его догнали, когда он уже спускался с противоположной стороны насыпи. Вот шутница-фортуна, умеет мигом развернуться на все сто восемьдесят и притом не один раз. Мне снова удалось захватить его правую руку – чуть не сломал в плече. Он пытался вырваться, – не смог, мертвой песьей хваткой вцепился зубами в кисть моей руки – шрам на пальце остался навсегда.
Потом мы отвели его в контору, обыскали и нашли часы, снятые у Анны. Гусев позвонил в спецкомендатуру, грабителя забрали. А я некоторое время носил в валенке кусок стальной полоски – на всякий случай.
После этого происшествия Анна поглядывала на меня с удивлением и даже с любопытством. А в один из воскресных рабочих дней пригласила на свою территорию и устроила маленький благодарственный банкет: на столе были бутерброды, в стаканах горячий чай, рядом сидели несколько сотрудников – вот и все. Но для меня было очень дорого даже такое простое проявление участия.
Память бастовала, она отказывалась усваивать поток всеобщей мерзости; память работала избирательно и оставляла в своих тайниках примеры подвигов человеческого духа и поступки, равные им. И все же прорывы обыденной памяти кошмарны.
Это было у меня на глазах. В плавильном цехе работала ремонтная бригада заключенных Что-то не поделили. Трое погнались за одним, по рабочим площадкам и трапам, загоняя его все выше, и выше. По тому, как они за ним гнались, и но тому, как он от них убегал, было видно, что тут пощады не будет. Они загнали его на самую верхнюю площадку, под перекрытием. Дальше уходить было некуда, оставалась только ферма, и он полез по ней, рискуя каждый миг сорваться. Но преследователей и это не остановило. С противоположных концов они так же полезли по ферме. Приближалась развязка. Преследуемый понял, что ему не уйти, посмотрел вниз, где как раз под ним остановился огромный ковш с расплавленным металлом, и, не раздумывая, с высоты прыгнул «солдатиком» вниз, прямо в ковш… И не промахнулся.
С Анной мы встречались почти каждое воскресенье. Конечно, это было очень рискованно для обоих. Даже обычное чаепитие могло окончиться расправой. Я как-то ее спросил:
– Зачем тебе этот постоянный риск?
Она ответила:
– Здесь только, среди заключенных «политиков» и ссыльных, встречаются нормальные люди. А этих борзых, как и уголовников, мне не надо.
В один из дней Анна не вышла на работу. Я не на шутку испугался… Оказалось, она сильно простыла, заболела. Прошло несколько дней. Я знал, что она живет одна, может быть, ей нужна помощь… Пс мог придумать, как помочь ей. Выручил снова загадочный Сергей Абрамов. Он решительно произнес:
– Пошли!
Опять, как тогда в ресторанном походе, мы беспрепятственно проплыли через вахту и вместе заявились к Анне домой Она обомлела от неожиданности – испугалась, что нас отправят в штрафной лагерь за побег из зоны. К счастью, и на этот раз все обошлось. Даже в лагерном мире случаются чудеса
21 УБРАТЬ С ПОВЕРХНОСТИ!
Сперва робко, а потом все настойчивее по лагерю поползли черные слухи: будто пришел приказ – всю 58 статью собрать в спецлагеря и загнать под землю – в шахты, рудники – с использованием только на общих работах; лишить права переписки и предоставить лагерному начальству полномочия продлевать подошедший к концу срок заключения. Год паскуднейших из худших – 1951-й!
Вскоре тревожные слухи подтвердились.
Вызвали на этап с вещами первую партию. В нее вошла 58-я с большими сроками (от двадцати лет с «намордниками» и довесками: ссылкой после отбытия срока, поселением, лишением прав). Спустя некоторое время последовала вторая партия. В нее отобрали тех, у кого сроки были от пятнадцати до двадцати. В эти дни все мы жили тяжким ожиданием вызова на этап. Во многих цехах работа остановилась. Производство лишилось ведущих инженеров, специалистов, руководителей групп и проектов. Фактически это был удар по мозговому центру комбината Началась обычная бестолковщина, сумятица, аварии.
Прошло еще несколько дней, и стали подбирать всех остальных, осужденных по 58 статье, с «детским» сроком – до десяти лет.
Так прекратил свое существование 6 й лагпункт – этот крохотный островок просвета среди обширного архипелага мрака. Островок, с еще не до конца подавленной способностью мыслить, как-то действовать, жить; где сохранялись остатки нормальных человеческих отношений
Меня упекли в лагерь, обслуживающий две угольные шахты. Одна – «внекатегорийная», иными словами, сверхопасная, с постоянными взрывами метана и угольной пыли; другая – «второй категории взрывоопасности».
Поскольку вольнонаемные горные мастера, начальники участков и смен теперь не должны были работать совместно с заключенными, возникла необходимость заменить их зэками. Лагерное руководство вынуждено было организовать курсы горных мастеров. В число курсантов угодил и я. Преподавателями были опытные инженеры, в основном бывшие заключенные. Занимались по восемь часов с перерывом на обед.
Тут мне очень не хватало моих проверенных друзей: нас всех рассовали по разным гулаговским дырам.
В этом лагере, как, впрочем, и в других, было много литовцев, латышей, эстонцев. Как правило, это были добросовестные трудяги, просто не способные делать что-либо плохо. Такой уж, видно, это народ – разумные, деловые. Среди них мне ни разу не довелось встретить вора или стукача.
Первым моим новым другом в этом лагере стал литовец Ионас Беляускас. Открытое спокойное лицо, наивный взгляд голубых глаз – в них он отражался весь, без утайки. Я уже знал: таким, как он, можно верить. Ионаса вместе с другими, с «актированными по инвалидности», должны были в следующую навигацию отправить на материк. У него была уже третья стадия туберкулеза легких. Ему трудно было ходить самому за баландой, и я обычно приносил котелок – на двоих – в барак. Так, из одного котелка мы и ели. Ионас часто останавливался, чтобы передохнуть, и я ждал, пока он снова соберется с силами, а то было бы не поровну. Помню, сколько признательности было в его глазах. Но не за то, что я накормил его или вместе с ним выдерживал паузу (он уже был равнодушен к еде), а за то, что ел вместе с ним из одного котелка и не боялся заразиться. А я как-то даже не придавал этому значения. Цена жизни была здесь слишком ничтожна. Ионас показал мне фотокарточку сестры и сказал, что если бы мы выжили и чудом оказались на свободе, я обязательно должен был бы приехать к ним в Литву.
– Моя сестра была бы тебе верной женой, – говорил он, и я верил ему.
Когда в Литву в 1940 году были введены советские войска, Ионас Беляускас заканчивал военное училище. Но стать офицером ему не пришлось. Начались массовые репрессии по всей Прибалтике. Забирали целыми семьями, не позволяли брать с собой ничего. В освободившиеся, со всем оставленным скарбом, со всем имуществом дома, стали поселяться новые хозяева… Не трудно себе представить масштаб этих репрессий в чужой стране, когда своя была перепахана ими.
К оккупированным прибалтийским народам вершился настоящий геноцид. Да разве только к прибалтийским? Глубокий след в памяти оставил разговор с польским юношей, происшедший в 1940 году на территории, до этого принадлежавшей Польше Километрах в тридцати от Львова, недалеко от шоссейной дороги мое отделение отрабатывало приемы быстрого приведения в боевую готовность четырехметрового оптического дальномера. На шоссе показалась длинная колонна. Я повернул дальномер в ту сторону-, прильнул к окулярам и увидел конвоируемых нашими солдатами людей в польской военной форме. Это были совсем молодые парии, в обтрепанной униформе, многие шли босиком. Вид у них был изможденный. Колонна уже поравнялась с нами, когда конвоиры объявили привал. Это оказались военнопленные, по почему-то очень уж юные, лет по семнадцати-восемнадцати. Один из них обратился к нам по-украински, попросил закурить. С разрешения конвоира мы отдали пленным весь имевшийся при нас запас махорки, выданный на неделю. Завязался разговор: «Мы курсанты военного училища… Попали на территорию, отошедшую к вам».
Их поместили в лагерь как военнопленных, использовали на работах в карьере. Об условиях, в которых они содержались, красноречиво свидетельствовал весь их облик.
Раздалась команда: «Подымайсь!». Некоторые не могли встать сами. Им помогали их товарищи под отборный мат конвоиров. Пленный, с которым мы беседовали, поблагодарил за махорку и, горько усмехнувшись, громко произнес: «Дзякую вам, братику, що вызволили нас!» («Спасибо вам, братья, что освободили нас!»). Эту фразу я вспоминал часто. Да и теперь вспоминаю.
Неоднократно мне приходилось слышать о массовых репрессиях со стороны НКВД по отношению к жителям Польши. Бессарабии, Западной Украины, там, где я побывал вместе со своей воинской частью. Мы ощущали постепенное ухудшение отношения к нам со стороны местного населения присоединенных территорий.
Позже, на этапах и в лагерях, о результатах и масштабах этих акций я мог судить по огромному количеству поляков, западных украинцев, молдаван, литовцев, латышей, эстонцев, встреченных мною в пересыльных тюрьмах и в лагерях в период с 1948 по 1954 год. Немало встретил я там немцев и евреев, чехов, корейцев и татар. Да кого только там не было… Разве что с островов Зеленого Мыса! И тем не менее я не знаю ни одного случая враждебности среди заключенных между прибалтийцами и русскими. Наоборот, эти взаимоотношения отличались сердечностью, взаимовыручкой. Даже языковый барьер никогда не являлся препятствием.
Большим даром и утешением для меня стала дружба с замечательным человеком, Василием Крамаренко, в лагере его считали чуть ли не подвижником. До заключения он преподавал философию высшему командному составу Советской Армии. На одной из лекций он открыто осудил сталинские репрессии. Это стоило ему двадцати пяти лет лагерей и пяти лет ссылки.
Василий Крамаренко работал в самой опасной угольной шахте. Ее внекатегорийность определялась повышенной загазованностью взрывоопасными метаном и угольной пылью. Как рассказывали, случайно или по какой-то неизвестной закономерности, каждый год, в один и тот же день, в шахте происходил страшный взрыв Ею сила была такова, что рельсы закручивались в спираль. Все, кто в это время находился под землей, погибали. В этой шахте работали только заключенные. Накануне дня. когда, по расчетам старожилов, должен был произойти взрыв, один из зэков рассказал Василию о своей беде: на этот день его назначили дежурить в шахте. А у него срок заключения заканчивался. Менее чем через месяц он должен был выйти на свободу. Там его ждали жена и двое детей. Зэк зашел попрощаться и передать для отправки прощальное письмо домой. Василий Крамаренко пошел в шахту вместо него. На этот раз взрыва не произошло. Вот не произошло и все тут… Зато его поступок запомнился на всю жизнь. И я верю – не мне одному… Настоящих людей никогда не бывает много. И концлагерь не место демонстрации благородных поступков.
Эта история не давала мне покоя, и я решил обязательно познакомиться с Василием Крамаренко. Мне его показали. С виду ничего особенного: рост чуть выше среднего, худощавый (здесь толстых не было), слегка сутуловатый – похож на школьного учителя. А лицо… уж не знаю, как его описать… Мы познакомились… Обыкновенное лицо спокойного, думающего человека. Запомнились глаза, серые, добрые. В тот миг, когда он начинал что-нибудь рассказывать, объяснять или спорить, – в его глазах начинал светиться живой и неистребимый ум. Вот каких людей держала страна и ее правители за решеткой и в истребительных лагерях.
Сначала я отнесся к Василию довольно сдержанно и даже с некоторым предубеждением, так как знал его приверженность к господствующей у нас идеологии. В ее порочности, к тому времени, я уже был уверен и как-то однажды сделал первый выпад:
– Я считаю, что сторонниками существующей у нас доктрины могут быть либо недалекие люди, либо те, кто притворяется, преследует корыстные цели или просто боится за собственную шкуру.
Удивительно, но в ответ он не обрушил на меня оборонительно-наступательный залп, как я ожидал, а спокойно, с улыбкой сказал:
– Здесь все значительно сложнее.
Я уже слышал от других, что он прекрасно разбирается в политических теориях, имеет серьезные познания в философии и истории. Было чему поучиться. А лагерь– это еще у академия: здесь все мало-мальски стоящие учатся. Настоящие лагерники– или сдохнут здесь, или возьмут реванш у жизни – не в смысле сведения счетов, а в реализации задуманного Там, тогда по крайней мере, я думал так
Появились первые признаки очередной норильской весны. Начало пригревать скупое на тепло солнце. Занятия на курсах горных мастеров все еще продолжались. Мы сидели на крыше барака – давно облюбовали это местечко. Здесь нам никто не мешал, и вероятность подслушивания была ничтожной. Трудно описать весь круг тем, затрагиваемых нами в беседах на крыше этого барака, тут не то что пятьдесят восьмая статья со всеми своими пунктами, а и дыба и топор с плахой могли соскучиться по нашим буйным головам.








