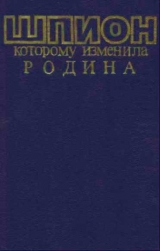
Текст книги "Шпион, которому изменила Родина"
Автор книги: Борис Витман
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 23 страниц)
Недалеко от меня, на нарах, в окружении «шестерок» возлежал на куче телогреек и одеял весьма именитый пахан по кличке Гундосый. Там, где у него должен был быть нос, зияли две дырки, направленные вверх и немного в сторону. Одно ухо было начисто срезано, другое надорвано, как у матерого кота. Слова он произносил с таким гудением, что не всегда удавалось разобрать их смысл. Более зверского лица я не встречал, хотя самых различных харь повидал немало. Со своего ложа Гундосый вставал только по естественной надобности. Завтрак, обед и ужин, неизвестно откуда добытые, ему приносили приближенные «шестерки». В перерывах между приемом пищи и карточной игрой Гундосый пел. По отдельным признакам и словам припева это скорее всего была старая солдатская строевая песня «Жура-журавель». Но слова самой песни представляли собой бесконечную импровизацию. Каждый новый куплет начинался одной фразой: «Если вы хотите знать…». Дальше следовала импровизация: «Прокурорша тоже б…» – и шла рифмованная похабщина: «У ней в ж… карбюратор, а в… аккумулятор. Жура-жура-журавель, журавушка молодой…». И снова: «Если вы хотите знать, у судьи есть тоже б…, у ней в ж… генератор…» и т. д. Перебрав всю юстицию, Гундосый принимался за лагерное начальство, не оставлял без внимания охрану, надзирателей, нарядчиков – словом, всю систему ГУЛАГа. Песня лилась без единой заминки в течение нескольких часов. При этом Гундосый обнаруживал незаурядную эрудицию в технике. В его арсенале помимо карбюраторов и генераторов были сепараторы, культиваторы и сотни других агрегатов. И что самое странное– слова песни он произносил вполне отчетливо.
В тюрьмах и на этапах мне довелось слышать разные песни, в большинстве своем заунывные, жалостливые. Эта не была похожа ни на одну: она отличалась мажорностью и неистребимым оптимизмом. И сам Гундосый все время пребывал в благодушном настроении, словно находился он в своем родовом княжестве, среди преданных сатрапов.
Я не мог постичь причину общего раболепия перед ним, пока случай не помог. С чего все это началось– не знаю. Очевидно, Гундосому кто-то не угодил или посягнул на его власть. Змеиным броском метнулся он в сторону. Мгновение, и его пальцы железной хваткой сжали горло жертвы. Несколько конвульсивных движений, и тело безжизненно обмякло. Некоторое время задушенный оставался лежать на спине с высунутым синим языком «вылезшими из орбит глазами. Потом Гундосый подал знак, и «шестерки» выкинули тело через люк на палубу, к ногам конвойных. Охрана даже не попыталась провести расследование, знали, что это бесполезно… Мерно покачивалась баржа, в трюме снова водворилось трагическое спокойствие, будто ничего не произошло, и Гундосый как ни в чем не бывало затянул очередной куплет: «Если вы хотите знать, у начлага тоже б…». В области «песенного творчества» он был неутомим.
Довольно часто, особенно в пересыльных тюрьмах, я уже встречался с подобными явлениями. Почти в каждой камере, наряду с осужденными по 58-й статье, имелась небольшая группка уголовников. Несмотря на их явное меньшинство, они терроризировали и подавляли всю остальную массу заключенных. Унижали, отбирали продукты и вещи, всячески издевались. В случае сопротивления жестоко избивали, захватывали лучшие места на верхних нарах. Чувствовали себя раскованно и свободно, как хозяева в своем доме. И я что-то не помню, чтобы попытки воспротивиться диктатуре блатных имели успех…
Гундосый не обладал заметной физической силой и не отличался сообразительностью. Вот в быстроте реакции и решительности ему равных не было. В камере находились люди высокого интеллекта. Многие из них были не робкого десятка, да и силой кое-кого Бог не обидел… Почему же они позволяли так издеваться над собой ничтожествам?
Гундосый со своими главными приближенными составляли как бы политбюро нашего трюма. Они обсуждали стратегию и тактику очередных реквизиций и расправ со штатом «шестерок» и остальной массой «фраеров»; они являли собой как бы модель, копию всего сталинского государственного устройства.
Вожди-гундосые могли и не обладать интеллектом, физической силой для подавления соратников или сокамерников (то бишь своих приближенных или своего народа). Однако у них были звериное чутье и инстинкты, компенсирующие недостаток извилин. Вдобавок к этим качествам они, видимо, обладали еще гипнотическим, оболванивающим воздействием на людские сообщества, основанным, как правило, на тотальном страхе.
Неограниченная власть такого пахана превращала всю страну в огромную тюремную камеру, с блатной (можно считать «партийной») элитой, с «шестерками», всегда готовыми на любые услуги, любые подлости Вот в чем суть феномена Гундосого-Сталина или Гундосого-Гитлера. Я бы назвал это явление «синдромом удава». И мне было больно и стыдно: «Неужели я не смогу ему ничего противопоставить? Не спасовал перед мощной организованной фашистской национал-социалистской силищей и пасую перед своей сов-социалистической – какой позор.»
В империи ГУЛАГа у меня постепенно складывалось и сложилось впечатление, что именно лагерная структура являет собой основу, суть нашего общества, а все, что вне колючей проволоки, – это придаток. Система воспитания в нас, с детского сада, набора идеологической ненависти «к врагам всех мастей» постоянно давала свои плоды. В лагерях эта система приобрела завершенные формы уродливого монстра, ошметки и ядовитые вирусы которого мы тащим на себе и в себе по сей день. И еще удивляемся постоянно: «Откуда все это у нас?».
Система заставляла задуматься над ее истоками. В самом деле – откуда? Что за чума такая смогла поселиться в удивительном и разновеликом народе?.. Поселилась и разрастается!.. Как уберечься от этой чумы и не сгинуть?.. Только за вопрос, не говоря уже о любом ответе, можно было схлопотать девять граммов свинца в затылок. А вопросы роились и требовали ответов.
Шла вторая половина мая, весна должна была быть в полном разгаре, но почему-то воздух, проникающий через люк, становился все холоднее и даже морознее. А синь неба в квадрате люка – все прозрачнее, словно ее, как акварель, понемногу разбавляли Караван входил в Заполярье.
Нашу баржу пришвартовали к причалу морского порта Дудинка.
В гр ом опустили трап, началась выгрузка. Нас мотало из стороны в сторону, кружилась голова Многие падали, хлебнув свежего воздуха. От долгого лежания мы едва не разучились ходить. Дудинка встречала нас пронизывающим ледяным ветром. На берегу громоздились глыбы льда, оставленные ледоходом.
Нас загнали в барак с выбитыми окнами, а потом небольшими партиями отправляли в баню. Я прилег на нары, положил пед голову котомку.
Подошел парень в драном бушлате. Стал расспрашивать, откуда, что и как… Когда он ушел, я обнаружил, что из котомки исчез костюм. Пришлось рассказать о пропаже одному из знакомых блатных. Он тут же узнал, что это дело рук местных «шестерок», что вор со следующей партией пойдет в баню, и что я должен пойти с той же партией. Больше он ничего не сказал. По дороге в баню и в раздевалке я присматривался к окружающим, но ничего подозрительного обнаружить не мог. И только когда уже одевался, недалеко от меня про изошел какой-то спор. Я услышал слова: «Где ты взял этот костюм?» Вора тут же избили и вернули мне пропажу.
После бани нас снова поместили в тот же барак Прошел слух, что будут отправлять еще дальше, в Норильск. Желания отправиться еще дальше «куда Макар телят не гонял», у меня не было… А что если попытаться остаться здесь?. Разыскал лагерного художника. Мы быстро нашли общий язык. Он подтвердил, что в этом лагере, обслуживающем порт, заключенным живется лучше, чем в других лагерях. Многие работают на разгрузке судов и от голода не пухнут.
Я попросил его помочь мне. Он сказал, что для этого нужна «лапа» – взятка начальству. Вот тут-то я и догадался, зачем мне мама всучила этот пижонский костюм. Мы вместе спороли все маскирующие заплатки. Костюм «начальнику» пришелся впору, и дело сладилось. Я был оставлен в Дудинке. Сразу же отправил письмо домой, а примерно через месяц получил ответ. Вот только тогда я и узнал, что Лида приезжала к нам в Москву. Маме она очень понравилась. Лида ей сказа да, что будет ждать моего возвращения. Еще через месяц пришла посылка из дома и письмо от Лиды. В нем она сообщала, что решила приехать в Дудинку, чтобы быть поближе ко мне, и упрекала, что я сразу не написал ей…
Что я мог ей ответить? Приезжай, мол, буду очень рад!.. Но для чего?.. Для еще больших унижений на глазах у молодой женщины?. Нет уж – это слишком. У меня впереди было десять лет лагерей. Я за колючей проволокой. Вместе мы все равно быть не сможем. К чему калечить еще одну жизнь? Пока нас ничего не связывает, она свободный человек, у нее еще есть что-то впереди. Есть какой-то шанс… Но все мои резоны не убедили Лиду. В каждом письме она настаивала на приезде ко мне. В конце концов пришлось написать, что, у меня якобы есть другая женщина – пошлый, но безотказно действенный способ – наш! И я перестал отвечать на ее письма. Как ни тяжело было это сделать, но иначе убедить ее я не мог Уродливое решение в уродливых обстоятельствах.
Дудинский припортовый лагерь, среди лагерей ГУЛАГа, был не худшим. От разгрузки речных и океанских судов зэкам что-нибудь да перепадало, а потому не было такой острой уничтожительной зависимости от лагерной пайки хлеба и миски баланды
Нас собрали в помещении клуба, и начальник по режиму долго говорил об обязанностях каждого зэка. О правах – ни слова!.. И зачем?.. А сразу после обязанностей начальник перешел к призывам – добросовестно и самоотверженно… на благо нашего социалистического… И наконец показали какой-то очень старый фильм.
Бригада, в которую я попал, работала на погрузке сплавного леса – «баланов». Этот лес, заготовленный заключенными в сибирской тайге, по многочисленным протокам попадал в Енисей. Дальше он плыл по реке на север, в Игарку и Дудинку, в виде огромных плотов. В порту плоты разбирали и баграми вытаскивали бревна на довольно крутой берег Работа требовала немалой физической силы, ловкости и сноровки. Толстые, в обхват, бревна, тяжелые от воды, часто срывались и устремлялись вниз. Не успеешь отскочить – в лучшем случае, покалечит. Эта работа считалась самой тяжелой и опасной Ни урвать, ни поживиться здесь было нечем, а потому всегда были свободные вакансии. Работу в лагере не выбирают. На нее назначают, не спрашивая вашего согласия и не принимая во внимание ваши возможности. Истощенному лефортовскими допросами и этапами, мне такая работа оказалась не под силу. А тут еще началась цинга. На теле появились темно-лиловые пятнышки, начали опухать ноги и руки, замедлилась реакция.
И опять своеобразное везение. Бревно, перекатившееся через меня, оказалось не таким уж толстым… Всего месяц провалялся в санчасти. Отдышался, пришел в себя. За это время познакомился с инженерами-зэками, работающими в конструкторском бюро порта. Туда как раз требовался человек, и меня взяли как специалиста по конструкторско-чертежной работе. Везде блат и знакомства – в лагере тоже.
КБ находилось в общей охраняемой зоне, примыкающей к лагерю, и на работу мы ходили без конвоя. Работали там вольнонаемным и зэки. Я быстро освоился с относительно новой для меня профессией и флотской терминологией. Значительная часть технической документации была на английском и на немецком языках. Вольнонаемное начальство часто обращалось ко мне за консультацией.
Работа увлекла меня, как говорится, затянула с головой. Порой даже забывал, что нахожусь в заключении. Я побывал почти на всех кораблях, приписанных к Дудинскому порту. Знал многих капитанов и механиков. Каждый раз, вступая на палубу корабля, испытывал подобие пьянящего чувства свободы. Как свежее дуновение ветра. Наверное, потому что акватория порта была вне лагерной зоны и водный простор, в отличие от земли, пока еще не был опутан колючей проволокой.
Время от времени в порт прибывало пополнение – караваны барж с заключенными. Одна из барж каравана села на мель. Где-то далеко вверх по реке. Караван пошел дальше, а баржу оставили до прихода помощи. Но и помощи не было. В радиорубку порта начали поступать тревожные радиограммы. Поначалу на них не больно-то обратили внимание – подумаешь, села на мель, не тонет же. Дальше – больше, в порт начали поступать сигналы бедствия: «Ускорьте присылку мощного буксира зпт формуляры начинают портиться тчк», – формулярами в радиограмме обозначались заключенные– несколько сот… Когда примерно через месяц злополучную баржу, наконец, приволокли в порт, «формуляры» из трюмов вытаскивали на носилках, у большинства из них лица были прикрыты шапками. После этого «недоразумения» размеры дудинского кладбища за один-два дня чуть ли не удвоились…
С окончанием летней навигации мой вольнонаемный шеф – начальник КБ, уехал до весны в Игарку, а меня назначили на его место.
Приближалась зима, дни стали совсем короткими, вскоре наступила полярная ночь. В соседнем с нашим КБ работала чертежницей симпатичная девушка Лена. Худенькая с короткой стрижкой и непокорной каштановой челкой. Она недавно приехала в Заполярье по комсомольской путевке. Как только я ее увидел, она мне сразу очень понравилась, но я и виду не показывал.
Часто она заходила к нам. То угостит чем-нибудь, то просто поболтает… Стали подшучивать, что зачастила она к нам, наверное, из-за меня. А шутки эти были опасными За связь с зэком для нее. исключение из комсомола и высылка на Большую землю – так здесь именовалась остальная, не заполярная территория страны. Меня за связь с вольнонаемной женщиной отправили бы в штрафной лагпункт. Все это я знал и упорно сохранял между нами деловую дистанцию.
Иногда мне приходилось задерживаться на работе. Случайно или преднамеренно Лена задерживалась тоже. Однажды, когда мы оба задержались, началась «черная пурга» – ураганный ветер и сплошная снежная карусель. Были случаи, когда такая пурга сметала с дороги колонну заключенных вместе с конвоем. Находили их уже мертвыми. Правда, в последние годы «черные пурги» стали помягче, но все равно в одиночку передвигаться было опасно, а порой и не под силу. Ветер сбивал с ног, стаскивал с дороги. Идти было рискованно, но и остаться вдвоем, возможно, на всю ночь – не менее опасно. Мы хорошо это понимали, а потому решили идти.
Едва мы ступили за порог, на нас обрушился неистовый снежный смерч. Ничего не было видно, кроме сплошной снежной пелены, настолько плотной, что нельзя было разглядеть даже ладонь вытянутой руки (отсюда и название – «черная пурга»). Идти против ветра вообще было невозможно. Тогда мы стали лицом друг к другу, прижались щекой к щеке, обхватив друг друга, как борцы, начинающие схватку. Только так можно было, пусть медленно, но продвигаться. Один шел спиной вперед, другой направлял его и подталкивал, помогал преодолевать напор ветра.
Но вот сильнейшим порывом нас сбило с ног и потащило с дороги вниз под откос. Я не сумел удержать Лену и тут же потерял ее из виду. А меня все волокло, пока на пути не возникло препятствие. В него я и уперся. Это оказался перевернутый ковш для транспортировки расплавленных шлаков. По размеру и форме он отдаленно напоминал кремлевский Царь-колокол. Сходство усиливалось еще и тем, что край у ковша, так же, как и у колокола, был отбит.
Совсем рядом я услышал голос Лены: «Слава Богу!» Если бы не это препятствие, неизвестно, чем бы все это кончилось. Ураган усиливался. Мы разгребли снег и через пролом вползли под ковш. Отверстие вскоре занесло снегом. Снаружи неистовствовала пурга, а здесь было почти тихо. Только ковш глухо гудел под бешеным напором ветра.
Было даже тепло – или, может быть, это нам показалось. Я сбросил варежки, Лена расстегнула шубку. Радуясь, что уцелели, да и не только поэтому, мы крепко прижались друг к другу… До сих пор, встречаясь ежедневно в КБ, мы старались держаться на расстоянии. Между нами как бы была протянута колючая проволока, обозначение зоны, и мы ни за что не решились бы перешагнуть через нее. А здесь, в этом тесном, замкнутом пространстве, в кромешной тьме, преграды, разделяющие нас, вдруг исчезли. Мы оба чувствовали себя свободными, и едиными, и нежданно счастливыми… Разъяренная стихия, едва не погубившая нас, неожиданно стала нашей союзницей. Промерзшая земля, на которую мы опустились, оказалась жаркой постелью…
Не знаю, сколько прошло времени, пока мы снова вернулись к ощущению времени и места, где мы находимся. Я чувствовал себя безмерно виноватым, ведь для Лены это все, что должно быть таким значимым и таинственным, совершилось впервые и под покровом не только ковша-колокола, но и адовой пурги.
Она провела ладонью по – моему лицу и, как будто прочтя мои мысли, сказала:
– Не упрекай себя, не упрекай меня… Я ни о чем не жалею…
Потом пришлось долго разгребать снег. Наконец мне удалось выглянуть наружу. Пурга почти стихла. Было все еще темно, ведь зимой в Заполярье не бывает рассветов. Нам очень не хотелось покидать это убежище. Оно сначала защитило нас от пурги, а потом стало нашим любовным логовом.
– Нет. Только молодость и комсомольский азарт могут победить черную пургу, заполярную ночь и другие невзгоды. Да здравствует любовь! Господи, спасибо, что мы здесь не окачурились!
Лену мой монолог развеселил:
– Вот бы захватить этот колокол с собой и установить в тихом месте. Мы бы всегда с тобой сюда приходили… А потом бы установили его в саду нашего будущего жилища, – осторожно добавила она.
– Да мы бы оттуда и не вылезали… – сказал я восторженно, и это ей понравилось.
Так мы подошли к краю зоны. Дальше для меня путь был закрыт. Лена пошла домой одна. Я вернулся в лагерь.
В КБ трудно было скрыть наши отношения. Да и опыта не было. Я и не подозревал, что это вызовет зависть У одного из инженеров, тоже заключенного.
Как-то он завел разговор о побегах. Рассказал, что этим летом отсюда пытались бежать двое заключенных, их вскоре нашли в тундре мертвыми, начисто изъеденными «мошкой», – и у обоих были отрезаны уши. Он сказал, что не знает ни одного случая, чтобы побеги удавались. Беглецы погибали от голода и мошки или становились добычей местных охотников. За беглого зэка давали хорошее вознаграждение: ружье, порох, продукты. В тех краях охоту за людьми сделали выгоднее охоты на зверя. Отрезанное ухо являлось доказательством уничтожения беглого зэка. Был случай, когда ухо оказалось не зэковским, а… вохровским. Что поделаешь – во всяком деле бывают издержки.
Итак, мой собеседник считал побег отсюда невозможным. При слове «невозможно» я вскинулся и тут же с ним не согласился. Для примера высказал такую идею: «Вот эту ржавеющую здесь на берегу стальную трубу приличного диаметра можно превратить в небольшую подводную лодку для одного-двух человек. – Я то ли забавлялся, то ли дразнил его, не знаю. – Заварить торцы, сделать люк с крышкой, рассчитать вес балласта для неглубокого погружения, установить внутри велосипедную передачу вместо двигателя, соединить ее с винтом от моторной лодки, соорудить перископ из полуторадюймовой трубки с зеркальцами на концах. Погружайся и плыви: хочешь в сторону океана, хочешь вверх по Енисею. Кому придет в голову искать тебя в воде?..» Все это я излагал собеседнику не потому, что действительно собирался совершить побег, а просто для того, чтобы снова опровергнуть ненавистное мне слово «невозможно». Побегами я был сыт по горло.
Но, видно, урок, полученный в Лефортовской тюрьме за разговор на ту же тему, ничему меня не научил. Как и тогда, собеседник оказался стукачом, а я опять простофилей и болваном.
Не прошло и недели после разговора о «подводной лодке», в КБ явился вооруженный конвой во главе с лейтенантом. Перерыли мой стол. Видно, искали секретные чертежи «подводной лодки».
Руководство порта пыталось меня отстоять, но безуспешно. В тот же день я был отправлен в штрафной лагпункт и прямо с дороги помещен в холодный карцер на неделю. Правда, слово «холодный» не совсем точно определяло суть обстоятельств. Если в лефортовском холодном карцере была все же плюсовая температура, то здесь, в этом каменном сарае без отопления, температура была почти такой же, как и снаружи, только без ветра. А морозы стояли до минус пятидесяти по Цель сию. В карцере нас оказалось трое Началась борьба за место в середине, а точнее, за то, чтобы выжить. Вступил в силу один из основных законов ГУЛАГа – «Лучше ты умри сегодня, а я – завтра». Какая уж тут солидарность? Мы жались друг к другу, потому что в этом было спасенье В бесконечные часы «околевания» от нестерпимой стужи мне почему-то вспомнился карцер в фашистской фельджандармерии в Сумах, от куда удалось бежать (это был мой второй побег). В том карцере было тепло, светло и сухо. Нет, то был не карцер – то был люкс в «Интуристе»!. И вновь – уже в который раз – я подумал: ведь там были «чужие», враги, а здесь – свои, паши.
Питание – кусок хлеба в сутки и вода. Здесь она была из растопленного снега.
На седьмой день прямо из карцера меня погнали на работу. Шесть километров по тундре туда, шесть обратно. Работа – долбить мерзлый грунт – котлованы под фундамент каких-то сооружений.
Вокруг голая тундра, снег, пурга. Зэки замыкающей шеренги несли колья с фанерными табличками «Запретная зона». По прибытии на место работы конвоиры расставляли колышки с табличками вокруг нас и предупреждали «Шаг за запретную зону считаю побегом. Стреляю без предупреждения!».
Я был свидетелем, как один из зэков не выдержал. Сказал: «Часовой, я пошел!». Едва он зашел за колышек, раздался выстрел. С простреленной головой заключенный уткнулся в снег лицом.
Был и другой случай. Конвоиру «не понравился» один из заключенных, назвавший его «вертухаем». Конвоир вскинул винтовку и выстрелил почти в упор, а потом переставил табличку.
В конце дня замеряли глубину каждого котлована. Тог, кто не выполнил норму, поучал в лагере урезанную пайку хлеба. Мерзлый грунт был настолько тверд, что норму мало кому удавалось выполнить. Работали по восемь-девять часов без обеда. Отдыхали тут же в котловане. Перерывы были короткими Конвоиры не давали долго высиживаться, все время подгоняли, натравливая овчарок. Здесь мало кто выдерживал больше двух месяцев. Носить можно было только лагерную одежду: бушлат, ватные брюки. Все другое отбиралось, взамен выдавали б/у – бывшее в употреблении. У меня отобрали пальто, в котором я ходил на работу в КБ, брюки и шапку. В ватных штанах ваты почти не осталось, что особенно давало себя знать, когда приходилось сидеть на снегу. К тому же были они непомерно велики, особенно в поясе. Бушлат, наоборот, был мал, и рукава едва доходили до запястья.
В лагере за мной установили особый контроль. Надзиратели получили указание отбирать у меня карандаш и бумагу. Не раз проводили ночной обыск, переворачивали всю постель, вытряхивали стружки из матраца Видно, сильно напугала их моя дурацкая «подводная лодка». Возможно, теперь они искали проект воздушного шара или еще что-нибудь в этом роде…
Да, было над чем посмеяться, если б все это не было до ужаса абсурдно. Подумалось уже о том, что десятилетний срок, отпущенный мне для жизни в заключении, непомерно велик… Жизнь здесь измерялась не годами, а месяцами, даже днями…
В лагере была еще одна бригада. Входившие в нее также долбили мерзлую землю, только совсем недалеко от лагеря, и котлованы здесь были помельче В них сбрасывали тех, для кого отпущенный срок оказывался непосильным. Они отправлялись в лучший мир, не обремененные ни одеждами, ни гробами, – в чем мать родила. Стесняться было некого. Правда, иногда, опасаясь комиссии, умерших паковали в деревянные ящики из неструганных досок. «Деревянные бушлаты» – так назвали эти лагерные гробы. Только здесь деревянные гробы были слишком большой роскошью– древесина-то привозная.
Вот тут я всерьез почувствовал всю безнадежность своего положения, В тундре не пройти и десятка километров– подстрелят местные охотники. До ближайшего поселения далеко, да и приюта в нем все равно не будет. Оставалось решить, что лучше: покорно дождаться обычного для зэка конца или сказать конвоиру три слова; «Конвой, я пошел!».
..Был еще один, правда, почти безнадежный вариант; лагерная санчасть. Врач, хотя и был заключенным, имел соответствующую установку и слишком дорожил своим местом. Освобождение от работы давал только тогда, когда человек уже не мог самостоятельно идти в санчасть. Все же я решил заглянуть к нему На вопрос. «С чем пришел?», ответил: «Ни с чем»…
Наверное, это был самый нелепый ответ. К врачу приходили с просьбой освободить от работы в котловане, намекая на вознаграждение. Часто, напротив, угрожали, обещали прирезать. Ко всему этому он привык… Не знаю, почему он не выгнал меня сразу. Расспросил, за что попал сюда, в штрафной лагпункт; рассмеялся, когда я рассказал о моей подводной лодке. Поинтересовался, за что получил десять лет. Беседа затянулась. Потом он потребовал, чтобы я разделся до пояса, прижал ухо к груди. Слушал долго. Потом заставлял глубоко дышать, потом не дышать. Что-то записал в журнале и сказал:
– С завтрашнего дня на работу не выходи; скажешь: освобожден санчастью…
Я ожидал чего угодно, но только не этого, и так растерялся, что не мог произнести ни слова. Доктор не стал дожидаться, пока я очухаюсь, взял меня за плечи и легонько вытолкнул из санчасти. До сих пор не понимаю, не знаю, почему он так поступил?..
Утром, когда объявили «развод» на работу, я остался в бараке. Сначала прибежал бригадир, за ним – нарядчик. Проверили по списку освобожденных. Ушли. Несколько раз заходил надзиратель. Я лежал одетым на нарах, хотел отоспаться, но заснуть не мог, невольно прислушиваясь к биению сердца: а вдруг остановится? Не зря же доктор дал мне освобождение? До самого отбоя я ожидал, что за мной придут, отменят освобождение, снова посадят в карцер. Ночью просыпался от каждого шороха. Под утро пришли два надзирателя, заставили подняться, все перерыли, ничего не нашли, ушли. Утром дневальный принес завтрак – жидкую похлебку из плохо очищенного овса и половину пайки хлеба, как неработающему. Когда в бараке мы остались вдвоем с дневальным, я попросил у него лист бумаги и карандаш. Не прошло и часа, как портрет дневального был готов. В обед он принес мне двойную порцию баланды. Потом пришел повар. Он тоже захотел иметь свое художественное изображение! Оставил маленькую фотокарточку, лист плотной бумаги и несколько цветных карандашей. Только я собрался приступить к работе, в барак явились три надзирателя и все отобрали. Предупредили еще раз, что мне запрещено иметь бумагу и карандаши.
Ночью снова учинили «шмон», а днем пришли опять ч выпотрошили матрац. Узнав о конфискации, повар не на шутку рассердился:
– Ну, хрен они у меня теперь откормятся. Посмотрим, как посидят на казеином пайке.
Я удивился такому смелому поведению, но на следующий день надзиратель сам принес все отобранное.
Портрет повару понравился. Опасность сгинуть на голодном нерабочем пайке была на какое-то время отодвинута. Само собой – в иерархии лагерных придурков повара занимают не самое последнее место. Поговаривали, что наш повар пользуется покровительством начальника спецчасти, который ведал переброской заключенных в другие лагеря. Отправляли отсюда тех, кто стал доходягой или полным инвалидом и уже не мог работать. Заключение о непригодности давала санчасть, но окончательное решение было за начальником спецчасти. Значит, моя судьба теперь зависела от повара Я попросил его замолвить за меня словечко, и за это пообещал намалевать большую картину красками. Он, представьте себе, согласился, но при этом поставил жесткие условия:
– Чтоб на картине была изображена вот такая баба!.. И с вот такими!!. – Свое скромное пожелание он сопровождал выразительной жестикуляцией и, к счастью, не указал цвет глаз и общую масть женщины. О лице и говорить было нечего – годилось любое.
У меня на примете была одна картинка, очевидно, вырванная из книги Шекспира. Я видел ее у бригадира в нашем бараке. На картинке была изображена Офелия в легком прозрачном одеянии, с распущенными волосами Я выпросил у него картинку. Повар неизвестно откуда достал масляные краски, кисти и все необходимое для работы. Я решил одновременно писать две одинаковые картины: одну для повара, другую для моего спасителя – доктора; хотелось хоть как-то отблагодарить его. Сколотил подрамники, натянул и загрунтовал холст. Кусочком уголька набросал контуры фигуры. На фанерку, вместо палитры, выдавил из тюбиков краски. Только начал подбирать нужный колорит, явились надзиратели и все забрали. Заявили:
– Не положено!
– Но мне не разрешили пользоваться бумагой и карандашом, а их, как видите, здесь нет.
– Bee равно не положено, разговаривай с начальником по надзору.
Разговор был пустой и нудный, но закончился он неожиданно:
– Вот ты для повара картинки малюешь, хочешь сытым быть, а с нами дружбу иметь не желаешь. А зря!
– Мы все здесь враги народа, преступники, а вы друзья народа! Ну какая между нами может быть дружба? – придуривался я. – Что же касается сытости, это вы правильно заметили. А кто не хочет?.
– Вот то-то, давай-ка лучше по-хорошему. Ты должен нарисовать и нам большую, настоящую картину.
– Для большой много красок надо, этих не хватит, да и не мои они.
– Не бойся, краски будут! – успокоил начальник.
– Здесь не только краски нужны.
– Это не твоя забота, напишешь на бумажке, что нужно.
– Ни мне запрещено писать на бумаге.
– Вот тебе карандаш и бумага, пиши здесь
– Нет, так я не могу, мне надо знать, что я буду рисовать: какой сюжет картины, ее характер, размеры.
Гражданин начальник погрузился в глубокое раздумье… Там он находился довольно долго, потом словно вынырнул и сказал:
– Изобрази товарища Сталина. Верхом на белом коне… На Красной площади!
– Но ведь Сталин никогда не выезжал на Красную площадь верхом на коне Да и ездит ли он верхом?
– Ездит не ездит!.. – передразнил меня надзиратель и круто выругался – Генералиссимус Сталин – великий полководец, что ж он, по-твоему, на коне не умеет? – Разговор принимал опасный поворот. – Захочет – так сумеет!
Тут я не стал ему возражать, тем более что за сомнение в верховых и скаковых способностях великого полководца можно было запросто схлопотать от десяти су ток карцера до второго срока в десять лет. Но рисовать этого товарища, да еще на белом коне?! Нет, я просто не мог себе такое позволить… Это вам не портрет повара и не голая баба с сиськами – это сам-сусам, за которого что хочешь, то и оторвут…








