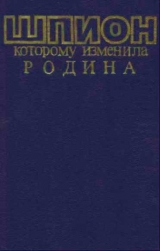
Текст книги "Шпион, которому изменила Родина"
Автор книги: Борис Витман
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 23 страниц)
Борис Витман
Шпион, которому изменила Родина
Теодор Вульфович
Литературная запись и размышления об авторе
РАЗМЫШЛЕНИЕ ОБ АВТОРЕ И ЕГО КНИГЕ
В один из жарких летних дней 1986 года в редакции журнала «Новый мир» ко мне обратились с вопросом: «А не могли бы вы прочесть и, может быть, отрецензировать одну странную рукопись?.. О войне и о разведчике?..»
Я начал читать и с первых страниц утонул в рукописи. Кое-что раздражало в записи, кое-что не устраивало и вызывало протест. Уж вовсе не литературный стиль и не страсти смертельных ситуаций поразили меня, опалила правдивость каждой строки, написанной человеком, пропахавшим все ступени этой адской лестницы. Только в утаивании полных нелепостей в поступках чинов нашей стороны я почувствовал провалы и недосказанности. Автор, скорее всего, стеснялся представить «своих» в слишком неприглядном свете.
Не принадлежу я к числу тех любителей авантюрного жанра, которые идеализируют рыцарей военной разведки и супергероев органов безопасности. Итак слишком много чести отдано им на страницах книг, журналов, на теле– и киноэкранах: с их собачьим инстинктом погони; с пистолетами замысловатых образцов, снятых с предохранителей; со смертельными опасностями преследуемых и преследователей; железными допросами, страшнее, чем команда пехотного взводного – «Приготовиться к атаке!»; с роскошными ресторанами, вместо котелка на двоих в мокром, скользком окопе; бутылка коньяка или, на худой конец, шампанского – вместо сорока граммов спирта в сутки (ведь десять граммов все равно сворует старшина); с хрустящей и стонущей постелью вместо ночлега на снегу, при двадцатишестиградусном морозе с ветерком; с отборными, нервическими, оттопыренными бабами, вместо распухшей от бессонницы и надорвавшейся от переноски тяжеленных раненных мужиков санитарки Машеньки…
Да что там говорить – смех и слезы. Не станем рядиться – «кому на войне было жить хорошо?» или «кому вольготно-весело в смертельном бою?!»
И все оке…
Не трудно догадаться, как обидно читать такую книгу сотням тысяч и миллионам, прошедшим не только все огни и воды плена, унижения, но и изуверскую хватку ГУЛАГа.
В английском боевом уставе сказано: если вам. грозит неминуемая гибель, то вы обязаны сдаться в плен, дабы сохранить свою жизнь для Великобритании– время пребывания в плену засчитывается в стаж воинской службы, выплачивается компенсация и остается только один долг – бежать из плена при первой возможности. И снова сдаться в плен, если тебя настигают… У гитлеровцев были задействованы несколько дивизий, которые только и делали, что гонялись за английскими и американскими военнопленными. Мы от своих отказались, обозвав их изменниками. И гонялись за своими.
Ну что ж, те кто уцелел, и не осатанел, и не завистник, и с совестью в порядке, – считайте, что все это и о вас, и о вашей судьбе. Не будем кичиться славою, тем более что от нее мало что осталось.
Не во всем можно согласиться с автором, особенно в его самостоятельных рассуждениях исторического плана. Но он всегда убежден, готов доказывать, слушать возражения и всегда опирается на свой собственный глубокий опыт. А мы странный народ – если очевидец известный деятель, генерал или маршал, ну, наконец, военно-исторический академик, это для нас, пожалуй, авторитетное мнение, а если рядовой, сержант или лейтенант, то это «куцый взгляд из окопа», а то и «кочка зрения» – словно глаза у них разной биоконструкции, мозговое вещество не адекватное, не говоря уже о сообразительности, интуиции, умственных способностях.
В главном вопросе – о причинах начала войны и импульсах, ее взорвавших, – будет много споров. Но не следует забывать, что только вся разность мнений приближает нас к истине, а не единообразие.
В редакции журнала «Новый мир» опытный и глубокоуважаемый человек возражал мне:
– Но ведь это невиданное, неправдоподобное везение!.. Так не бывает! По крайней мере не должно быть в художественной прозе…
Я оборонялся как мог:
– Да, невиданное. Неправдоподобное!.. А вы бы хотели, чтобы ему хоть один раз не повезло? Вы бы хотели, чтобы его хоть один раз убили?.. Вам этого хочется?
– Ну что вы! Бог с вами! – почти взмолился собеседник.
– Все, кому хоть один раз не повезло в схожей ситуации, мертвы и не могут рассказать ничего! – пришлось произнести мне.
По я очень хотел, чтобы эта рукопись, после всех мытарств и сложностей, все-таки увидела свет. Или свет увидел бы эту книгу.
В рукописи нет подвигов, действительных и мнимых убийств, автор не приписывает себе и не описывает так называемых геройств. Он только непрестанно действует и всегда против врага – целеустремленно и с расчетом на конечный результат. С одной стороны, он прирожденный и талантливый разведчик (хоть и не кончал никаких спецшкол и разведчиком себя не считал), а с другой – уникум, он, воюющий человек, который за всю свою жизнь не шарахнул никого по башке, не перерезал никому глотку, за всю войну и после нее не убил ни одного человека. Какая проза!.. (Ну, разумеется, если не считать артиллерийского огня их батарей!) И это не заслуга, а судьба.
Живи так, как будто это твой последний день.
Дыши так, как будто это твой последний вздох.
Люби так, как будто это твоя самая последняя любовь и ее последнее проявление.
Часть первая
ВЫХОДИТ – Я САМ СЕБЯ НАЗНАЧИЛ…
1. ЛИХА БЕДА…
Меня привезли в разведгруппу фронта. Все это выглядело довольно таинственно. В конце зимы 1942 года началась и уже шла полным ходом подготовка крупного наступления с Изюм-Барвенковского выступа. (По оперативным документам наступление именовалось: «Операция но полному и окончательному освобождению советской Украины от немецко-фашистских захватчиков».) Отозвали меня с передовой, как выяснилось, для специальной подготовки при штабе 6-й армии. А таинственность была потому, что нас сразу начали готовить к забросу в тыл противника.
Почему выбор пал на меня? Очевидно, благодаря довольно приличному знанию немецкого языка и нескольким рейдам в тыл противника, в которых мне приходилось участвовать.
Дело в том, что в августе 1941 года, после первого ранения, из госпиталя я попал в гаубично-артиллерийский полк. Он входил в состав Юго-Западного фронта. Зачислен был в саперный взвод. Вскоре убили командира взвода, и меня назначили на его место. При этом я оставался рядовым. Такое в ту пору иногда случалось: людей назначали на место погибших, а приказ о присвоении звания приходил довольно долгое время спустя.
В конце зимы прибыл новый командир взвода – лейтенант, а меня сразу перевели в полковую разведку. В это время и началась подготовка к нашему наступлению. В ходе операции планировалось освободить всю Украину. Были задействованы силы Юго-Западного фронта и частично двух соседних фронтов.
Острая нужда быстро подготовить фронтовую разведку к предстоящей операции, видно, заставила командование зачислить меня, человека с такой странной фамилией, к тому же не члена партии в спецгруппу.
И все-таки главным, наверное, было мое знание немецкого языка. А что касается фамилии, то она мне досталась от предков отца, выходцев с Запада, а из какой страны, точно не знаю. Возможно, из Прибалтики или Скандинавии. Со стороны матери я славянин (русский, белорус, поляк). Предок отца был приглашен Петром Первым в Россию для налаживания мукомольного производства Принял православную веру, дважды женился и имел детей. Моя национальность – дело сложное: даже в ведомстве рейхсфюрера Розенберга сильно поломали бы голову. Я мог бы считать себя и прибалтом, и шведом, и евреем, и немцем и даже англичанином. Именно поэтому я не могу причислить себя ни к одной национальности. А вот к православной христианской вере меня приобщила моя мать, Елизавета Лобандиевская.
Готовили нас в условиях глухой и, я бы сказал, тупой секретности. Засекреченными были задачи, которые нам предстояло выполнять, секретными были, казалось, и методы их осуществления Обо всем этом мы должны были только догадываться. Подготовка велась по ускоренной программе, в основном индивидуально или в группе по два – три человека Особое внимание уделялось немецкому языку, с упором на военную терминологию. и правильность произношения. Изучали структуру войсковых частей и подразделений вермахта, виды вооружений и связи. Знакомили с основными уставными положениями противника, принципами работы его контрразведки, разведслужб и агентуры, «примеривали» легенды. На совместных занятиях отрабатывали приемы десантирования, самозащиты и нападения, как бесшумно снять часового. Дни были расписаны по минутам. Свободного времени практически не оставалось. По слухам среди курсантов, нашу группу собирались забросить в тыл к противнику, в район города Сумы, где вроде бы находилась наша конспиративная база.
Мы догадывались, что подготовка была рассчитана на довольно длительное время, но в начале мая, за несколько дней до наступления, нас неожиданно отправили по своим частям с предписанием через десять дней вернуться для продолжения занятий.
В своем полку я был оставлен на это время кем-то вроде связного и переводчика при штабе.
И вот – долгожданное наступление. Оно началось после мощнейшей артподготовки. Казалось, был выпущен по врагу месячный запас боеприпасов. Но, как вскоре выяснилось, мы молотили загодя оставленные позиции гитлеровцев. Поначалу наши части двинулись вперед, почти не встречая сопротивления. Только вражеская авиация беспрерывно наносила весьма ощутимые удары по наступающим.
Передовые подразделения 6-й армии все же подошли к окраине Харькова, и тут, в районе мясокомбината, наткнулись на хорошо подготовленную оборону. Гитлеровцы давно уже разгадали стратегический замысел маршала Тимошенко и произвели не только перегруппировку своих войск, но успели устроить нам и надежные ловушки, и крепкие капканы. Они превратили подвалы зданий в неприступные доты. Одна за другой захлебывались все наши атаки – потери личного состава стали сразу очень большими, да еще разведка обнаружила на этом участке фронта две свежие дивизии СС!.. Вот тебе и наступление «по полному и окончательному…».
Ночью командир нашего гаубичного дивизиона с двумя разведчиками и двумя связистами поползли в расположение вражеской обороны и проволокли за собой телефонный провод. Смельчакам удалось незаметно подобраться к кирпичному зданию, в подвале которого гитлеровцы оборудовали ДОТ. Наши проникли в подвал через люк, с противоположного от ДОТа торца. От гитлеровцев их отделяла глухая кирпичная стенка.
Чтобы фашисты не обнаружили наблюдательный пункт по телефонному проводу, штаб полка решил снять телефонную связь и отправить туда рацию. Я был пока на правах порученца и согласился провести группу. Два радиста и я двинулись, как только стемнело. Идти во весь рост пришлось недолго. Первая же осветительная ракета – и пулеметная очередь прижала нас к земле. Дальше поползли, касаясь рукой телефонного провода, Наконец впереди, на возвышенности, обозначились контуры здания. Подползли ближе. Чуть выше уровня земли увидели амбразуру в стене и торчащий из нее ствол пулемета, направленный в сторону наших позиций. Услышали негромкую немецкую речь. Фашисты не спали. Провод вел к противотанковому крылу здания и в нескольких метрах от стены шел под землю. Не сразу удалось отыскать хорошо замаскированный в конце лаза люк с окованной железом крышкой. Обитатели подвала были предупреждены о нашем визите и по условному стуку впустили.
Довольно просторное подземелье освещали карманным фонариком. Пустые ящики заменяли стол и стулья. У телефонного аппарата дежурил связист. Часть помещения отгораживала занавеска из плащ-палаток. Оттуда к нам вышел сам хозяин – командир дивизиона. На плечи был наброшен френч с орденом Красной Звезды. Тусклый свет фонарика не позволил хорошенько рассмотреть лицо капитана. Держался он очень просто, без рисовки, даже как-то по-домашнему. При нашем появлении поднялись с плащ-палаток, разостланных по полу, и поздоровались трое бойцов. Один из них был мне хорошо знаком: он первым в полку, еще зимой, получил медаль «За отвагу». Капитан осведомился, ужинали ли мы, и, не дожидаясь ответа, повернулся в сторону ширмы и сказал: «Покорми гостей, Паша!» Смысл фразы дошел до нас лишь тогда, когда из-за ширмы вышла молодая, миловидная женщина… Мы оторопели. Женщина? Здесь?!. Если бы из-за ширмы вышел немецкий генерал, мы, наверное, меньше бы удивились.
Тем временем на столе появились хлеб, сало и спирт. От спирта я сразу отказался, но капитан заявил, что трезвому здесь совсем нельзя. Пришлось выпить. Как ни странно, опьянения я не почувствовал, зато стало немного свободнее, и я перестал с опаской поглядывать на разделяющую нас стену.
Капитан сказал:
– Ты бы подремал, пока фашисты не зашевелились…
Проснулся я от взрыва – снаружи, как раз у стены, где я устроил себе ложе. За первым последовало еще несколько разрывов. Похоже, это были ручные гранаты, а может быть, стреляли из миномета. Одна из гранат или мин разорвалась у самого люка. В подвал проник дым, запершило в горле.
Я увидел капитана, приникшего к стереотрубе, замаскированной в стенной амбразуре, обращенной в сторону противника, и я услышал его негромкий голос. Он передавал координаты на наши батареи – вызывал, как говорится, огонь на себя, чтобы не дать гитлеровцам захватить наш КП. Прошло несколько секунд, послышался вой снарядов. В тот же миг ударила воздушная волна, и раздался страшный грохот. Стены вибрировали, с перекрытий сыпались куски штукатурки. Тяжелые снаряды рвались один за другим. Казалось, что вот-вот здание рухнет и все мы будем погребены под обломками. Однажды я уже испытал что-то похожее – мы попали под залп нашей «катюши». Это был настоящий ад. Разрывы слились в единый грохот, горела земля. Сейчас в этом подвале, хотя и под защитой мощных стен, тоже было, мягко говоря, несладко. Когда грохот наверху смолк, капитан подозвал меня и предложил взглянуть в стереотрубу. Совсем рядом, вокруг еще дымящейся большой воронки, лежало несколько тел в серо-зеленых мундирах и касках. В руках одного была зажата граната, другой, подальше от воронки, еще дергался, стараясь уползти.
На залп наших батарей откликнулась артиллерия противника. Теперь тяжелые снаряды летели уже через нас. Капитан решил не остаться в долгу. Он засекал стреляющих и направлял на них огонь наших орудий. Отсюда с возвышенности хорошо были видны результаты. Каждое попадание он сопровождал одобрительным матом да еще смачным замечанием. Одно за другим замолкали вражеские орудия. А тут еще обнаружилась группа замаскированных танков. По ним капитан приказал дать залп всему дивизиону.
Но вот смолкла артиллерийская дуэль, и в наступившей тишине подземелья мы вдруг отчетливо услышали слабый голос, взывавший о помощи:
– Хильфе! Хи-ильфе!..
Голос доносился из-за разделяющей нас стены. Только теперь мы увидели, что в ней образовались сквозные трещины, через которые почему-то пробивался дневной свет. Мы стали разбирать перегородку, держали наготове оружие. Первое, что мы увидели сквозь образовавшееся отверстие, было голубое небо и погнутые стальные балки разрушенного перекрытия. Из-под обломков снова послышался призыв о помощи. Общими усилиями разобрали обломки и обнаружили троих гитлеровцев. Двое сверху были мертвы, а третий под ними оказался невредим. Ефрейтор, похоже, был даже рад пленению. Капитан обратился ко мне:
– Спроси, знали ли они, что мы находились за стенкой?
– Да, – сразу ответил ефрейтор. – Мы догадывались, но считали, что это защитит нас от огня ваших пушек, и решили ничего не предпринимать.
– А что он думает теперь?
Пленный ответил, что трудно поверить в такую ювелирную точность, и хотелось бы взглянуть на того, кто управлял огнем русских батареи.
– Он перед тобой! – сказал я и указал на капитана.
Пленный ефрейтор сразу заявил, что ему очень лестно иметь дело с таким опытным русским гауптманом-артиллеристом Я перевел.
– Пусть не свистит, сказал капитан. – Объясни этому хмырю, что он имеет дело с кованным на все четыре копыта одесским евреем.
Честно говоря, я был удивлен не меньше ефрейтора и с большим трудом перевел его заявление (особенно в отношении свиста).
Теперь, при дневном свете, я мог рассмотреть капитана: светловолосый, с серо-голубыми глазами, он скорее бы подошел под категорию «чистого русака», а немецкий ефрейтор больше был похож на еврея, чем капитан артиллерист.
Отослав пленного в тыл, мы продвинулись вперед вместе с пехотой. Я провел с капитаном весь день и только к вечеру отправился обратно в штаб полка.
Закачивались кратковременные «каникулы» Надо было возвращаться в штаб армии для продолжения учебы.
Утром на штабном «газике» вместе с водителем мы отправились в путь.
Покидая полк в момент, когда наше наступление приостановилось, я посчитал, что это временная передышка и после перегруппировки сил продвижение вперед возобновится. Так считали и в штабе полка, не подозревая еще о назревающей катастрофе.
2 ПУШКИ К БОЮ ЕДУТ ЗАДОМ
Уже в пути мы узнали, что, пока наши армии так успешно и самозабвенно наступали, гитлеровцы нанесли сокрушительные удары по флангам фронта: с Севера на Юг (от Харькова) армия генерала Паулюса, а с Юга на Север, навстречу Паулюсу, – танковая группа Эвальда фон Клейста. Они сомкнули кольцо, и все наши войска, как участвующие в наступлении, так и удерживающее обширные фланги, оказались в плотном окружении. А в общем-то – в капкане.
Верить этому не хотелось. Но мы поняли, что это так, когда прибыли в штаб армии и застали там неразбериху и полнейшую растерянность. Нам предложили немедленно вернуться обратно в свой полк. Мы заправили машину горючим, забрали почту и отправились. Погода была пасмурной, но неожиданно сквозь тучи прорвался «мессер», и на бреющем полете одной очередью из крупнокалиберного пулемета пробило радиатор и мотор. Чинить машину; было бесполезно, и мы решили добираться до своей части на попутных. Но вскоре убедились в безнадежности и этого намерения. Никто не двигался в сторону передовой, зато оттуда уже проследовало несколько колонн и отдельных машин. Это были в основном тыловые подразделения. Все они спешили на восток в надежде еще успеть вырваться из окружения.
Что делать дальше, мы не знали, и решили заночевать в полуразрушенном здании недалеко от дороги. В одной из комнат, с тремя сохранившимися стенами и потолком, стояли стол и два топчана. Сумерки начали затушевывать очертания предметов. Серая облачность слегка раздвинулась на западе, и открылось удивительное сочетание синевы неба и пурпурных тонов заката. На короткое время все показалось простым «прозрачным, а война выдуманной…
Война не только убивала и калечила все живое, корежила, разрушала созданное природой и людьми, она калечила души, путала и искажала привычные представления, весь жизненный уклад. Многие понятия приобретали противоположный смысл. Вот и теперь сама мысль о ясном дне, предвещаемом этим закатом, была нам ненавистна. При полном господстве в воздухе авиации противника, для нас ясный день угрожал стать последним в этой жизни. Может быть, именно поэтому в предвечернем затишье так остро ощутилась весна. Она сразу напомнила о непреодолимой силе молодости, о радужных, но теперь уже несбыточных мечтах. Тучи уходили на восток, открывали синее вечернее небо. Мир, несмотря ни на что, продолжал оставаться прекрасным. Умирать жуть как не хотелось!
Я плохо представлял себе, какая смерть может ждать меня. Воспоминания о боях в первые месяцы войны, при постоянной угрозе окружения, позволяли представить положение люден во вражеском кольце в открытом степном пространстве. Эти воспоминания дополнялись рассказами тех, кому посчастливилось уцелеть и вернуться к своим из окружения или из плена. Но таких шло немного. Гитлеровцы, используя свое преимущество в технике, особенно в авиации, обрушивали на головы обреченных град бомб, снарядов и мин, давили их танками и бронетранспортерами.
И все равно не хотелось верить, что это конец. До сих пор фронтовая судьба была ко мне благосклонна. Будто чья-то невидимая добрая рука (а может быть, молитва матери) берегла меня и хранила.
Мне исполнился двадцать один год. За спиной остались школа, первый курс института, служба в армии. Уже было ранение, госпиталь, а теперь еще и явная безвыходность окружения… Было о чем подумать…
Была и первая школьная любовь. Только ведь это только говорится, – школьная, – я всегда считал ее настоящей… Но была и пустота в том месте души, где должна была находиться высоко парящая любовь. А без нее я не мог себе представить смысла земного существования вообще.
Мысленно возвращаясь в прошлое, в годы детства, проходившие в обшей убогости, под барабанные пионерские песни и призывы, которые никогда не соответствовали действительности, я, как самое светлое оконце той поры, постоянно вспоминаю мою московскую немецкую школу.
Собеседование, а не экзамен, проводила сама директор школы. Сначала она спросила:
– Как тебя зовут? – спросила, разумеется, по-немецки.
Я сразу ответил. Она повторила мое имя, но сделала ударение на «о» – Б орис, пояснив, что так будет правильнее, если по-немецки. Ее же я должен называть «геноссин Вебер». Потом она спросила, как зовут моих родителей, бабушек и дедушек, (говорит ли кто-нибудь из них по немецки? На вопрос, чем занимаются родители, я пытался ответить, но из этого ничего не получилось: мой словарный запас оказался недостаточен Потом я должен был рассказать, как провел лето. Я путал падежи, мне явно не хватало знания языка. Видя мои затруднения, геноссин Вебер помогала мне наводящими вопросами. Ее произношение немецких слов несколько отличалось от произношения моей учительницы, и не все было понятно. Словом, беседа получилась довольно корявой. Я был недоволен собой и думал, что провалил экзамен. Меня попросили подождать в холле, пока мама говорила с директрисой в ее кабинете. Мама вышла оттуда с улыбкой– меня приняли. Она сказала, что директор очень милая женщина и почти без акцента говорит по-русски.
Кроме детей из Германии и Австрии, преимущественно девочек, плохо или совсем не говорящих по-русски, в нашем классе было пятеро москвичей: Саша Кавтарадзе, Саша Магнат, Боря Фрейман, Эрих Вайнер и я. Самым взрывным среди нас был Саша Кавтарадзе, готовый мгновенно включиться в любую затею, а самым флегматичным – Эрих Вайнер. Он предпочитал держаться в стороне и даже не принимал участия в наших мальчишеских играх. Я однажды неосторожно обвинил его в трусости, а он тут же не упустил случая и передразнил меня, уличив в неправильном, корявом произношении немецких слов. Поддразнивали порой меня и другие ребята. Это сильно задевало, и я начал стараться как можно правильнее произносить слова и фразы. Дело дошло до того, что дал сам себе торжественную клятву: «Вот увидите! Я буду говорить на вашем языке не хуже, чем вы! А то и лучше!.. И тогда посмотрим!!» – и я, пожалуй, почти что выполнил данное тогда обещание.
У Эриха были другие достоинства – он умел «завести» любого из нас и всегда пытался выступать в роли арбитра.
Девочки держались несколько обособленно, но общая атмосфера была дружелюбной, и отношения учеников друг с другом были не по-детски уважительными, особенно мальчиков к девочкам. Никто не дразнил друг друга, не давал прозвищ. Постепенно и меня шпынять перестали. На переменах никто не носился сломя голову по коридорам, не устраивали клуб в туалете. О курении даже не помышляли.
Ближе всех я подружился с Сашей Магнатом. Мне очень нравилось бывать у них дома. Сашины родители жили в доме правительства на Берсеневской набережной. Когда я попадал к нему в дом, мне казалось, что я попадал в другой мир.
Кем был Сашин папа, я не знал и ни разу его не видел. Когда мы приходили из школы, Сашина мама давала нам по большому куску омлета на ломте мягкого белого хлеба. И этого, по сей день, забыть нельзя!..
У Саши был настоящий заграничный велосипед на широких шинах. Саша научил меня ездить, и мы по очереди катались во дворе дома. Катание на велосипеде было самым большим удовольствием. Я бредил собственным велосипедом, но долгие годы это оставалось несбыточной мечтой. Настоящий двухколесный велосипед был в ту пору для многих недоступной роскошью. Потом Сашина мама звала нас обедать. Мне эти обеды казались царскими, а Сашина мама – прекрасной доброй феей.
В этой замечательной немецкой школе я проучился всею около двух лет. А потом ее закрыли– взяли и прихлопнули! Пришел ядовитый слух, – что «директор школы геноссин Вебер оказалась фашистской шпионкой!» – Оказалась!.. – Мы, ученики, любили нашу директрису за доброту и справедливость. Мы не хотели верить слухам.
После того как немецкую школу закрыли, меня определили в обычную среднюю школу. Находилась она на углу Большой Грузинской и 2-й Брестской улиц. По сравнению с той школой эта показалась мне грязными задворками, а о какой-либо приветливости и говорить было нечего. Мне сразу, в первый же день, дали прозвище «Американец» – за брюки гольф и за берет. В гольфах и высоких ботинках ходили большинство мальчиков немецкой школы Для меня же, жителя Кунцево, преодолевать непролазную осеннюю грязь наших окраин было намного удобнее в гольфах, чем в длинных обычных брюках. Вслед мне пели похабные песенки из репертуара вечного городского фольклора. Помимо этого, я тут же стал обладателем еще двух прозвищ: Баран – за вьющиеся светлые волосы, и Витамин – по аналогии со звучанием фамилии. Выходить на переменах из класса в плохо освещенный узкий коридор или в туалет было вовсе не безопасно. Ребята из классов постарше заставляли выворачивать карманы и отбирали все, что представляло для них хоть какой нибудь интерес… Тех, кто сопротивлялся или пытался пожаловаться, – сразу избивали. Иногда группами поджидали на улице. Хотя занималась этим сравнительно небольшая часть учеников нашей школы, но она держала в страхе всех. Даже учителя предпочитали с ними не связываться. Поговаривали, что они водят дружбу с урками, имевшими свою «малину» в одном из домов Большой Грузинской улицы.
Так же, как «Марьина роща», этот московский район был вольницей и вотчиной московской уголовщины. Как ни странно, верховодила в группе – девчонка. Говорили, что она цыганка. Выбирая очередную жертву, она впивалась в нее взглядом жгуче-черных глаз, словно гипнотизировала, и обычно выносила свой приговор… По какому поводу, сейчас уже не помню, но не избежал этой-участи и я. Она испытующе долго смотрела на меня и наконец изрекла: «Его не трогать!.. Пока». Чем было вызвано такое помилование, не знаю. Но оно произвело на меня довольно сильное впечатление…
И эта устная охранная грамота действовала до тех пор, пока в школе не произошло событие, потрясшее всех без исключения.
– Зарезали! Убили!.. – пронеслось но школе. Все повыскакивали в коридор. Там, прислонившись к стене, стоял паренек. Обе его руки были прижаты к животу. Между пальцами сочилась струйка крови. Лицо было белое, как простыня. Здесь же, на полу, валялся брошенный финский нож… Парень, в конце концов, остался жив, а вот загадочная цыганская девчонка исчезла навсегда.
Мое положение в классе постепенно несколько укрепилось с введением уроков физкультуры. Я стал посещать спорткружок и показал неплохие результаты по прыжкам в длину и лыжам. Позже начал заниматься боксом. Уже давно сменил гольфы на брюки, берет на кепку. Внешне мало отличался от остальных. Прозвище Американец – отлетело.
Совершенно иным, чем в немецкой школе, было отношение мальчишек к девчонкам. В туалете во время перемен здесь умудренные житейским и сексуальным опытом сопляки посвящали нас, желторотых, в подробности половых не столько отношений, сколько извращений. В этой школе непристойные выходки и скверные приставания к девочкам проявлялись иногда даже во время уроков. И вот тут моя выдержка начала изменять мне – я начал ввязываться в настоящие драки. А «настоящая» – это непременно до крови!
Популярным занятием наших мальчишек было выбрасывание из окон чернильниц и других не слишком громоздких предметов прямо на головы прохожим. Один из аттракционов был выдающимся – балбес взобрался на подоконники стал писать на прохожих.
Но как бы там ни было скверно, были и радости: я занимался в изокружке, а потом и в студии. К рисованию я пристрастился рано и занимался с неизменным увеличением. Параллельно продолжал занятия спортом на стадионе, освоил вождение автомашины.
Годы учебы в школе на Большой Грузинской не оставили в памяти моей ни одного светлого воспоминания. Не могу припомнить даже никого из преподавателей. А вот два года, проведенные в немецкой школе, отчетливо помню по сей день.
Окончил я в этой школе седьмой класс и перешел в только что открытую новую школу, рядом с площадью Маяковского. Эта – во всем отличалась от предыдущей: и самим зданием, и учителями, и учениками… И ученицами.
На одном этаже с нами находился седьмой «А» класс! Знаменит он сразу стал тем, что там училась главная достопримечательность нашей школы – первейшая девица-красавица Галина Вольпе, дочь начальника штаба Московского военного округа комдива Вольпе А. М. Впервые я увидел ее на перемене. Проходя мимо, она гордым движением головы откинула прядь темно-каштановых волос, спадающую на глаза. Со мной что-то произошло, и я не сразу смог определить, что именно… Я не ахнул, не остолбенел – я забыл на некоторое время, где нахожусь… Скорее всего, просто пришла пора!
Другой раз я увидел ее, когда она выходила из машины отца – ее подвезли и высаживали недалеко от школы – без головного убора, опять с той же спадающей на глаза прядью волос. Нет – это было неотразим о… Иногда она даже САМА УПРАВЛЯЛА ЭТОЙ БОЛЬШОЙ ЧЕРНОЙ МАШИНОЙ!.. Или мы это уже все вместе придумали?.. Всю зиму она ходила в своей черной кожаной куртке, без головного убора и все так же время от времени гордым движением головы откидывала непокорную прядь волос. Я знал, что в нее было влюблено чуть ли не все мужское население школы, начиная с опупелых первоклассников и кончая комсоргом школы Романом. Даже наш молодой директор Иван Петрович, как поговаривали, тоже был к ней неравнодушен.
Я долго сопротивлялся этому все сметающему чувству, убеждал себя в том, что недостоин ее, что не обладаю необходимыми достоинствами… С одной стороны– никакой надежды, а с другой… – все же написал ей записку. Ответа не последовало. Позже подруга Галины Шура Пахарева рассказывала: «Галина каждый день ворох этих записок выбрасывает в урну не читая».
Значит и мою записку постигла та же участь. «Ну и поделом, – корил я себя, – возомнил себя героем-любовником». И все же мое самолюбие было уязвлено. Заставлял себя не думать о ней и старался избегать встреч.








