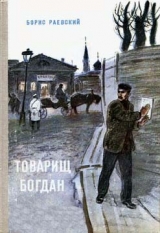
Текст книги "Товарищ Богдан (сборник)"
Автор книги: Борис Раевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц)
Бабушкин проработал недели две, и на его руках снова появились мозоли. Снова он стал настоящим слесарем, не боящимся никакой работы.
Когда он в первый раз на Брянском заводе сделал хитроумный, сложный штамп – одно из самых трудных заданий, Бабушкин обрадовался, оглядел свои крепкие руки и, вспомнив мастера-итальянца, весело подумал:
«Вот тебе и белийрючка!»
2. Маскировка
Уже через полгода после приезда Бабушкина в Екатеринослав местные жандармы почуяли, что в тихом городе что-то изменилось. Раньше о стачках здесь и не слышали, прокламаций не видели, рабочие, встретив хозяина, торопливо сдирали шапки и почтительно кланялись.
А теперь – куда там! Волнения, беспорядки. Начальник екатеринославских жандармов, ротмистр Кременецкий, любивший по вечерам в одиночестве играть на скрипке, совсем потерял покой. Обленившиеся жандармы тоже вынуждены были пошевеливаться.
Постепенно они установили, в чем дело. Раньше на екатеринославских заводах было всего три-четыре маленьких подпольных кружка, к тому же не связанных друг с другом. А теперь их стало гораздо больше.
А главное, какой-то неизвестный одни шпики доносили, что его зовут «Трамвайный», другие – «Николай Николаевич», – объединил все эти кружки. И название-то какое придумал: «Екатеринославский Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Видно, не лыком шит этот Трамвайный! Знает, что в Петербурге был такой же «Союз борьбы», организованный «государственным преступником» – Владимиром Ульяновым.
Вскоре охранка арестовала двух членов «Союза», через неделю – еще одного.
«Нет ли среди нас провокатора?» – забеспокоился Трамвайный (так подпольщики называли Бабушкина).
Но потом он догадался, в чем причина провалов. Екатеринославские революционеры действовали слишком открыто, они не умели скрываться от полиции, не владели конспирацией. А без нее – пропадешь! Ведь жандармы так и рыщут по городу в поисках крамолы.
Иван Васильевич вспомнил, как в Петербурге Владимир Ильич, умевший обвести любого шпика, учил его конспирации. Вот это были уроки!
На ближайшем же собрании подпольщиков Бабушкин рассказал, как ловко ускользал от охранки Ильич.
– Петербург – побольше Екатеринослава, – сказал Иван Васильевич. – И трущоб всяких там видимо-невидимо. А все же Владимир Ильич как свои пять пальцев знал все проходные дворы столицы. Бывало, даже к нам, на окраину, за Невскую заставу приедет и спросит: «Ну, кто скажет, как отсюда быстро и незаметно пробраться на такую-то улицу».
Мы много лет живем здесь, но не знаем, а он – приезжий – показывает: вот тут – проходной двор, тут – тупичок, но в нем тоже есть скрытый ход, а здесь – забор сломан…
Владимир Ильич часто шутил, что проходные дворы устроены специально для революционеров, чтобы помочь им удирать от шпиков.
– Придется, значит, и нам, как мальчишкам, примечать, где забор сломан и как в чужой сад тайком можно залезть! – улыбнулся один из рабочих.
Все засмеялись.
– А однажды Ильич придумал хитрую штуку, чтобы шпиков обманывать, – продолжал Иван Васильевич. – Очень простое и надежное средство. Стал он носить с собой в портфеле вторую, запасную шапку.
«Зачем это?» – спросил я Ильича.
Он объяснил. Оказывается, как привяжется к нему шпик, Ильич скользнет в проходной двор и сразу достает из портфеля этот меховой треух – и на голову! А свою кепчонку – в портфель! Поднимет воротник пальто, ссутулится, сквозь проходной двор выйдет на шумную улицу и смешается с пешеходами. Попробуй узнай!
Шпик видит, что Владимир Ильич нырнул в проходной двор, подождет немного, чтоб Ильич не заметил его в пустом дворе, и туда же – шмыг! Выйдет на соседнюю улицу, ищет человека в серой кепке, а такого и нет! Исчез! Забавно бывает смотреть: кружится шпик на месте, как карась на сковороде. То влево дернется, то вправо побежит, ну, точь-в-точь как собака, потерявшая след…
Рабочие снова засмеялись.
– А из тюрьмы Ильич ухитрялся не только письма, но даже целые статьи присылать. Писал он их молоком, между строчек книги. Молока не видно. А подогреешь страницу на свечке – все и выступит.
Делал Ильич из хлеба специальные чернильницы для молока и макал в них перо. А как услышит подозрительный шум возле своей камеры – сразу глотает их. Сам он, шутя, писал из тюрьмы:
«Сегодня съел шесть чернильниц!»
– Ловко! – заулыбались рабочие.
– Нам, товарищи, тоже надо овладеть конспирацией, – продолжал Бабушкин. – Без нее – ни шагу!
И Иван Васильевич стал учить рабочих многим приемам и хитростям, выработанным опытными революционерами.
– Вот, например, – сказал Бабушкин, – у кого-то из нас назначено собрание. В окне той квартиры должен быть выставлен сигнал: кукла на подоконнике, или, скажем, цветок, или свеча, воткнутая в бутылку. Это значит: все в порядке, можно входить!
А как нужно приближаться к месту собрания, знаете?
Рабочие недоуменно переглянулись.
– Подходить надо обязательно по противоположной стороне улицы, – разъяснил Бабушкин. – Увидишь куклу или свечу в окне, – входи! Нет условленного сигнала, – значит, жандармы устроили в этой квартире обыск и засаду. Как ни в чем не бывало шагай себе мимо!
– Здорово! – воскликнул слесарь. Матюха и в азарте даже хлопнул себя рукой по коленке.
– Каждый из нас, – продолжал Бабушкин, – должен всегда наблюдать: нет ли за ним слежки. Но если даже «хвоста» нет, – все равно нельзя идти прямо на собрание. Надо сперва двигаться в другой конец города. Понятно? А еще лучше, если есть деньги, взять извозчика и поколесить по глухим переулкам. Притом наблюдай, чтоб за тобой не ехал другой извозчик… Может, на нем сидит шпик?!
Возле проходного двора отпусти извозчика, а сам быстро проскользни на другую улицу. Ясно?
На этом собрании члены «Союза борьбы» решили впредь тщательно соблюдать конспирацию.
Сам Бабушкин был им примером в этом.
Бабушкин часто переезжал с квартиры на квартиру. Однажды, почувствовав, что за ним следят, он покинул старое жилище и, по совету товарищей, снял маленькую комнату у пожилой, добродушной женщины, вдовы рабочего-доменщика.
Новый жилец был тихий, вежливый и аккуратный, не пьянствовал, не буянил, как ее прежний постоялец, и сразу понравился хозяйке.
Чечелевка, где поселился Бабушкин, – рабочая окраина возле Брянского завода – выглядела как все рабочие окраины.
На рассвете здесь надрывался на все голоса хор заводских гудков, поднимая с коек, нар и топчанов невыспавшихся, изможденных людей, властно выталкивая их из лачуг и загоняя в огромные каменные корпуса цехов.
Потом Чечелевка надолго затихала.
В обед по узеньким немощеным улочкам торопились к заводским воротам ребятишки с узелками: несли еду своим отцам.
Вечером Чечелевка снова оживала: из цехов выливались потоки рабочих. Они растекались по халупам, усталые, но довольные. Кончился еще один проклятый день, можно хоть немного отдохнуть.
И сразу оживали кабаки, трактиры. Оттуда неслись разухабистые напевы «музыкальных машин», ругань, пьяные крики…
Так, без всяких изменений, жила Чечелевка круглый год; летом и зимой, весной и осенью.
Домик, в котором снял комнату Бабушкин, был деревянный, ветхий, с залатанной крышей. Низенький, он зарылся в землю почти по окна, которые выходили на узкий, грязный переулок.
Иван Васильевич в первый же день смастерил полку для книг, повесил на единственное подслеповатое окошко плотную занавеску, стол застелил газетой, аккуратно приколов ее по углам кнопками.
Квартирант целыми днями пропадал; в шесть утра уходил на завод, работал до восьми вечера, но и после такого изнурительного труда приходил не сразу, а часто задерживался неизвестно где.
По вечерам Иван Васильевич иногда беседовал с хозяйкой, разъяснял этой забитой женщине хитрые уловки попов и заводчиков.
Хозяйка поддакивала. И всегда, вытирая слезы концами головного платка, рассказывала одну и ту же историю. Ее муж погиб при аварии в цеху, а хозяин завода, к которому она пошла за «воспомоществованием», перекрестился, сказал «все там будем», дал ей трехрублевку и велел больше на завод не таскаться:
– А то тебя еще за подол в машину затащит!
Бабушкин понимал, что хозяйка тоже ненавидит богачей и жандармов. Она сочувственно слушала его речи. Иван Васильевич радовался: ее квартира сможет в недалеком будущем пригодиться для тайных собраний.
Бабушкин много читал. Как только у него выдавались свободные минутки – по вечерам и даже ночью, он садился за книгу. При этом он всегда тщательно задергивал занавеску на окне.
«Запретные книги изучает, эту… как ее… подпольницу!» – догадывалась хозяйка и шикала на своих детей, чтобы они не шумели, не мешали квартиранту.
Но однажды хозяйка очень удивилась. Иван Васильевич рассказал ей содержание толстой книги, которую читал уже несколько вечеров подряд. В ней говорилось о восстании рабов-гладиаторов в Древнем Риме, называлась эта книга «Спартак».
– Запретная? – сочувственно спросила хозяйка.
Бабушкин засмеялся:
– Нет, эту книгу жандармы еще не догадались запретить!
– А чего же ты, сынок, оконце-то затемняешь? – думая, что Бабушкин что-то скрывает от нее, недоверчиво спросила хозяйка.
Иван Васильевич встал и сделал несколько шагов по комнате. Глаза его потемнели.
– В проклятый век мы живем, мамаша, – гневно сказал он. – Жестокий век! Ежели мастеровой не шатается по трактирам, не дерется, не валяется пьяный в канаве, – он уже попадает на заметку полиции. А если рабочий притом еще читает книжки, – это уж для шпиков совсем подозрительно… Вот и приходится занавеску задергивать, чтобы проходящих городовых не тревожить…
Бабушкин был занят дни и ночи. В «Союзе борьбы» он возглавил выпуск подпольных прокламаций. Трудно было собирать материал для этих листовок, размножать их приходилось на гектографе, в строгой тайне. Еще труднее было распространять листки.
Ротмистр Кременецкий, взбешенный стачками и волнениями, вызванными прокламациями, поставил на ноги всех жандармов, полицию и филеров. На самом крупном в городе Брянском заводе сторожам даже дали оружие и собак, чтобы не допустить прокламации на завод.
Но и это не помогло.
Бабушкин разглядел, что в одном месте заводской забор проломан. Около дыры стоял сторож-черкес. Ровно в семь часов вечера, когда кончилась смена и вокруг было много рабочих, Бабушкин с Матюхой подошли к забору. Бабушкин угостил сторожа папиросой, отвлек разговором; сторож отвернулся, а Матюха с пачкой прокламаций шмыгнул в пролом.
На заводском дворе он спрыгнул в яму – там рыли артезианский колодец – и уселся на глиняном скользком дне ее. Было очень холодно. Но Матюха терпеливо ждал полуночного гудка. Пять часов просидел он в мерзлой яме, продрогнув до костей. Ровно в полночь заревел гудок и сразу погас свет. Матюха только этого и ждал; он знал, что после гудка на пять минут остановят динамо-машину для смазки, – значит, света не будет.
Выскочив из ямы, он в кромешной темноте стремглав бросился к цехам, кидал пачки листков в открытые форточки мастерских, в разбитые окна цехов, разбросал листки во дворе и уборной.
Едва успел он перемахнуть обратно через забор, как снова заработала динамо-машина, вспыхнул свет.
Бабушкин и Матюха быстро ушли от завода, где рабочие торопливо хватали неизвестно откуда взявшиеся листки и прятали их в карманы.
Работы Бабушкину хватало.
Однажды он пришел домой поздно вечером, веселый, что-то напевая, и из карманов его тужурки торчали горлышки пустых пивных и водочных бутылок.
Хозяйка недовольно оглядела Бабушкина, ничего не сказала, но покачала головой:
«И ты начал хлестать водочку? – подумала она. – Не устоял! Да и как тут удержишься? – возразила она самой себе. – Одна утеха у мастерового: выпить, забыть и каторжную работу треклятую, и нищету».
Через неделю Бабушкин снова пришел нагруженный бутылками, и опять пустыми.
«Где это он вино лакает? – тревожилась уже успевшая привязаться к Бабушкину хозяйка. – Хоть бы дома выпил, чинно, спокойно – и в постель. А тут хлещет неизвестно где… И какой, промежду прочим, крепкий мужик, – думала она, оглядывая три бутылки, торчащие из карманов квартиранта. – Столько выпил – и ни в одном глазу. Даже не пошатнется. И говорит все к делу…»
Комната Ивана Васильевича постепенно стала напоминать кабак. В ней по-прежнему было чисто и аккуратно, да вот беда: повсюду – на подоконнике, под кроватью, на шкафу и даже на книжной полке – стояли пустые пивные и водочные бутылки.
Хозяйке это, конечно, не нравилось, и однажды в отсутствие Ивана Васильевича она собрала все бутылки в мешок и выставила в сени.
Бабушкин вернулся в полночь, из кармана у него опять торчало горлышко бутылки. Он удивленно оглядел свою прибранную комнату и спросил:
– А бутылки где?
– Убрала, – сердито ответила хозяйка. – Совсем уже стала не горница, а трактир…
– А что, похоже? – неожиданно засмеявшись, спросил Бабушкин. – Напоминает трактир?
– Еще бы не похоже! – нахмурилась хозяйка. – И не стыдно тебе, сынок, хлестать эту водку проклятую?
Но Бабушкин лишь смеялся и больше сердил хозяйку.
Потом он, улыбаясь, вынул из кармана и поставил на подоконник, на самое видное место, пустую бутылку, сходил в сени, принес мешок и снова расставил все бутылки на шкафу, под кроватью, на книжной полке.
– Садитесь, мамаша, – перестав улыбаться, пригласил он. – Поговорим.
Хозяйка села.
– Вы ведь знаете: я – непьющий! – сказал Бабушкин.
Хозяйка усмехнулась и многозначительно обвела глазами шеренги бутылок.
– А бутылки эти – военная хитрость, – продолжал Бабушкин. – Возвращаюсь я, к примеру, с тайного совещания. Перед выходом беру у хозяина две-три пустые бутылочки: мимо любого околоточного или пристава иду, он и носом не ведет. Раз бутылки, – значит, «благонадежный». А для пущей убедительности – куплетики какие-нибудь затяну пьяным голосом… Понятно?
– Понятно, понятно, – закивала головой хозяйка. – Но только зачем тебе, сынок, всю эту пакость в комнате хранить?
– А это опять-таки военная хитрость. Недавно забавный случай произошел. Поехал один из наших к знакомым за Днепр, на завод Франко-Русского товарищества. Знаете? Тут, недалеко… Ну и захватил с собой несколько нелегальных брошюрок для друзей. Приехал, а там его задержали и нашли брошюрки. Он, конечно, отпирается – это, мол, не мои. Нашел на станции. Ну да в полиции народ тертый. Не верят, конечно. Сей же час по телеграфу сообщили в Екатеринослав, и сразу приказ – немедля обыскать квартиру.
Пришли туда жандармы, да, кроме пивных бутылок, ничего не обнаружили.
«Пьянчуги политикой не интересуются, – решил жандармский подполковник. – У них другое на уме…»
Товарища сразу же и освободили. Ясно?
Бабушкин засмеялся. Улыбнулась и хозяйка.
– Вот и решил я сделать выводы. Это, мамаша, маскировка, а по-нашему – конспирация… Понятно?
– Понятно, соколик, – ответила хозяйка. – Только зачем же у тебя эта, как бишь, каспирация… пылью заросла? – Она провела пальцем по бутылке, и на стекле остался след. – Непорядок!
Хозяйка взяла влажную тряпку и обтерла все бутылки. Потом каждые два-три дня она не забывала смахивать пыль с «конспирации».

Землекоп

Бабушкин вставал в пять утра и таскался по Екатеринославу. Искал работу.
Бродил по зеленым набережным Днепра, по дымной, в колдобинах и ухабах Чечелевке, по нищим прокопченным заводским окраинам.
Работы не было.
С Брянского завода Бабушкина уволили еще месяц назад. Мастер вдруг пристал:
– Пашпорт дэ?
Паспорта у Бабушкина не было. Местная полиция выдала ему, как поднадзорному, высланному из столицы, лишь временный «вид на жительство».
– Мэни пашпорт клады, а нэ цю писульку! – заорал мастер. – Тай взагали… [15]15
Вообще ( укр.).
[Закрыть]
Бабушкин понимал, что главное – в этом «взагали». Надоел мастеру новый настырный слесарь. Вишь, из Питера вытурили, а он и тут никак не угомонится. Всюду суется: это ему не так да то ему не эдак. То штраф, мол, незаконный, то грубить не смей.
Вот и оказался за воротами.
Хотел было на Трубный устроиться, а там тоже – «пашпорт». В ремонтные мастерские сунулся – и там то же требование.
Пошел в полицию: выпишите паспорт. Нет, шалишь, поднадзорному только временный «вид» положен.
«Вот переплет!» – думает Бабушкин.
С товарищами посоветовался. А один и говорит:
– А что, если тебе, Иван Васильевич, и вовсе не работать?
– Как так? – даже растерялся Бабушкин.
– А так! Ежели день-деньской у тисков – когда же собрания организовывать, да кружки вести, да листовки печатать? Хорошо б нам иметь в городе хоть одного такого вот «неработающего». Чтоб целиком всего себя – для общества…
– Оно неплохо, конечно, – сказал Бабушкин. – Только вот загвоздка-то в чем…
– Если ты насчет денег, – не сомневайся. Неужто ж мы сообща одного человека не прокормим?!
Так и получилось, что Бабушкин впервые в жизни стал жить, как живут «нелегалы», профессиональные революционеры.
Товарищи обещали давать ему восемь рублей в месяц.
– Прохарчишься как-нибудь?
– Постараюсь…
Очень это мало – восемь рублей. Бабушкин на заводе и по тридцать и даже по сорок в месяц выгонял. А тут – восемь… На все про все – восемь…
Но Бабушкин знал, как тоща партийная касса. Восемь – так восемь…
Одно только осложняло дело. Если б он был, как прежде, один. Одному и краюха хлеба с солью – преотличный обед. Но теперь у него жена. Пашенька. Прасковья Никитична.
Вот чего не учли друзья-товарищи!
С Пашей познакомился он недавно. Маленькая, худенькая, бледная. Швея в мастерской. Целый день с иголкой. Лицо неприметное, простое, и только глаза!.. Большие и так и лучатся! Так изнутри и светятся… Кажется, на всем лице одни только глаза и есть.
Полюбил ее Иван Васильевич, а о женитьбе – и заикнуться боится. А вдруг, как узнает Пашенька, кто он да какие опасности грозят ему, а значит, и ей, – испугается…
– А знаешь, Паша, – набравшись духа, признался однажды Бабушкин. – Я ведь только недавно… это самое… из тюрьмы…
– Ой! – Она прижала руки к груди. – Шутишь?
– Какие шутки! Сидел. Целый год. Но не бойся – не убийца я, не грабитель…
Иван Васильевич долго рассказывал ей, почему попал за решетку.
– Верю, – задумчиво и тихо, – она всегда говорила тихо – произнесла Паша. – Ничего худого ты не сделаешь. Не можешь сделать. А все же страсти какие! Тюрьма…
Печальная ушла она в тот вечер.
А еще через месяц Бабушкин предложил ей пожениться.
– Только учти, Пашенька, – торопливо предупредил он. – Уютное гнездышко с таким мужем не совьешь. И шелков да жемчугов не заимеешь. Трудная будет доля у нас…
– Да, – кивнула Паша. – Знаю…
– И не робеешь?
Она подняла на него огромные глаза, смотрела долго и ничего не ответила.
Как это – «не робеешь»? Конечно, боязно. Особенно поначалу. При каждом стуке на крыльце вздрагивала. Не полиция ли?
Но постепенно привыкала к новой жизни. Опасной и трудной…
И вот стал Бабушкин жить на те восемь партийных рублей. Ненадолго их хватало.
А Паша – та целые дни в белошвейной мастерской спину гнет, а получает шесть рублей в месяц.
Пройдет недели две, и в доме – шаром покати. И хозяин комнаты косится: уже за два месяца задолжали.
Бегает Бабушкин по рабочим кружкам, по явкам, а тут еще подпольную типографию задумал – дел хватает. А сам нет-нет и подумает: «Надо что-то предпринять. Где бы разжиться хоть трешкой?»
Попросить из партийной кассы – этого Бабушкин и в мыслях не держал. Раз сказано восемь, – значит, восемь. Больше нет.
Но пить-есть-то надо?! И жену молодую хоть не деликатесами, но как-то кормить, обувать-одевать тоже надо.
«Ничего, – решил Бабушкин. – А руки у меня на что? В свободные деньки буду подрабатывать».
И еще он подумал: занятия кружков, да собрания, да встречи – все вечером. Днем-то рабочие заняты. Значит, у него утренние часы свободны.
«Вот и чудесно! – обрадовался Бабушкин. – Не барин! Можешь и в пять встать и часов до трех – четырех что-нибудь подзаработать».
Так и решил.
Но трудно было найти работу в Екатеринославе. Ох, трудно…
Подрядился было разгружать баржу с арбузами. Три дня кидал зеленые полосатые шары, стоя в артельной цепочке других таких же бедолаг.
Изнурительная работа. Покидаешь так часов двенадцать арбузы, тяжелые, как пушечные ядра, – поясницу потом не разогнуть. А руки – сейчас отвалятся.
Еще бы! Ловит Бабушкин арбузы от соседа справа, швыряет их соседу слева, а сам, чтобы отвлечься, арифметикой занимается:
«Положим, на каждый арбуз – десять секунд. Значит, за минуту – шесть арбузов, за час – триста шестьдесят. А за двенадцать часов – почти четыре с половиной тысячи арбузов. Четыре с половиной тысячи! Перешвыряй столько! Это ж побольше тысячи пудов! Шуточки!»
А платят – всего сорок копеек в день.
Но вскоре кончились арбузы.
Четыре дня вставал Бабушкин спозаранку. Бродил по городу. А работы нет и нет. Потом нанялся к старухе чиновнице: поленницу дров переколоть. С утра дотемна махал топором, а вредная старуха вынесла двадцать копеек.
Разозлился Бабушкин, но спорить с жадной бабой не стал.
И снова – четыре дня совсем без работы.
«Да, – думает Бабушкин. – Весело живут молодожены. Так недолго и ноги протянуть. Очень просто…»
Старается Бабушкин поменьше думать о еде. Но мысли как-то сами перепрыгивают с листовок и собраний на добрую порцию жареной свинины. Со свежей картошечкой! И помидорами!
А какой базар в Екатеринославе! Как пройдет Бабушкин мимо – в нос так и шибанет. Дыни, яблоки, виноград, мед. Пироги жаром пышут – с мясом, с рисом, с капустой. И молоко, и сыры, и брынза. И вино – молодое, терпкое, прямо из бочек.
А запах!.. Смесь ароматов такой аппетитности – аж поташнивает. Голодному такой запах – прямо нож острый.
Однажды шел вот так Бабушкин по берегу Днепра. Раннее утро. Солнечные зайчики на воде пляшут. Широк Днепр. И красив.
Видит Бабушкин: возле самой воды рабочие роют какую-то длинную глубокую канаву.
Остановился Бабушкин, поглядел.
– Что строите? – говорит.
Один из землекопов разогнул спину:
– Склад якийсь.
Отер он рукавом пот со лба, достал кисет, люльку, закурил.
– А рабочие не нужны? – спросил Бабушкин.
– Кажись, треба. Ось старшо́й. – Землекоп указал на длинного мужика с рыжеватой, клинышком, бородкой. – У старшо́го и спытай.
Бабушкин пошел к рыжебородому.
У того были маленькие хитрющие глаза и чуть приоткрытый рот, скривленный влево. Словно он все время усмехался.
Старшо́й неторопливо оглядел Бабушкина с головы до ног, потом так же не спеша провел взглядом обратно – с ног до макушки.
«Как мерку снял!» – мелькнуло у Бабушкина.
– Бач, парубок, – сказал старшо́й. – У нас – артиль. Що заробим – на всих поровну. Зрозумив?
– Понял.
– А значит, копать трэба як слид. А для того звычка потрибна. И здоровы руки-ноги.
Он снова оглядел Бабушкина и звучно высморкался. Видимо, Бабушкин не подходил под категорию «здоровы руки-ноги». Невысок. И в плечах неширок. И мускулатура – вовсе неприметная.
Да к тому ж по обличью – вроде бы образованный. И в шляпе. А вот – в копали просится…
– Ну, а лопату бачив? – спросил старшой.
– Видал, – сказал Бабушкин.
Это он схитрил. Бабушкин был умелым слесарем. Да и в некоторых других ремеслах соображал. Но иметь дело с землей ему как-то не доводилось.
Правда, в детстве жил он в Леденгском. В селе при казенных солеварнях. Но был он тогда совсем мальчонкой и из всех крестьянских работ знал лишь одну – подпаском ходил у деда Акима.
И странно сказать: жизнь сложилась так, что самые разные инструменты держал в руках, и простые, и замысловатые, а вот лопату, кажется, ни разу.
Но Бабушкин твердо повторил:
– С лопатой мы дружки!
Старшо́й снова с недоверием оглядел щуплого новичка, крякнул, но ему, видимо, позарез нужны были люди, и к тому же хитрый старшо́й, наверно, сообразил, что прогнать новенького всегда можно. Чего ж не попробовать?!
– Ставай, – хмуро приказал он.
Бабушкин выбрал себе лопату – целая куча их громоздилась в сторонке – и спрыгнул в канаву.
– Эй! – усмехнулся старшой. – Ты, яснэ дило, майстэр. Та рукавыци все ж не лышни!
И швырнул ему пару потертых рукавиц.
Бабушкин стал копать.
Украдкой поглядывал он на соседа и старался делать все, как тот. Под таким же углом вонзал лезвие, до блеска надраенное землей, и так же левой ногой вгонял его поглубже. И тем же широким, плавным движением выбрасывал землю наверх.
Сосед орудовал лопатой вроде бы не спеша, и Бабушкин легко включился в этот ритм.
«Копать – оно, конечно, вольготней, чем арбузы грузить, – подумал Бабушкин. – Там ты – в цепочке, ни на секунду не отвлекись. Чуть запнешься – сразу всех сбил. А тут как-никак сам себе хозяин».
Однако прошло всего с полчаса, и Бабушкин вдруг почувствовал – задыхается. Даже странно: копал будто бы неторопливо, а сердце вот гремит взахлеб. Набат. И главное, нет воздуха. Нечем дышать. Будто замурован ты в куцем и душном, глубоком, как могила, подполе.
Это здесь-то, на привольном днепровском берегу?!
«Вот номер!» – удивился Бабушкин.
Ему, рабочему человеку, с четырнадцати лет стоящему у тисков, это было втройне обидно.
«Как же так? – мысленно, с горечью, повторил он. – Неужто сдаю?»
Это он-то, который, бывало, по двое суток не выходил из цеха?..
Бабушкин выпрямился, глубоко, всей грудью вобрал воздух. Выдохнул. И снова широко, до предела раздул легкие.
Так он делал по утрам в тюрьме. Дыхательные упражнения по Мюллеру.
«Ничего, – решил. – Еще три минутки – и все наладится».
Но тут рядом он вдруг увидел старшо́го.
Тот стоял наверху, на краю котлована, острая его бородка торчала, как штык. И был этот штык нацелен прямо в Бабушкина. А рот, как всегда, приоткрыт. И скривлен влево. Ухмыляется, что ли?
Иван Васильевич снова налег на лопату. Сердце гулко бухало, но он выкидывал наверх землю, порция за порцией.
«Только не торопись. Так… Размеренно… Раз… и два… и три…»
Старшо́й постоял, поглядел, опять высморкался, громко, будто выстрелил, и ушел.
Бабушкин воткнул лопату. Стоя, прислушался к себе. Сердце билось еще непривычно часто, неровно, толчками, но все-таки не как прежде, спокойнее.
«С непривычки, что ль?» – подумал Бабушкин.
И еще шевельнулась догадка: «К тому ж – не ел нынче».
Встал спозаранку. Паша еще спала. Выпил кислого молока из крынки и на цыпочках вышел из комнаты.
Да, на пустой желудок не очень-то поковыряешь лопатой.
Вскоре он снова стал копать.
Прошло часа два.
Опять подошел старшо́й. Долго стоял, прислонясь спиной к дереву, курил, хитренькие глазки свои не сводил с новичка.
У Бабушкина уже нещадно ломило руки, спина стала как деревянная. А пот заливал глаза. Но Иван Васильевич старался не показывать виду.
Да, хорошо б так вот – стоять, привалившись усталой спиной к теплому, ласковому стволу березки, стоять неподвижно, ни о чем не думая, расслабленно кинув руки.
Но Бабушкин копал. Копал и копал. И старался, чтоб старшо́й не заметил, как тяжко, с клекотом рвется дыхание из его горла и как лихорадочным ознобом дрожат руки.
«Неужто свалюсь? Именно сейчас… Когда подвернулась работенка. Нет, нет…»
И он снова копал. Из последних сил. И чувствовал: вот сейчас – каюк. Вот сейчас.
Он дышал рывками и словно давился этими короткими глотками воздуха. А сердце било прямо в ребра, тяжело, гулко, будто какой-то великан сидит там внутри и остервенело дубасит кулаком по грудной клетке.
И вдруг… Вдруг стало вроде бы полегче. Бабушкин сперва даже не поверил… Нет, и впрямь, словно бы спина не такая каменная и руки не так дрожат…
В спорте это называют «вторым дыханием». Так бегун, пробежав шесть или семь километров, чувствует, что ноги подкашиваются, судорожно открытый рот не может захватить воздуха, и кажется, вот сейчас умрешь. Прямо так, на бегу… И хочется только свернуть с гаревой дорожки, упасть в траву и лежать, лежать, лежать… Целый век…
Но опытный бегун не сдается. Собрав все свое мужество, он продолжает бег. И вот проходит «мертвая точка». И снова откуда-то, словно чудо, появляются силы, свинец отливает от ног, бешеное сердце утихомиривается.
Но Бабушкин никогда не слышал о «втором дыхании». Да и вообще в те далекие годы спортом занимались лишь редкие смешные чудаки.
С удивлением прислушивался Бабушкин к себе. И руки вроде бы стали тверже. И дышится ровней…
А вскоре старшо́й крикнул:
– А ну, орлы! Обид!
Бабушкин еще нашел в себе силы: сам, без помощи соседа, который протягивал ему руку сверху, вылез из котлована.
Вылез и сразу сел. Но теперь это было уже не опасно. Все землекопы – вся артель, девять человек – сидели и лежали на берегу.
А земля была такая мягкая, прогретая осенним солнцем, такая душистая. И с Днепра веяло таким бодрящим легким ветерком.
Вскоре из ближайшего трактира притащили целый котел с варевом, и все землекопы, неторопливо прошагав к реке и так же не спеша ополоснув руки, шеи, лица, стали хлебать густые, наваристые щи.
Всем досталось также по большому куску мяса.
А потом трактирный мальчик еще приволок в мешке три огромных арбуза.
После такого обеда Бабушкин почувствовал себя снова здоровым и сильным.
Одно только плохо: очень хотелось спать.
Но оказалось – и это не беда. Спать хотелось всем.
И все улеглись тут же, прямо на берегу, подложив под голову пиджаки.
…Старшо́й поднял артель через час.
И опять Бабушкин копал.
Теперь он уже чувствовал себя уверенней. Да и поел и отдохнул на славу.
Но все-таки вскоре ноги опять отяжелели, а плечи стало так ломить – ну, хоть бросай лопату.
Однако Бабушкин не бросил.
«Глупости, – строго сказал он себе. – Не барин. Потерпишь».
Он копал и старался думать о чем-нибудь хорошем. О Паше, например. И как обрадуется она, когда принесет он вечером деньги. И как засветятся изнутри, из глубины, ее большие серые глаза.
Старшо́й теперь часто подходил к тому месту, где копал Бабушкин. Видимо, решал: брать новичка на постоянно в артель или нет?
«Как пробу сдаю», – подумал Бабушкин.
Прошел час, другой…
Опять стало невмоготу. Так, вот сейчас свалишься.
«Ну, ну… Ты это брось, – хмуро внушал себе Бабушкин. – Ишь разнюнился…»
И он упрямо орудовал лопатой, пока старшо́й не крикнул:
– Шабаш!
Вылез из котлована. Его шатало, как пьяного.
Привалившись к той теплой, ласковой березке, у которой раньше стоял старшо́й, Бабушкин ждал, когда землекопы разбредутся по домам.
Тогда он ляжет вот тут же, у березки. И будет долго-долго лежать…
Впрочем, не очень долго. Сейчас уже шесть часов. А в семь назначена встреча с двумя крановщиками с Трубного. А в девять – кружок в депо.
И все-таки час, целый час, длинный, как этот день, будет он лежать вот здесь, у березки…
Землекопы расходились медленно.
А старшо́й, казалось, и вовсе не собирался уходить.
Когда возле котлована остался только Бабушкин, старшо́й подошел к нему.
– Так, – сказал. – Ну и як?
Бабушкин пожал плечами. Что тут ответишь?
– Да… – протянул старшо́й. Хитрые глазки его прищурились. И рот был твердо сжат. – Чудной ты, дядю…








