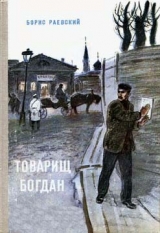
Текст книги "Товарищ Богдан (сборник)"
Автор книги: Борис Раевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц)
«Николай Петрович»

На Семянниковском заводе работал пожилой токарь Фунтиков. Его называли «патриархом» за окладистую русую широкую бороду и низкий, густой бас. Фунтиков был высокий, широкий в кости. В молодости он, наверно, был здоровяком, но теперь уже много лет глухо кашлял. Зимой и летом он ходил в одном и том же легком, давно уже потерявшем цвет, «подбитом ветром» пальто.
Бабушкин чувствовал, что Фунтиков исподволь присматривается к нему. Но зачем?..
Однажды он увидел, как «патриарх» о чем-то беседует с Ильей Костиным.
– Что за секреты? – спросил у Ильи Бабушкин.
Обидно, что его друг что-то скрывает от него.
– Подрастешь – узнаешь, – отшутился тот.
В субботу в цехе Фунтиков подошел к Ивану и спросил:
– В воскресенье ваша «партия» работает?
– Нет, гуляем, – ответил Бабушкин, не понимая, что от него нужно «патриарху».
– На танцульку, наверно, пойдешь? – насмешливо прогудел Фунтиков.
– Может быть, – вызывающе отрезал Бабушкин.
– На-ко вот, почитай лучше, – сказал Фунтиков, украдкой передавая молодому слесарю сложенный вчетверо листок. – Авось поумнеешь!
Бабушкин сунул бумажку в карман. Но ему не терпелось быстрее узнать, что в ней написано. Он положил рашпиль, которым опиливал паровозную деталь, и пошел в «ретирад»: так на заводе называли уборную.
Бабушкин читал, и холодные капельки пота выступали у него на лбу: Это была подпольная листовка. Неизвестный автор резко и зло высмеивал попов, царских чиновников и самого царя.
Столько гнева и возмущения было в листовке, что казалось, она, как динамитный патрон, вот-вот взорвется. Слова ее сразу запали в сердце Ивана. Но он понимал: найдут у тебя такую бумагу – каюк!
В понедельник Бабушкин подстерег Фунтикова на заводском дворе, возле кучи металлического лома.
– Дайте еще что-нибудь… Такое же… – робко попросил он, возвращая листовку.
– А зачем? – испытующе усмехнулся «патриарх».
– Хочу правду знать, – неуверенно ответил Иван.
– А узнаешь правду, что будешь делать?
Бабушкин растерялся. Об этом он еще не думал.
Фунтиков закашлялся, насмешливо нахлобучил Ивану шапку на самые уши и ушел.
«Эх, видно, не верит он мне!» – с горечью подумал Бабушкин. Он хотел было рассказать обо всем Илье, но передумал: а может, нельзя это говорить даже такому близкому другу?
Через несколько дней Фунтиков пригласил Ивана в воскресенье зайти к нему домой.
Бабушкину жаль было пропускать занятие в вечерней школе, но еще больше хотелось побывать у «патриарха». Интересно, зачем тот зовет его?
Иван надел свою выходную черную «тройку», белую рубашку со стоячим накрахмаленным воротничком, начистил до блеска сапоги. После Фунтикова он хотел еще зайти в сад, на танцы.
У «патриарха» собралась небольшая группа рабочих.
Фунтиков сам открыл дверь молодому слесарю, провел его в полутемную комнату, где, кроме стола, табуреток, шкафа, почти ничего не было, долго и молча оглядывал его новый костюм.
– Ишь вырядился! – насмешливо прогудел «патриарх». – Или свататься собрался?
Рабочие засмеялись.
Иван обиделся.
– А что – мастеровой обязан ходить в рвани? Засаленный и грязный? – вспыхнув, воскликнул он.
«Патриарх» сразу стал серьезным:
– Грязь, конечно, не обязательна. Однако и щегольство сознательному рабочему не к лицу. Есть дела маленько поважнее, чем надраивать штиблеты…
Вскоре пришел еще один токарь, которого Бабушкин часто встречал на заводе, а за ним вошел Илья Костин. Здороваясь, он смешно подмигнул удивленному Ивану, но ничего не сказал.
Началась беседа.
Говорили о порядках на заводе, потом Фунтиков достал из-за иконы подпольный листок и прочитал его.
Бабушкин с жаром слушал.
На следующее занятие Иван пришел уже не такой расфранченный, но нарочно в том же выходном костюме. «Патриарх» покосился на него, но промолчал.
Вскоре случилась беда: Фунтикова арестовали.
Однако кружок не распался. Им стал руководить рабочий Петр Морозов. Собирались поздно вечером, после работы. Все приходили усталые, измученные. Кто-нибудь садился у керосиновой лампы и читал вслух. Остальные слушали. Но как бы ни была интересна книга, постепенно глаза у всех сами собой начинали слипаться. Почитав два-три часа, кружковцы частенько засыпали тут же, едва успев спрятать запрещенную книгу. Была уже полночь. А в пять утра надо было снова вставать, спешить на работу.
Через несколько недель был арестован и Петр Морозов.
«Неужто кружок развалится?» – тревожился Бабушкин.
Но рабочие решили не отступать. Руководить кружком стал слесарь Василий Шелгунов.
Он был всего лет на шесть старше Бабушкина, но Иван чувствовал себя рядом с ним мальчишкой. И, конечно, не потому, что Шелгунов был высокий, широкоплечий здоровяк, которому Бабушкин едва доставал до подбородка. Нет, Иван, как и другие рабочие, очень уважал Шелгунова за его прямоту, начитанность, за огромную выдержку и силу воли.
У Шелгунова были больные глаза. Внешне ничего не заметно: глаза как глаза. Но по временам Шелгунова поражала острая, режущая боль. Все вокруг сразу мутнело, будто покрывалось туманом. Нестерпимая боль пронзала не только глаза, но и виски, словно каленым обручем стягивала лоб. Так продолжалось дня два-три. Шелгунов бродил полуслепой. Потом боль вдруг исчезала, зрение восстанавливалось. Другой бы давно пал духом, ныл, тосковал, бросил кружок. Но Шелгунов держался так стойко, что большинство товарищей даже не догадывалось о его тяжелом недуге.
Бабушкин хотел походить на Шелгунова и, сравнивая себя с ним, замечал много общего. И в самом деле – и тот, и другой родом из крестьян. Оба работают с малолетства: Бабушкин – у купца, потом – в торпедных мастерских, Шелгунов – на чугунолитейном заводе, потом – в харчевне, в переплетной мастерской. Оба учились в вечерней школе, оба слесари.
«И даже, как нарочно, у обоих больные глаза», – усмехаясь, думал Бабушкин.
…Кружковцы все время мечтали найти опытного лектора. Слесарь Шелгунов, хотя и был начитан, все-таки не мог всего объяснить.
– Хорошо бы кого из интеллигентов пригласить, – предложил Илья Костин. – Они народ башковитый. Пускай по науке объяснят что к чему, зачем и почему!
– С интеллигентами одна морока, – возразил угрюмый, пожилой рабочий. – Я вот был месяц назад на собрании. Интеллигент какой-то выступал, сам по обличию вроде профессора. Хлипкий, борода клинышком, а на голове ермолка, чтобы, значит, лысину не застудить. Вынул он бумажки, стал читать. И так нудно читает, ну, прямо в сон вгоняет. Ни одного живого слова. Уткнулся в бумажку и гудит, гудит, ровно шмель…
– Я тоже надысь слушал интеллигента, – усмехнулся рябой металлист. – У него от учености аж заскок. Так мудрено и быстро чешет – ну ничего не понять! И слова подряд все нерусские. Постой… как это? «Транс-пент-ден-тальный», «перман-тент-ный»… Язык сломаешь! Куда нам, с нашим понятием, разобраться!
– Нет, друзья, – возразил Шелгунов. – Интеллигенты один другому не чета. В лепешку расшибусь, а найду хорошего лектора.
Через несколько дней Шелгунов, встретив Бабушкина и Костина, отвел их в сторону и радостно шепнул:
– Ну и лектора я раздобыл! Ума – палата!
Вскоре уже все кружковцы знали: на следующее занятие придет новый руководитель. Горячий, увлекающийся Шелгунов, не скупясь на слова, так расхвалил нового лектора, что рабочие с нетерпением ждали его.
– Собрание проведем у тебя. Ладно? – сказал Шелгунов Бабушкину.
Иван кивнул. Он теперь лучше зарабатывал и снимал большую комнату, что было очень удобно для кружка.
…Наступил долгожданный вечер. На дворе – грязь по щиколотку. Промозглый осенний ветер гудит в трубах, рябит лужи, на облезлом деревянном заборе громыхают заплаты из ржавых обрезков железа.
Иван тщательно убирает комнату. Он торопится, хотя до начала занятий еще больше часа.
Веник так и мелькает в его руках. Из комода Бабушкин достает чистую скатерть, кладет ее на стол, разглаживает, ставит чашки, закуску.
Потом снимает с постели синее байковое одеяло. Берет молоток, гвозди, плотно прикрепляет одеяло к окну. Подходит к книжной полочке – за последний год он составил себе небольшую библиотечку – выравнивает, поправляет книги.
Время тянется медленно. Бабушкин выскакивает в сени, доливает керосин в лампу.
Больше, кажется, делать нечего. Он садится на табурет, берет книгу. Но не читается: с нетерпением ждет он «гостя».
За полчаса до занятий все кружковцы уже были в сборе.
– Подождем – увидим! – говорили рабочие. – Уж не увлекся ли Василий Андреевич? Не слишком ли перехвалил лектора?
Бабушкин волновался, пожалуй, больше всех. Это было первое собрание на его квартире, и ему хотелось, чтобы все прошло как можно лучше.
Точно в условленное время раздался звонок. Бабушкин и Шелгунов заспешили к двери. Вошел невысокий молодой человек лет двадцати трех, двадцати четырех, с рыжеватой бородкой, в потертом пальто и фуражке с помятым козырьком.
– Здравствуйте, товарищ Бабушкин, – сказал он, пожимая руку молодому слесарю, и представился: – Николай Петрович!
Говорил он слегка картавя.
Лектор вытер ноги о половик, снял фуражку и частыми, быстрыми шажками прошёл в комнату. В углу он разделся, поздоровался со всеми и сразу шагнул к полочке с книгами. Пока он просматривал книги, шестеро рабочих – члены кружка – переглядывались.
«Где же ума палата? – подумал Бабушкин. – Ведь совсем молодой! Всего года на три постарше меня».
Очевидно, такие же мысли возникли и у остальных кружковцев.
Слишком уж юным казался лектор. Правда, у него был огромный выпуклый лоб, а на голове уже поблескивала лысина, но все-таки рабочие, особенно пожилые, отнеслись к нему с недоверием.
Между тем лектор быстро рассортировал книги на полочке, разбив их на две стопки.
– Вот эти – Золя, Некрасов, Гоголь – хороши, – сказал он Бабушкину, – а эти… – указал он на вторую тощую стопку. – Вы читали?
– Еще не успел, – смутился Бабушкин.
– Вот и отлично, – обрадовался лектор, поблескивая своими живыми, с хитринкой, глазами. – «Хозяин и работник», «Сто один способ разбогатеть», «Как по звездам узнать свою судьбу»… Эти книги читать – мозги засорять! Выбросьте их – и дело с концом.
И Николай Петрович, сняв тощую стопку книг с полочки, решительно отложил их на подоконник.
Рабочие переглянулись.
– Товарищи, – сказал Николай Петрович, поглаживая маленькую рыжеватую бородку. – Я прочитаю вам несколько лекций. Коротко изложу политическую экономию по Марксу. Ну конечно, и практические наши дела не обойду…
– Началось… – шепнул Бабушкину рябой металлист. – Верно говорят: с интеллигентами – одна морока. Сразу Маркса тычет. А я этого Маркса целую ночь читал – ни шиша не понял!..
Бабушкин толкнул его в бок. Все затихли. Лекция началась.
Говорил Николай Петрович необычно. Словно он и не лекцию читал. Никаких бумажек у него не было. Он то сидел за столом, то вставал и ходил по комнате. Говоря, он энергично «рубил» воздух правой рукой. Часто задавал вопросы рабочим, да обязательно такие, что возникал спор. Все наперебой высказывали свое мнение; Бабушкин волновался, думая, что это непорядок. А лектору словно даже нравились горячие высказывания рабочих, и он еще больше подзадоривал их. Его, казалось, вовсе не смущает, что лекция стала уже не лекцией, а чем-то вроде беседы.
Говорил он очень просто, примеры приводил такие, словно сам работал на Семянниковском заводе и знал там всю подноготную.
Рябой металлист сидел, широко раскрыв глаза. Оказывается, эта самая экономия Маркса – вовсе не такая уж мудреная. Если толково объяснить, – все понятно.
А когда лектор заговорил о штрафах, стало совсем шумно.
– Ведь это возмутительно, – сказал Николай Петрович. – За что только не штрафуют?! За «громкий разговор» – штраф! Не в те ворота вошел на завод – плати рубль. Даже за «невеселый вид» – и то штраф!..
– Точно! – подхватил Костин. – Или мастеру не угодил – напишет: «ленился». И опять выкладывай целковый!..
Со всех сторон слышались реплики, восклицания.
– И у нас вот каблук на сторону посадишь – гони монету, – сказал низенький усатый рабочий-обувщик и с досадой махнул рукой.
– Ну, если каблук на сторону посадил, – тогда штраф, по-моему, правильный, – усмехнулся лектор, и в глазах его заплескались, забегали веселые искорки.
Рабочие засмеялись.
Костин стал рассказывать длинную историю о том, как одному котельщику недавно отдавило ногу в цехе, но его перебил пожилой токарь, тоже желавший немедленно изложить какое-то происшествие.
– К порядку, товарищи! – постучал ладонью по столу Шелгунов.
– Ничего, ничего, – улыбнулся Николай Петрович. – Так еще лучше. Я ведь пришел не только учить, но и учиться. Мне все это очень интересно.
Лектор обладал особым даром сразу привлекать к себе людей. Было в нем что-то такое, что раскрывало сердца, развязывало даже самые «тугие» языки, толкая людей высказать свое самое сокровенное. Чувствовалось, что Николай Петрович очень образованный, но сейчас, в кругу рабочих, он не старался блеснуть своими знаниями, как многие другие интеллигенты, держался просто, говорил очень понятно.
…Поздно ночью кончилось занятие. Рабочие расходились взволнованные.
– Вот это лектор! – перешептывались они, надевая пальто и порознь покидая квартиру.
Сам Иван был взволнован больше других. Николай Петрович так просто и понятно разъяснил политику заводчиков, так четко показал, что надо делать рабочим, что у юноши руки чесались от желания тут же приступить к делу.
Николай Петрович, сопровождаемый Шелгуновым, покинул квартиру последним.
– Спасибо за приют, Иван Васильевич! – тепло сказал он на прощанье Бабушкину.
Молодой слесарь крепко пожал ему руку.
Была уже ночь, и завтра надо вставать до рассвета и спешить на завод. Но Иван не мог уснуть.
Долго ворочался в постели, все стараясь представить себе, чем занимается Николай Петрович, где разыскал его Шелгунов. Вспоминал умный прищур его глаз, мягкий голос, энергичные жесты правой руки и лишь под утро заснул.
С тех пор Бабушкин не пропускал ни одного занятия в кружке Николая Петровича.
Однажды Иван пришел к Шелгунову на занятие необычно взбудораженный. Был он в теплой ватной куртке, на правом боку чернели две дыры, пахло паленой ватой. Кепка на нем была смята, козырек сломан.
– Что у нас на заводе творится – страсть! – возбужденно воскликнул он. – Бунт! Взаправдашный бунт!
– Да в чем дело? Рассказывай чин по чину, – строго перебил его Шелгунов.
У Николая Петровича сразу сузились, посуровели глаза. Ему тоже не терпелось быстрее узнать подробности, но он не торопил разгоряченного Ивана.
Бабушкин скинул куртку, провел рукой по лицу – на щеке сразу появилась черная полоса сажи – и сел.
– Значит, так, – немного поостыв, сказал он. – Скоро рождество, а хозяин получку задержал. Наши рабочие (а у нас мастеровых-то – три тысячи!) вместе с женами и с детьми часа два на морозе стояли. А денег все нет и нет. Тут кто-то не вытерпел – раз палкой по фонарю! Потом другой – бац камнем в окно проходной! А двое пареньков взобрались на заводские ворота и ломом сбили чугунного двуглавого орла.
– Ну, а вы? Вы-то что делали? – хмуря брови, в упор спросил Бабушкина Николай Петрович.
– Да что я один?! Разве что могу?! – смутился Бабушкин. – Шнырял я в толпе, уговаривал самых горячих, да не послушались.
– Дальше, дальше рассказывай, – перебил Бабушкина нетерпеливый Шелгунов.
– Ну вот. Потом народ к управляющему хлынул. А его дом стоит на проспекте, темный, запертый. Кто-то крикнул: «Подбросить ему огонька!»
И пошло! Но тут пожарные примчались, стали тушить дом. Рабочие не дают. Тогда брандмейстер приказал самих рабочих поливать. Представляете?! Мороз лютый, а тут ледяной водой окатывают, да еще казаки прискакали да городовые… Усмирили бунт.
– Так. А что же вы думаете теперь предпринять? – обратился Николай Петрович к Бабушкину.
– Листок! Вот что! Немедленно издать листок! – решительно выкрикнул Иван.
Николай Петрович, откинувшись на спинку стула, внимательно и даже чуть-чуть удивленно оглядел молодого слесаря.
– Это вы очень хорошо догадались, Иван Васильевич, – радостно сказал он. – Необходим листок. И сейчас мы с вами составим его. Время дорого.
Бабушкин, смущенный похвалой учителя, сел к столу и, по просьбе лектора, вторично подробно рассказал о «бунте».
Вместе с Николаем Петровичем он тут же набросал гневные строчки листовки. Вернее, писал Николай Петрович, а Бабушкин подсказывал ему подробности.
Вскоре листок был готов.
Бабушкину особенно понравилось одно место в листовке, придуманное Николаем Петровичем:
«Знаете, есть такая игрушка: подавишь пружину, и выскочит солдат с саблей. Так оно вышло и на Семянниковском заводе, так будет выходить везде: заводчики и заводские прихвостни – это пружина, надавишь ее разок, и появятся те куклы, которых она приводит в движение: прокуроры, полиция и жандармы. Возьми стальную пружину, надави ее разок да отпусти – она тебя же ударит, и больше ничего. Но всякий из нас знает, что если постоянно, неотступно давить эту пружину, не отпуская ее, то слабеет ее сила и портится весь механизм, хотя бы и такой хитрой игрушки, как наша».
«Хорошо сказано, – думал Бабушкин. – В самом деле, ежели постоянно давить на заводчиков, – не выдержат. Сломается игрушка».
…Листовки переписали несколько раз. Они получились большие. Каждую сшили в виде маленькой тетрадки. Бабушкин тайком рассовал их по мастерским Семянниковского завода. На следующий день он с радостью видел, как рабочие украдкой читают прокламации.
«Не пропала моя работа!» – думал он.
Но всего ее значения молодой слесарь, конечно, не мог понять. Он, наверно, лишь рассмеялся бы, если бы ему сказали, что этот наспех написанный, неказистый листок, составленный им вместе с Николаем Петровичем, потом будет разыскиваться учеными-историками, храниться в музеях, перепечатываться в учебниках, потому что этот листок был первым, самым первым боевым листком в России.
А еще больше удивился бы он, если бы знал, что Николай Петрович – такой простой, в поношенном пальто, с рыжеватой бородкой и лысиной, с живыми, лукаво поблескивающими глазами и чуть картавым голосом – вовсе не Николай Петрович, а будущий вождь революции, гениальный Владимир Ильич Ленин.

«Ваш товарищ, рабочий»

В Петербурге, в просторном светлом кабинете министра внутренних дел Горемыкина, перед огромным полированным письменным столом стоял навытяжку жандармский генерал. На паркете, натертом до блеска, как в зеркале, отражалась его почтительно склоненная голова и плечи, на которых сверкали густые серебряные эполеты.
– Опять листовки! – брезгливо оттопырив нижнюю губу, кричал Горемыкин. – Доселе такого не было у нас в столице! И во всей империи, слава богу, не водилось! За что же ваши филеры [10]10
Шпики.
[Закрыть]получают деньги?
Генерал молча, почтительно слушал министра. Он знал: когда его высокопревосходительство в гневе, возражать нельзя.
– И что это за «Союз»? – Горемыкин длинным холеным ногтем мизинца указал на четко набранную курсивом подпись под листовкой: «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» [11]11
В 1895 году Владимир Ильич в Петербурге объединил более двадцати революционных кружков в «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», который сразу развил бурную деятельность: выпускал прокламации, организовывал стачки.
[Закрыть]. – Почему по сию пору не выловлены главари? Отсечь голову, – Горемыкин сделал такой жест двумя пальцами, будто ножницами стриг воздух, – сразу настанет тишина! И эти прокламации, – министр ткнул пухлой рукой в лежащие на столе листки, – выведутся начисто!
От резкого движения министерской руки два листка упали на пол. Задохнувшись от гнева, Горемыкин замолчал и, переводя дух, откинулся на спинку мягкого кресла.
Момент был удобный. Генерал, тяжело опустившись на колено, поспешно поднял листки с паркета, положил их на самый краешек огромного стола, выпрямился и щелкнул серебряными шпорами на тонких лакированных сапогах, облегавших ногу, как чулки.
– Так точно, ваше высокопревосходительство! – превозмогая одышку, сказал он. – Агентурные данные уже собраны. Главари будут выловлены и… – Генерал, повторяя жест министра, сделал в воздухе движение двумя пальцами, будто стриг ножницами.
– Когда? – спросил министр.
– Сегодня в ночь, ваше высокопревосходительство. И ручаюсь – листков больше вы не увидите. Разве что летом, на деревьях, – угодливо подхихикнул генерал.
…На рассвете в окно к Ивану постучали. Он вскочил с постели, отдернул занавеску. На улице стояла пожилая женщина, у которой квартировал Илья Костин. Из-под шерстяного платка у нее выбилась прядь волос, пальто было не застегнуто, лицо бледное.
Чуя недоброе, Иван впустил ее.
– Арестовали… Илью арестовали, – испуганно шептала хозяйка.
Бабушкин быстро оделся и поспешил на работу.
С Семянниковского завода его недавно уволили. Слишком насолил начальству молодой слесарь. Глеб Максимильянович Кржижановский помог ему устроиться сторожем в лабораторию Александровского завода. Иван не унывал: сторож так сторож! Даже и лучше: времени свободного больше – и для вечерней школы, и для книг, и для кружка.
А главное – лабораторией руководил сам Глеб Максимильянович – боевой помощник Владимира Ильича. Это очень радовало Ивана.
И сегодня, придя в лабораторию – большую комнату с высоким сводчатым потолком, тесно заставленную длинными черными столами, с микроскопами, различными приборами, спиртовками, колбами, – Иван нетерпеливо ждал Кржижановского.
Но время шло; давно проревел густой, басовитый заводской гудок, от которого тряслась и жалобно звенела химическая посуда в лаборатории. Обмениваясь последними новостями и шутками, принялись за работу лаборанты и ассистенты, а аккуратный Глеб Максимильянович что-то запаздывал.
«Неужели и он?..» – тревожно подумал Иван, но тотчас постарался отогнать мрачные мысли.
Нет, конечно, сейчас откроется дверь и по-обычному торопливо не войдет, а «влетит» всегда бодрый, деятельный заведующий лабораторией.
Но прошло полчаса, час… Кржижановский не явился.
Вскоре товарищ по «Союзу борьбы» сообщил Ивану: ночью произведены повальные аресты.
В первый момент Бабушкин даже растерялся. Как же теперь? Без Николая Петровича, без Шелгунова, без Кржижановского, без многих других «стариков» (так рабочие называли опытных революционеров – Владимира Ильича и его соратников).
Кто будет руководить борьбой, к кому обратиться за советом и помощью в трудную минуту?
Вскоре и на завод просочились тревожные слухи о ночной облаве. В курилках, в уборных, возле станков и тисков то и дело звучал возбужденный шепот. Бабушкин прислушался к одному такому разговору.
– Государственных преступников изловили, сицилистов каких-то, – шептал пожилой усатый слесарь соседу. – Фальшивые монетчики, говорят. Золотые десятки [12]12
Десятка– десятирублевая золотая монета.
[Закрыть]из меди чеканили…
Бабушкин со злостью обернулся к усатому слесарю. Забыв все правила конспирации, он чуть не вмешался в разговор. Эх, отсталость, темнота наша! Но Иван сдержал себя и ушел в курилку. Там тоже было неспокойно.
– Преступников спымали, – снова услыхал Иван. Это говорил низенький клепальщик. – Подкоп под царский дворец вели. Уж я знаю…
– Откуда такие точные сведения, голова? – сердито вмешался Бабушкин.
Но тут в курилку вошел мастер, и Бабушкин, прервав разговор, незаметно вышел.
Горько и обидно было ему. Ведь сейчас особенно важно толково объяснить рабочим, почему жандармы посадили в тюрьму Николая Петровича и других революционеров. Это его первый долг, святая обязанность.
«Справлюсь ли я? Смогу ли растолковать что к чему?» – беспокойно думал Бабушкин, испытующе оглядывая соседей.
Сам Бабушкин был не слишком грамотен. А главное – не умел складно говорить. Сколько раз бывало: начнет что-нибудь доказывать, разгорячится, мыслей в голове много, а слов – нет.
«Как немой», – злился он.
День тянулся бесконечно. Иван то выходил из лаборатории, бесцельно слонялся по заводу, погруженный в свои тяжелые думы, то возвращался, начинал лихорадочно что-нибудь делать. Но все валилось из рук.
Стал помогать лаборанту мыть химическую посуду – уронил и разбил колбу. Стал вытирать подоконники – опрокинул ведро с водой.
Под вечер Бабушкин отпросился с работы и помчался в школу.
Стояли сильные холода. Улицы, наполненные белым туманом, были словно чище: мороз сковал прозрачным ледком вечную грязь Невской заставы, затянул выбоины, щербатины мощеных и немощеных улиц и, казалось, заново покрасил линялые дома и заборы.
В школьном коридоре Бабушкин встретил Крупскую.
Учительница была бледна, под глазами у нее круги.
Иван знал: она – первая помощница Ильича.
– Неужели Николая Петровича взяли? – отведя ее в сторону, украдкой шепнул Бабушкин.
Он понимал – это правда, но сердце не хотело верить.
Надежда Константиновна кивнула.
– Необходимо срочно что-то предпринять, – сказала она.
– Я уже подумал об этом, – взволнованно зашептал Бабушкин. – На заводах кривотолки идут об арестах. Народ-то несознательный. Надо листовку выпустить!
Учительница с удивлением и гордостью поглядела на Ивана. Вспомнила, как всего года полтора назад пришел он в школу.
«Темным парнем был, в политике совсем не разбирался, – подумала Крупская. – А теперь – смотри-ка ты!»
– Прокламация сейчас вдвойне необходима, – продолжал горячо шептать Бабушкин. – Пусть жандармы видят: «Союз борьбы» продолжает действовать. Всех не переловишь!
Бабушкин ушел домой. Через три часа он вернулся. Как раз кончился последний урок. Иван дождался Надежды Константиновны и, отведя ее в угол класса, смущенно шепнул:
– Вот! Я написал…
Тут только Надежда Константиновна увидела: Бабушкин протягивает ей листок, вырванный из тетрадки.
«Что такое социалист и политический преступник?» – прочитала учительница.
– Что это? – спросила она.
– Листок, – робея, ответил Бабушкин. – Я написал. Сам. Плохо, наверно? Но сердце горит, невмоготу молчать…
Через несколько дней, вечером, в маленькой квартирке одного из революционеров Крупская собрала уцелевших от ареста «стариков».
– Иван Бабушкин предлагает опубликовать листовку, – тихим, очень изменившимся голосом сказала Надежда Константиновна. За эти несколько дней она осунулась, посерела. Крупская достала листок, расправила его ладонью и прочитала:
«Что такое социалист и политический преступник?
Братья, товарищи, как тяжело видеть, что мы так низко стоим в своем развитии. Большинство из нас даже не имеет понятия о том, что такое значит „социалист“. Людей, которых называют „социалистами“ и „политическими преступниками“, мы готовы предать поруганию, осмеять и даже уничтожить, потому что считаем их своими врагами. Правда ли, товарищи, что эти товарищи – наши враги?»
Крупская на миг оторвала глаза от бумажки и оглядела «стариков». Все слушали внимательно.
«Простые, взволнованные слова листовки дойдут до сердца рабочих», – подумал пожилой, седой врач, опытный подпольщик.
Лица остальных революционеров тоже выражали одобрение.
Крупская продолжала читать:
«Социалисты – это люди, которые стремятся к освобождению угнетенного рабочего народа из-под ярма капиталистов-хозяев; называют же их политическими, или государственными, преступниками потому, что они идут против целей нашего варварского правительства… Не будем же, братья, товарищи, поддаваться обманным речам тех, кто нас держит в тюрьме невежества… Силы наши велики, ничто не устоит перед нами, если мы будем идти рука об руку все вместе!»
Крупская перевела дыхание и прочитала подпись:
«Ваш товарищ, рабочий».
Листовка была одобрена.
…Министр внутренних дел снова вызвал к себе начальника жандармского управления. Генерал вошел в просторный кабинет почти на цыпочках. Он уже знал: будет разнос. Да еще какой! Утром на многих заводах опять появились проклятые листки. И откуда они взялись, когда Ульянов и другие главари – за решеткой? С ума сойти!
Не доходя трех шагов до стола министра, генерал остановился. Он ожидал, что сейчас снова будет крик, министр опять спросит, зачем они платят деньги сыщикам и охранникам… Но Горемыкин не кричал. Он молча указал усталыми, потухшими глазами на левый край своего огромного стола.
Там друг возле дружки лежали шесть прокламаций. И на каждой сверху было крупно напечатано:
«Что такое социалист и политический преступник?»
А внизу под каждой листовкой мелким курсивом было набрано: «Издано Петербургским Союзом борьбы за освобождение рабочего класса».
– Вы ведь уверяли, что этот «Союз» – в тюрьме, – хмуро съехидничал министр.
Генерал развел руками.
– Вот эта, – министр брезгливо указал пальцем на крайнюю листовку, – с Обуховского завода. Эта, – палец министра передвинулся к соседней листовке, – с фабрики Максвеля, эта – с Семянниковского, эта – с Торнтона. А эти две – с Александровского…
Горемыкин грозно посмотрел на жандармского генерала. Тот снова недоуменно развел руками.
– Очевидно, недобор, ваше высокопревосходительство, – виновато проговорил он. – Не всех взяли. У нас есть еще бунтовщики на заметке…
– Сегодня же арестовать! – приказал министр. – И чтоб больше этой пакости, – он указал на листовки, – я не видел!..
…Иван Бабушкин разделся и лег в кровать. Было уже далеко за полночь.
Ноги у Ивана ныли. Да и немудрено – немало пришлось нынче побегать. Он устроился поудобнее, поднял натруженные ноги на спинку кровати. Кровь отлила от ступней, стало немного полегче.
Лежа, Иван вспоминал только что кончившийся день. После работы он, как было условлено, встретился с Бердниковым – токарем с Семянниковского, потом сразу направился на квартиру к Феодосию Яковлеву – старому механику со Стеклянного завода.
Там уже собралось восемь «стекольщиков» – так в шутку называли рабочих Стеклянного завода. Руководитель этого кружка был арестован вместе с Владимиром Ильичем. Чтобы кружок не распался, Иван Бабушкин принял руководство на себя. С непривычки боязно было ему, да и не чувствовал он себя вполне подготовленным к такой работе. Даже голос «сел», когда Иван, придя на первое занятие кружка «стекольщиков», увидел шестнадцать глаз, внимательных, строгих, устремленных на него, ждущих толковых, ясных слов, ответов на все беспокойные думы. А может ли он дать эти ответы?
Но постепенно все наладилось. Вот и сегодняшнее занятие кружка прошло организованно и хорошо.
…Иван радостно потянулся, снял отдохнувшие ноги со спинки кровати. Вспомнил, что, забегавшись, не успел нынче пообедать, усмехнулся, подошел к шкафу, достал кусок колбасы, хлеб, поел. Потом снова лег.
Он уже задремал, когда на деревянном крыльце раздался четкий стук подбитых железными подковками жандармских сапог. Иван тотчас разжал сомкнутые веки. Нет, он не удивился. В душе он уже давно подготовился к встрече незваных гостей. Заспанная хозяйка еще не открыла дверь, с перепугу много раз переспрашивая, кто там да что нужно в такое позднее время, а Бабушкин уже встал, зажег керосиновую лампу, снова оглядел комнату. Нет ли какой нелегальщины? Ничего запрещенного в комнате не было. Уроки Владимира Ильича о конспирации пошли впрок.








