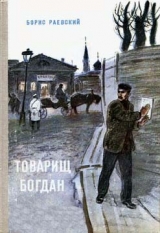
Текст книги "Товарищ Богдан (сборник)"
Автор книги: Борис Раевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 22 страниц)
Самое страшное

Самое страшное в ссылке – тоска. В этой гнилой, затерянной в болотах и снегах дыре тоска наваливается на ссыльного неожиданно. Тяжелая, как могильная плита. Грязно-серая, как верхоянское угрюмо нависшее небо.
И сразу начинает казаться, что все зря. Зря ты живешь на свете. Зря борешься с несокрушимым чугунным идолом – царем. Что всеми ты забыт. Что время остановилось. Что пять лет ссылки никогда не кончатся. И вообще – пошло все к черту.
Человек, захлестнутый тоской, сидит в дымной вонючей юрте, где пол земляной и крыша тоже земляная, сидит у камелька неподвижно, долгими часами не сводя тусклых глаз с огня.
Неделями не выходит из юрты.
Пропади все пропадом! Надоело. Хватит.
От камелька пышет жаром. И все же в углах юрты – иней. Еще бы! Ведь за стеной мороз такой – даже ртуть в термометре на доме стражника и та замерзла.
А тут еще верхоянская полугодовая ночь, которая тянется утомительно, как бессонница, и кажется, нет ей конца. Словно живешь ты в погребе. И тут и умрешь, в густой, непролазной этой тьме.
Самое страшное, что тоска заразительна. Она – как эпидемия. Перекидывается от заболевшего к здоровому и крушит наповал.
И вот уже ссыльные перестают ходить друг к другу. И вспыхивают какие-то мелкие, противные дрязги, ссоры. И одному не хочется видеть осточертевшее лицо соседа. А другому стало невмоготу даже слышать голос недавнего друга-товарища. А третий и вовсе запил. Пьет беспробудно уже вторую неделю.
– Да, – думал Бабушкин. – Скверно…
Он шел по вихляющей между юрт тропинке. Вокруг столько снега, что юрты почти не видны. Только по дымкам да кучам навоза и отличишь юрту от огромных сугробов.
А вокруг – тундра. Голая, без деревца. Вся засыпанная снегом. Ни кустика. Карликовые северные березки, стелющиеся возле самой земли, погребены так глубоко под снегом, будто вовсе и нет их.
Толстой варежкой Бабушкин прикрыл рот. Так и дышал – сквозь варежку. Мороз лютый, градусов пятьдесят. К такому привычка нужна. В первые дни, бывало, вдохнет Бабушкин, – и в грудь сразу словно струя расплавленного свинца. Кажется, насквозь прожигает. А плюнешь на таком морозе – слюна застывает на лету и падает на землю звонкой ледяшкой.
Идет Бабушкин по тропочке. А куда идет? И сам не знает.
Просто так.
«Прогулка, – Бабушкин хмуро усмехнулся. – Прелестная прогулочка!»
И впрямь трудно назвать прогулкой такой вот поход на свирепом холоде. Но не сидеть же безвыходно у огня?!
Шагает Бабушкин, и кажется ему, опять едет он на оленьих нартах. День за днем, день за днем. Говорят, Якутск – на краю света. Но от него до Верхоянска – еще тысяча верст. Тысяча пустынных, промерзших, унылых верст…
И вновь мелькают редкие «станки» да «поварни» – одинокие избы на пути этапа. Окоченевшие на лютом морозе ссыльные вваливались в «станок» и тут же засыпали. А утром конвоиры шашками расталкивали спящих. Пора. В путь.
Сколько же он тут, в ссылке? Бабушкин быстро прикинул – четырнадцать месяцев. Всего. А кажется, четырнадцать лет…
Да, проклятое место.
Идет Бабушкин, а на душе – пасмурно. И перед глазами все стоит гигантский факел. Полыхает, переливается, сверкает. Горит юрта.
Хотя уже несколько месяцев прошло с той поры, а Бабушкину все не забыть.
В той юрте жил ссыльный Фенюков. Жил тихо, как-то в стороне от всех. Молчаливый. И глаза у него – черные, глубокие, как ямы. И какие-то печальные. Такие печальные, что долго смотреть в них ну просто невозможно.
Но не жаловался Фенюков. Жил и жил. Три года прожил. Тихо. Неприметно.
И вдруг однажды ночью проснулись все. Треск, пламя, собачий лай, тревожный рев коров. Горит юрта Фенюкова.
Потом узнали: облил он керосином и себя, и юрту. И ноги сам себе сыромятным ремнем стянул. Крепко-накрепко. Чтоб в последний момент не струсить, не выскочить.
Так и сгорел.
А один из ссыльных потом записку у себя нашел:
«Прощайте, товарищи. Видно, не герой я… Не могу…»
Идет Бабушкин между сугробов. А перед глазами – пылающая юрта. Переливается в ночи, как огромный костер.
«Прощайте, товарищи…»
«Да, недоглядели, – думает Бабушкин. – И моя тут вина…»
Хотя, конечно, не он виноват, а жизнь ссыльная, проклятая.
Идет Бабушкин, хмурится.
Вспоминается ему Хоменчук. Только что был у него Бабушкин. Звал на прогулку.
Илья Гаврилович лежал на каком-то тряпье. Молчал. Лишь головой мотнул. Нет, мол. Не пойду.
Не понравился он Бабушкину.
Интеллигент ведь, умница. Университет окончил. И певун какой! Бывало, ссыльные соберутся, Хоменчук как заведет свои украинские песни – заслушаешься.
А как опустился… Зарос весь. Видно, неделю уже не брился, а то и две. И аккуратную курчавую бородку тоже теперь не узнать. Как метла.
А вокруг… И окурки. И горки пепла. И миска с остатками еды. И какая-то одежда навалом.
А главное – глаза. Безучастные. Тусклые. Словно глядит на тебя и не видит. И вообще – неинтересен ты ему. И не приставай. Скверные глаза.
«Как у Фенюкова», – Бабушкин покачал головой.
Ветер ударил ему в грудь. На миг даже задохнулся. Пришлось повернуться спиной к ветру и так переждать несколько минут.
«Да, надо что-то делать, – подумал Бабушкин, когда перед ним опять возникли тусклые, стеклянные глаза Хоменчука. – Но что?»
На следующий день среди ссыльных только и разговоров было о «пельменном пире».
Каждый ссыльный получил от Бабушкина приглашение. Оно было написано четкими печатными буквами на твердом квадратике картона. И обведено синей рамкой. Из всех цветных карандашей у Бабушкина сохранился только синий.
Утром Бабушкин зашел к Хоменчуку.
Как открыл дверь – в нос сразу шибануло затхлой вонью.
В юрте у якутов под одной крышей – и жилье для людей, и хотон-хлев. Разделяет их лишь тонкая переборка. И потому пронизывает всю юрту острый запах коровьей мочи, навоза. И от этого не спасешься.
Хоменчук по-прежнему лежал. Все такой же небритый. Помятый. И длинные космы спутанных волос наползают на лоб и на уши. Он был прикрыт какой-то старой, облезлой шкурой. Такой облезлой и засаленной, что даже не поймешь – медведь это? Или олень? Или вовсе – кабарга?
Из-под шкуры торчали ноги в торбасах [32]32
Торбаса– мягкая якутская обувь.
[Закрыть].
– Вот, – сказал Бабушкин. – Приглашаем вас, сеньор, на пир! – и протянул картонный квадратик.
«Сеньор», – не вставая, молча, взял квадратик, надел пенсне, прочел и так же молча сунул куда-то в тряпье.
– Насколько я понял, сеньор принимает приглашение?! – воскликнул Бабушкин. – Итак, вставайте!
– А зачем? – вяло протянул Илья Гаврилович. – Ведь пир-то в субботу? А сегодня что?
– Ха, – сказал Бабушкин. – До субботы еще три дня. Но ведь пельмени-то приготовить надо. А слуги у сеньора, да и у меня, все отпущены. Так что придется самим. В общем, организационный пельменный комитет постановил: всю подготовку пира возложить на Бабушкина и Хоменчука. Вставайте же, сеньор!
Организационный комитет ничего никому не поручал. Да и вообще комитета такого не было.
«Не поднимется», – подумал Бабушкин.
Но, как ни странно, Хоменчук, кряхтя, встал, натянул кухлянку.
Бабушкин даже удивился: как гладко все получилось!
Потом догадался:
«Видимо, привычка к партийной дисциплине сработала. Раз комитет постановил – все!»
Они пошли к Бабушкину.
Три дня возились с пельменями.
Надо было приготовить тесто. Мясо.
Слепить пельмени. Да не пять, не десять, а несколько сотен.
А тут еще выяснилось – перца нет. Ну, хоть караул кричи! Нет и нет.
– А если без?.. – робко предложил Илья Гаврилович.
– Пельмени без перца?! – возмутился Бабушкин. – Это – как пила без зубьев! Приказываю: достать перец!
Совсем загонял Хоменчука, но в конце концов тот все-таки раздобыл перец. И у кого?! У стражника!
И наконец наступила суббота.
Бабушкин с утра долго убирал «балаган» – так якуты называют юрту.
Земляной пол он подмел. Тщательно, как, наверно, никогда его здесь не подметали. Попросил у хозяина оленьи и коровьи шкуры, расстелил их на полу и на лавках. А несколько красивых соболиных шкурок повесил на стену.
Вместе с Ильей Гавриловичем камелек почистил. И шесток глиняный тоже почистил. И дров побольше подложил в камелек. Вернее, не подложил, а подставил. Потому что якуты дрова ставят. Вертикально, под самой трубой. Сперва это удивляло Бабушкина, потом привык. Вроде бы, так даже и лучше.
Вскоре собрались все ссыльные – четырнадцать человек.
На огне уже бурлил котел. С улицы Бабушкин внес мешок с пельменями. Они замерзли – хоть топором руби.
– Приглашаю к остуолу, – сказал Бабушкин.
Он теперь любил ввернуть якутское словечко.
«Остуол» – это по-якутски «стол». Похоже, только гласных больше. Бабушкин уже подметил: якуты всегда в русские слова вставляют много лишних гласных.
Ссыльные сели к «остуолу». Глотали острые, в масле, мягкие и вкусные комочки, запивали кисловатым, чуть хмельным кумысом и похваливали поваров.
– Это не я. Это – Илья! – отвечал Бабушкин и смеялся: вот, даже в рифму говорить стал.
Смеется Бабушкин, а сам все на Хоменчука поглядывает. Тот принарядился, побрился. И даже космы кое-как подровнял. Вертится по юрте: одному подай, у другого – забери. То масла подлей, то дровишек добавь.
«Вот, – радуется Бабушкин. – Суетится. Это хорошо! Только глаза все такие же. Или чуть веселее?»
Один из ссыльных – студент Линьков – стал читать стихи.
Потом кто-то запел про ямщика, как замерзает он в глухой степи.
А потом и Бабушкин запел свою любимую:
Среди лесов дремучих
Разбойнички идут
И на плечах могучих
Товарища несут.
Поет Бабушкин, кое-кто из ссыльных подпевает. А Бабушкин нет-нет да и глянет украдкой на Хоменчука. Ведь какой певун! Неужели утерпит? Неужели не присоединится?
А Хоменчук будто и не слышит песен. Сидит, молчит. О чем-то своем думает.
Пришли, остановились,
Сказал он: «Братцы, стой!» —
поет Бабушкин.
Выройте могилу,
Расстаньтесь вы со мной!
Неужели Хоменчук так и не подтянет? Так и промолчит?
Кончил Бабушкин. Все зашумели, заговорили.
И тут встал Хоменчук. Поднял голову, глаза прикрыл.
Ревэ та стогнэ Днипр широкий…
Все сразу умолкли, только его и слушают. А голос у Хоменчука густой, как сметана. И сочный, как спелый арбуз.
«Ага!» – радуется Бабушкин.
Поздно разошлись ссыльные по домам.
Бабушкин лег, но, хотя устал, не спалось.
И все слышался в темноте густой бас Хоменчука.
«А что глаза – это ничего. Не все сразу. Главное – лед тронулся».
Вскоре выяснилось: рано Бабушкин радовался.
«Пельменного» заряда хватило Илье Гавриловичу всего на два дня. А уже на третий – он снова лежал, прикрывшись облезлой шкурой, вялый и безучастный. И глаза у него по-прежнему были тусклые, неподвижные. Рыбьи глаза. И даже космы опять на лоб лезли. Будто уже успели за три дня отрасти.
«Так, – подумал Бабушкин. – Вот, значит, какая петрушка…»
И опять вспыхнул перед ним сверкающий в ночи факел..
Прошло несколько дней. К Илье Гавриловичу снова пришел Бабушкин. Тот по-прежнему лежал возле огня. Казалось, он все эти дни вовсе и не вставал.
– Ого! Так можно и бока продавить! – покачал головой Бабушкин.
– А что прикажете? Танцевать? – вяло пошутил Илья Гаврилович.
– Есть план. – Бабушкин снял меховую кухлянку, рукавицы, сел у огня. – Вставайте. Нужна ваша помощь.
– Опять пельмени? – невесело протянул Хоменчук.
– Нет, тут дело посерьезнее…
Бабушкин рассказал свой замысел. Каждый ссыльный получает «на харчи» от казны 15 рублей в месяц. На эти деньги не очень-то разгуляешься. И вот он решил устроить мастерскую. Чинить прохудившиеся ведра, кастрюли, чайники, если нужно – и старое ружьишко исправить. Короче – мастерская на все случаи.
Инструмент кое-какой имеется. Так что можно начинать.
Он уже сегодня обошел соседние юрты, передал якутам: «Открывается мастерская, несите заказы».
– Ну и чините, – неторопливо раскурив коротенькую якутскую трубку, сказал Илья Гаврилович. – Чините себе на здоровье.
Он лежал на спине, глядя в низко нависший черный земляной потолок.
– Одному не совладать, – сказал Бабушкин. – Вдвоем оно всегда сподручней. Вот вместе с вами и откроем мастерскую.
– Шутить изволите, сударь? – Возмущенный Илья Гаврилович даже надел пенсне, словно хотел получше разглядеть Бабушкина. – Вы слесарь. А я – юрист, присяжный поверенный. Я и паяльника-то никогда в руках не держал!
– Ничего, ничего, – улыбнулся Бабушкин. – Научу. И слесарем, и жестянщиком сделаю. И столяром. Говорят, из присяжных поверенных как раз превосходные столяры получаются.
– Вам весело?! – вспыхнул Хоменчук. – Я сказал – нет, и все. – Так… Значит, нет? – Бабушкин сразу стал серьезным.
– Значит, не хотите помочь? И это по-товарищески? Одному же мне не осилить. Подсобите хоть только начать, наладить мастерскую, а там – как угодно.
Долго Хоменчук еще упрямился, но, как ни отбивался, пришлось ему встать.
Пошли к Бабушкину.
– Во-первых, надо смастерить верстак, – сказал Бабушкин.
Два дня потратили они на этот проклятый верстак. Все было трудно.
Доски – где их тут возьмешь? Все же нашли. На берегу Яны откопали из-под снега старую развалившуюся лодку. Разобрали ее – вот и доски.
Гвозди? Тоже раздобыли. Совсем немножко, но раздобыли.
Хуже всего оказалось со столярным клеем. Нет, хоть умри. Ни плитки.
– Пока придется обойтись, – сказал Бабушкин. – А потом сварю. Я рецепт знаю. Будет не хуже фабричного.
В общем, сколотили верстак. Не очень красивый. Но крепкий.
Поглядеть, как они мастерят, в юрту набилось много якутов.
Старики сидели у огня на лавках, сосали свои коротенькие трубочки и изредка коротко и солидно давали советы.
Тут же хозяйка пекла на огромной сковороде ячменные лепешки. Они у якутов заменяют хлеб. Тут же ползали чумазые ребятишки.
Тесно в юрте, шумно.
А когда верстак встал, совсем уж не повернуться.
Потом Бабушкин и Хоменчук налаживали инструменты.
Точили стамески и пилу. И топор наточили, как бритву. И новые рукоятки сделали – для долота и молотка.
Но инструментов было мало. Бабушкин по всем юртам прошел: у кого, может, какой-нибудь стертый напильник завалялся, или молоток, или отвертка, давно отжившая свой век.
– Дайте в долг, – говорил Бабушкин. – Потом верну.
Якуты народ добрый, простодушный.
– Бери, Уйбан. Работай хорошо, Уйбан.
Так они переделали на свой лад имя Бабушкина.
Это Иван Васильевич, с первых дней ссылки подметил: якуты не выговаривают «в». Потому простое «Иван» для них слишком заковыристо.
А один старый, совсем старый якут где-то раздобыл и принес даже тяжелую кувалду. Как только дотащил?
– На, сударский, бери.
«Сударский» – это значит «государственный». «Государственный преступник» – только короче и проще.
И вот – мастерская готова.
Мастерская готова, а заказов что-то нет. Даже странно. Ведь якуты так поддерживали бабушкинскую затею. А теперь вот – не идут.
– Ну? – сказал Илья Гаврилович, когда и второй день прошел, а никто из клиентов так и не появился.
– Придут! – уверенно сказал Бабушкин. – Увидите, скоро нас с вами на части будут рвать. А пока… – Он порылся в старом хламе, извлек ржавое ведро без днища. – Обновим.
Илья Гаврилович мельком глянул на ведро, надел пенсне, снова внимательно оглядел ведро и покачал головой. И в самом деле, овчинка не стоила выделки: уж очень скверно выглядела старая посудина.
– Ничего! – успокоил Бабушкин.
Он научил, как отодрать ржавчину; сам выкроил новое днище, потом показал, как делается шов. Такой шов, чтоб ни капли не просочилось.
– Усвоили?
Илья Гаврилович кивнул.
– Ну, действуйте.
Целый день возился Хоменчук с первым своим изделием.
– Ничего. Сойдет, – сказал Бабушкин, когда Илья Гаврилович кончил.
Тот ушел. А Бабушкин подумал:
«Интересно, а какую работу я ему завтра дам? Если заказов не принесут?»
Главное, нет жести. Научил бы делать кружки, кастрюли. Но где достать жести?
Бабушкин уже все юрты обошел. Нет нигде ни кусочка.
Утром пришел Илья Гаврилович.
Постоял у верстака.
– Ну? – Усмехнулся и потрогал пенсне. – Финита ля комедиа?
Бабушкин итальянского не знал, но и так понял.
– Вот что, – сказал он. – Сегодня будем отдыхать. Ведь мы уже неделю работаем. А завтра – за дело.
– За какое, простите, дело?
– Дел много, – неопределенно, но уверенно заявил Бабушкин.
Илья Гаврилович ушел.
Весь день Бабушкин тревожился. Как же быть? Где достать жести?
Вот обида! Неужели из-за того, что нет каких-то жалких двух-трех листов железа, все лопнет?
Утром опять явился Илья Гаврилович.
– Нынче я занят, – хмуро сказал Бабушкин. – Извините. Придется отложить работу на завтра..
– Заняты? – Илья Гаврилович прищурился. Мол, понимаю, все понимаю. – Ну что ж – завтра так завтра…
И опять Бабушкин раздумывал: что же предпринять?
Думал весь день, весь вечер.
И вдруг надумал. Ведь так просто! Как это ему сразу в голову не пришло?! Взял недавно починенное ведро и разрезал его на две пластины. Выровнял их деревянным молотком. Пластины стали хоть куда.
А наутро, когда пришел Илья Гаврилович, Бабушкин сказал:
– Сделайте кастрюлю. Шов такой же, как в ведре.
И все время, пока Хоменчук возился у верстака, Бабушкин нетерпеливо поглядывал на дверь.
«Ну же!.. Ну… Хоть какой-нибудь заказик…»
Но никто не входил.
Часа через два кастрюля была готова. Илья Гаврилович протянул ее Бабушкину, вопросительно глянул сквозь пенсне: видно, ждал похвалы.
– Неплохо, – сказал Иван Васильевич и повертел кастрюлю в руках. Была она кривовата, и шов подгулял. – Совсем неплохо, – повторил Бабушкин. – Вот шов только надо исправить. И тут тоже – вмятина.
Хоменчук снова суетился у верстака, а Бабушкин опять украдкой поглядывал на дверь.
И все же в мире, наверно, есть справедливость. И хорошие дела вознаграждаются, как в новогодних сказках.
Дверь вдруг открылась.
Мальчишка якут в длинном, ниже колен, соне [33]33
Сон– верхняя одежда у якутов.
[Закрыть]из кобыльей шкуры принес помятый самовар с отломанным краном.
– Давай, давай! – крикнул Бабушкин. Еще немного – и он, кажется, расцеловал бы мальчонку.
А потом – пошло.
Обтянутая коровьей шкурой, низенькая дверь хлопала раз за разом. Принесли дырявый таз, прогоревший чайник, котелок без ручки. Последним пришел старик, принес старое-престарое ружье.
– Бачка, чини, – присев на корточки у огня, просил он, видя, как Бабушкин недоверчиво оглядывает дряхлое ружье.
Оно и впрямь было такое, что непонятно, как не разорвалось при первом же выстреле.
– Мне сто лет, – неторопливо бубнил старик, посасывая трубку. – Ружью сто лет. Однако ничего. Чини, Уйбан.
«Сто лет!» – Бабушкин покачал головой.
– Ну, как? Возьмемся? – спросил он у Ильи Гавриловича.
Тот водрузил на нос пенсне, солидно оглядел ружьишко со всех сторон. Даже в дуло заглянул.
– А что ж! – пожал плечом. – Сделаем!
…И не раз потом Бабушкин украдкой наблюдал, с каким азартом бывший присяжный поверенный мастерит кастрюлю или запаивает прохудившееся ведро.
Сперва Бабушкина даже удивляло это. Честно говоря, он не ожидал, что адвокату так полюбятся старые кастрюли да чайники.
А потом Бабушкин догадался: наверно, именно потому, что интеллигентные руки присяжного поверенного прежде никогда в жизни не смастерили ни одной даже самой простой вещицы – ни табуретки, ни стола, ни шкафчика, – именно поэтому, наверное, ему так приятно сейчас делать что-то простое, нужное, делать самому, своими собственными руками.
И глядя, как Хоменчук паяет кастрюлю и как бодро посверкивают его глаза за маленькими стеклами пенсне, Бабушкин ухмылялся:
«Вот это – глаза! Такие – годятся!»

Тюрьма без стен и решеток

Иван Васильевич сидел на камне возле юрты. Из куска жести, принесенного соседом-якутом, мастерил кастрюлю.
Юрта издали напоминала низкий, плоский зеленый холм. Крыша и стены ее, чтобы зимой не проникал холод, были обложены толстым слоем земли, глины, навоза и сверху прикрыты большими пластинами дерна. Поэтому весной вся юрта – и стены, и крыша – прорастала бледно-зеленой травой.
Воздух был насыщен гнилыми болотными испарениями. Вокруг расстилалась чахлая, блеклая тундра, кое-где покрытая жалким карликовым кустарником. Бледное, холодное солнце, скорее напоминавшее луну, вот уже много недель не уходило с неба. Стоял долгий, изматывающий нервы полярный день.
На голове у Бабушкина была густая сетка, спускавшаяся, как у пчеловода, на лицо. Но и она не вполне защищала от назойливой мошки, целые тучи которой с легким звоном колыхались в воздухе. Мошка проникала под сетку, забивалась в нос, в уши, под рубаху. Все тело зудело.
Иван Васильевич большим деревянным молотком неторопливо колотил по куску жести, придавая ему нужную форму. И в такт ударам повторял про себя:
«Бе-жать, бе-жать, бе-жать!»
Эта мысль возникла у него давно. Еще в Петербурге, когда Бабушкина привели в канцелярию тюрьмы и объявили, что он высылается за Полярный круг, в Верхоянск, сроком на пять лет, Бабушкин спокойно выслушал «высочайшее повеление» и тут же решил: «Убегу!»
Но убежать оказалось очень трудно.
Верхоянск – самое холодное место на земле, «полюс холода», как называют его в учебниках географии. На много тысяч верст отброшен он от центра России.
Прошла первая бесконечная полярная зима: сплошная мрачная ночь, когда несколько месяцев подряд не показывалось солнце. Быстро промелькнуло короткое полярное лето: всего полтора-два месяца, в течение которых солнце не покидало небосклон и стояла такая жара, что маленькие якутята бегали голые. И опять восьмимесячная зима. Кончался второй год пребывания Бабушкина в Верхоянске.
И вот сейчас, мастеря кастрюлю для нищего якута, Бабушкин снова, наверно в тысячный раз, обдумывал план побега.
Трудно, почти невозможно вырваться из этой «тюрьмы без решеток». Летом тундра раскисает, и тогда на сотни верст вокруг лежат гнилые болота. Ни проехать ни пройти. Зимой лютый мороз сковывает тундру, перехватывает дыхание, заставляет прятаться все живое. А до ближайшего города, Якутска, – тысяча верст…
И все-таки Бабушкин решил: как только выпадет первый снег – надо бежать.
Взяв большие ножницы, Иван Васильевич стал вырезать из жести днище для будущей кастрюли. Работал он неторопливо: куда спешить?!
«Бежать, – снова подумал Бабушкин. – Преступник я перед партией, перед Лениным. В такие дни – оторван от борьбы. Не уберегся. А ведь Ленин предупреждал меня в Лондоне и потом в Петербург писал:
„Исчезайте при первом признаке шпионства за Вами“.
Видел же я, видел, что шпионят, но не исчез. Все надеялся – обойдется! Вот и обошлось: в такие горячие дни – в ссылке!»
Времена действительно были горячие. Даже в далекий, затерянный в снегах Верхоянск доходили, правда, с большим запозданием, отзвуки революционных событий 1905 года.
Отложив в сторону незаконченную кастрюлю, Бабушкин пошел к ссыльному Линькову. Там нынче соберутся товарищи. Бабушкин руководил кружком. На сегодняшнем занятии будут обсуждать главу из книги Маркса «Капитал».
Подойдя к юрте, в которой жил Линьков, Бабушкин по привычке взглянул на спиртовой термометр, прикрепленный над дверями.
Его смастерил сам Линьков. Зимой в страшные морозы, когда даже ртуть замерзала и обычные термометры прекращали служить, прибор Линькова продолжал действовать без отказа.
Согнувшись, Иван Васильевич вошел в дверь. Сразу увидел: все очень возбуждены. Особенно горячился студент-путеец Линьков. Худощавый, с растрепанной шевелюрой, лихорадочно горящими глазами и пятнами туберкулезного румянца на щеках, студент метался по юрте и твердил:
– Бежать! Немедленно бежать! В России революция, а мы сидим, ждем царской милости! Потомки не простят нам этого…
– Потомки сами разберутся в наших делах, – спокойно сказал Бабушкин. – Как же вы предлагаете бежать?
– Перебить казаков – их здесь всего-то раз-два – и обчелся – и удрать! – с жаром воскликнул студент.
– Перебить-то, может, и перебьете. А удрать не удастся. Болота. Потом нагрянут жандармы и вас «перебьют». Помните: за всю историю Верхоянска еще не было ни одного удачного побега отсюда. Ни одного!..
– Что же делать? – заламывая руки, закричал студент. – Опять ждать, как безропотным телятам?!
– Да, пока ждать. Выберем удобный момент – и убежим, – ответил Бабушкин.
– Но когда? Когда? – закричал студент.
В этот момент дверь в комнату отворилась и вошел исправник Качаровский. Маленький, кривоногий, с прямыми, жесткими, как проволока, волосами, он в Верхоянске чувствовал себя царем и богом.
– Протест посылали, голубчики? – ехидно спросил он, обводя круглыми, как у совы, глазами группу ссыльных. – Насчет «романовской истории»?
– Да, посылали, – выступил вперед Бабушкин.
«Романовская история», о которой шел разговор, заключалась в следующем. Больше года назад в Якутске политические ссыльные подали протест против жестокого самодурства властей. Генерал-губернатор вместо ответа вызвал казаков. Тогда ссыльные под руководством двух стойких революционеров – Костюшко-Волюжанича и Курнатовского – заперлись в доме якута Романова. Заготовив продукты и несколько винтовок, они забаррикадировали окна и двери. Казаки окружили дом. Много дней ссыльные провели в блокаде. Потом нервы одного из них не выдержали, и, когда казаки стали снаружи замуровывать бревнами и камнями окна нижнего этажа, ссыльный дважды выстрелил в них. Казаки только и ждали этого. Они пошли на штурм дома. Началось кровавое побоище. Почти безоружные смельчаки ссыльные три недели сдерживали напор солдат и казаков. Несколько политических было убито и ранено. В конце концов дом был взят войсками, ссыльные арестованы и отданы под суд.
Иван Васильевич, узнав о «романовской истории», немедленно собрал верхоянских ссыльных и написал гневный протест якутскому прокурору.
«Заявляем о своей полной солидарности с товарищами, смело выступившими за наши общие требования, и о своей готовности всегда дать должный отпор на всякое насилие над нами».
Под этими словами подписалось двадцать ссыльных. И первой стояла подпись самого Бабушкина.
– Ну, что ж, протест ваш получен, – сказал исправник Качаровский. – Получен и учтен. Вы знаете: сорок семь «романовцев» были присуждены к каторге. На двенадцать лет каждый. А теперь иркутский суд заменил всем двенадцатилетнюю каторгу двумя годами тюрьмы.
– Ура! – дружно закричали ссыльные.
– Ура-то ура, да не радуйтесь, господа, – зло перебил Качаровский. – Есть и специальное решение насчет вас.
Он достал из кармана сложенную вчетверо бумагу и протянул ее Бабушкину.
Иван Васильевич быстро проглядел листок. В нем сообщалось, что верхоянские ссыльные – дальше шел список фамилий, и на первом месте стояла фамилия Бабушкина – отдаются под суд за запрещенный законом коллективный протест по делу «романовцев», посланный ими якутскому прокурору.
Внизу стояла подпись: «начальник Иркутского губернского жандармского управления подполковник Л. Н. Кременецкий».
«Ого! – подумал Бабушкин. – Старый знакомый! Значит, он повышение получил?!»
Бабушкин не ошибся. Действительно, бывший ротмистр Кременецкий, от которого Бабушкин дважды ловко убегал в Екатеринославе, теперь стоял во главе иркутских жандармов.
Их пути снова скрестились.
Кременецкий тоже узнал в Бабушкине «старого знакомого» и жаждал отомстить ему за все.
– Хорошо, – сказал Бабушкин исправнику Качаровскому. – Мы поедем на суд.
Когда Качаровский ушел, студент Линьков возбужденно закричал:
– Ну вот! Дождались! Теперь-то уж думать нечего. Надо немедленно бежать. А то получим еще добавочно по пять лет каторги.
– Наоборот, – решительно сказал Бабушкин. – Именно теперь и не следует бежать.
– Как? – возмутился студент. – Почему?
Удивление было написано и на других лицах.
– Именно сейчас бежать не следует, – спокойно повторил Бабушкин. – У меня есть другой план.
Ссыльные плотно окружили Ивана Васильевича.
– Самим нам трудно удрать отсюда. До Якутска – тысяча верст, месяц пути. Где мы возьмем столько оленей, лошадей? Ведь нас много – и нарт потребуется много, – сказал Бабушкин. – Кроме того, учтите, придется делать остановки в поварнях, и там казаки наверняка перехватят нас. Нет, так бежать не годится.
– Что же делать? – закричал Линьков.
– Перехитрим жандармов, – ответил Бабушкин. – Казаки везли нас сюда, пусть казаки и обратно нас доставят. У них, как-никак, дело налажено. Есть и олени, и нарты, и «станки» для отдыха. Вот пускай они о нас и позаботятся. Пусть везут нас на суд. А приедем в Якутск – там уж поговорим по-другому.
Иван Васильевич засмеялся и потряс кулаком.
Ссыльным его план сразу понравился.
На следующий день начались приготовления к отъезду. Исправник Качаровский удивленно поводил своими круглыми совиными глазами, глядя, как энергично, с какой охотой готовятся ссыльные ехать на суд.
«Засиделись! Прокатиться в город охота, – думал исправник. – Напрасно радуетесь, голубчики!»
Лето кончилось неожиданно, как всегда бывает в этих краях. Вдруг, без всякого перехода, ударил мороз, сковал болота и покрыл тундру первым снегом. Ссыльные торопились быстрее закончить все приготовления к отъезду. Чинили одежду, заготовляли хлеб, пельмени, коптили и сушили оленину. Бабушкин и его товарищи варили щи, закупали у якутов молоко и все это выставляли вечером на мороз. Наутро щи и молоко становились твердыми как камень.
Видя, что ссыльные охотно едут в Якутск, исправник Качаровский забеспокоился. Покорность Бабушкина и его друзей, обычно таких неуступчивых, казалась подозрительной ему. Исправник знал – времена наступили смутные. В Якутске волнения. Уж не задумал ли Бабушкин какой-нибудь штуки?
Качаровский выделил усиленный наряд казаков и решил сам везти ссыльных. Перед отъездом он усилил слежку за ними, подглядывал, подслушивал: нет ли у кого оружия, не замышляют ли побег?
Но «политические» вели себя очень спокойно, целыми днями заготовляли одежду и еду и беспрекословно выполняли все распоряжения исправника.
Настал час отъезда. По снежному первопутку из Верхоянска двинулся обоз ссыльных в сопровождении казаков. Снова начались долгие переходы по бесконечной, унылой тундре, ночевки на станках и в поварнях. Бабушкин и его друзья теперь уже привыкли к морозам, обратный путь из Верхоянска в Якутск казался им легче, чем тот же маршрут два года назад.
Сперва на стоянках Качаровский выставлял стражу около оленей, боясь, что «политики» ночью убегут. Но через неделю он успокоился. Ссыльные были послушны, как никогда.
…Полтора месяца добирался обоз до Якутска. В пути приходилось делать частые остановки: то двое казаков заболели и слегли, то надо было дать отдых оленям.
Когда обоз прибыл в Алдан, находившийся уже недалеко от Якутска, казаки встревожились. В Алдане по улицам ходили толпы людей. Они пели запрещенные песни, на перекрестках возникали митинги. На столбах висел «Высочайший манифест» от 17 октября.
«Божиею милостию, мы, Николай Вторый, император и самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский…»
Испуганный царь, боясь революции, лживо обещал в манифесте гражданам России свободу слова, печати, собраний.








