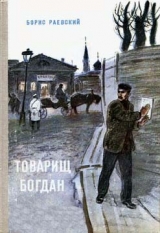
Текст книги "Товарищ Богдан (сборник)"
Автор книги: Борис Раевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 22 страниц)
Товарищ Богдан

В небольшой камере № 5 уездной покровской тюрьмы находилось много арестантов. Все это были ткачи, красковары, отбельщики, мюльщики с орехово-зуевских текстильных фабрик. На каждого из них следователь завел специальное «дело:» фамилия, имя, отчество арестованного, звание, возраст, адрес, где работает, за что задержан.
Впрочем, причина ареста у всех сидящих в этой камере была одна и та же: они тайно собирались у ткача Климентия Лапина и читали запрещенную литературу.
Только одно «дело» у следователя было почти пусто. Один арестант из пятой камеры не пожелал назвать ни своей фамилии, ни рода занятий, ни звания и наотрез отказался давать какие-либо показания.
Мужчина этот – молодой, невысокий, интеллигентный на вид, с русыми волосами и чуть припухлыми красноватыми веками – вообще вел себя очень странно.
Когда жандармский ротмистр с тремя жандармами ворвался в комнату ткача Климентия Лапина, где (по доносу провокатора) собирался подпольный кружок, – этот мужчина сидел за столом и читал ткачам вслух запрещенную брошюру.
– Тэк-с, – обрадованно сказал ротмистр. – Залетная птичка!.. Фамилия?
– Забыл, ваше благородие, – спокойно, чуть насмешливо ответил мужчина, нарочито небрежно, вразвалку сидя на табурете.
– Забыл?! – выкрикнул ротмистр. – А имя?
– Запамятовал.
– Тэк-с. – Ротмистр заметил улыбки на лицах ткачей и постарался сдержать гнев. – Посадим в тюрьму – вспомнишь! Все вспомнишь, голубчик! И как тебя зовут, и как деда величали, даже прабабкино имя вспомнишь!.
– Нет, ваше благородие, не вспомню, – по-прежнему спокойно ответил мужчина. – С детства у меня память хилая.
В протоколе обыска ротмистр записал:
«В помещении оказался какой-то приезжий неизвестный человек, не пожелавший назвать своей фамилии. Перед неизвестным лежали нелегальные издания, трактующие преимущественно об изменении существующего в Российской империи государственного строя…»
Когда задержанному протянули протокол, он так и подписался: «Неизвестный».
Это был Бабушкин. А не назвал он себя жандармам потому, что жил нелегально, под чужой фамилией, без паспорта и прописки.
Пока жандармы не разнюхали, что перед ними «особо важный государственный преступник Бабушкин» и не усилили охрану, Иван Васильевич надеялся удрать из захудалой покровской тюрьмы.
Ткачи, сидящие в камере вместе с ним, хорошо знали «товарища Богдана». Но следователю они дружно заявляли, что впервые видят этого «неизвестного». Зашел, мол, человек с улицы погреться, заявил, что он коммивояжер, вот и образцы ситца были при нем. А коли человек замерз, – не по-божески не пустить. Фамилии у него, конечно, никто не спрашивал.
Молоденький безусый следователь чуть не каждый день вызывал к себе Неизвестного.
– Ей-богу, глупо скрываться, – горячо убеждал он. – Мы же доподлинно знаем, что вы руководили подпольным кружком у ткача Климентия Лапина.
Бабушкин молчал и скучающе смотрел поверх головы следователя в мутное окно.
– Вот и «Искра» у вас найдена, – горячился следователь. – Перестаньте же тянуть канитель! Запирательство лишь усугубляет вашу вину.
Бабушкин по-прежнему молча изучал паутину на ржавых прутьях оконной решетки.
В конце концов следователь терял терпение и к «делу» подшивался новый протокол допроса с одной только фразой: «Отвечать на вопросы отказался» – и подпись: «Неизвестный».
Заключенного уводили в камеру.
У начальника тюрьмы тоже лопнуло терпение. Однажды он вызвал к себе тюремного надзирателя – невысокого, щупленького, очень опрятного старичка, тихого, как мышь.
– Ты, Фомич, вот что, – внушительно кашлянув, сказал начальник тюрьмы. – Понаблюдай-ка за пятой камерой. Что там за Неизвестный? Почему он не хочет быть «известным»? Славы боится, что ль? – начальник усмехнулся.
Старик понятливо закивал своей маленькой головкой, посаженной на длинную, тонкую, как у гуся, шею.
С той минуты он стал незаметно наблюдать за камерой № 5. Неслышно подкрадется в своих войлочных туфлях, украдкой отодвинет створку «волчка» на двери и глядит в камеру.
Фомич был стариком смышленым и приметил: каждый день после завтрака и ужина обитатели камеры № 5 собирались вокруг Неизвестного и толковали о чем-то. Неизвестный обычно сидел на койке или стоял возле окошка, а все размещались вокруг и слушали. Но что говорил Неизвестный, Фомич не слыхал. Тихо говорил, тайно, а слух у старика не очень остер, да и толстые двери задерживают звуки. Однако, хоть и не слышал Фомич, о чем разговор, сразу смекнул: видать, Неизвестный замышляет побег и подбивает своих товарищей на это преступное дело.
Фомич пошел к начальнику тюрьмы и обо всем обстоятельно доложил.
Начальник обрадовался. Еще бы! Если вовремя накроешь побег да притом Неизвестный окажется какой-нибудь важной птицей, – глядишь, повышение получишь, а то и орден в петличку.
А начальник тюрьмы когда-то в самой столице в Крестах служил. Но за злостное пьянство был переведен сначала во владимирскую губернскую тюрьму, а потом скатился сюда, в заштатный городишко Покров. Больше всего он мечтал снова «выбиться в люди».
Начальник даже не побрезговал и однажды сам вместе с Фомичом пытался подслушивать под дверью камеры. Однако ничего не услышал. Но в глазок ясно видел: шепчутся о чем-то заключенные, горячо друг другу доказывают – определенно к побегу готовятся.
«Сообщить в жандармское управление? – забеспокоился начальник тюрьмы. – А впрочем, что сообщать-то? Шепчутся? Так разве это улика? А больше никаких доказательств нету. Засмеют меня…»
Тогда начальник тюрьмы решил: нужно собрать еще какие-нибудь улики, чтобы точно доказать – готовится побег.
А как это сделать? Начальник долго думал и нашел единственный выход: посадить в камеру № 5 к ткачам «своего» человека. На тюремном языке это называлось «подсадить кукушку». Пусть «кукушка» послушает, о чем шепчутся заговорщики.
Сказано – сделано. Взяли из охранки щупленького, хилого парня, переодели его в холщовые штаны да рубаху с заплатой, подвели к камере, открыли дверь и говорят:
– Вот посидишь годков пять – отучишься прокламации раскидывать!
Толкнули парня под зад коленкой, так что он, влетев в камеру, растянулся на каменном полу, и захлопнули дверь.
Прошел день. Фомич в глазок подглядывает:
«Только бы не догадались бунтовщики, что к ним шпика подсунули. А то изобьют его ночью!»
Смотрит в глазок – в камере все спокойно. Правда, утром ткачи не шептались с Неизвестным, как обычно. Зато вечером опять собрались в кружок и стали о чем-то толковать.
На следующий день шпика вызвали – будто на допрос. Начальник тюрьмы нетерпеливо говорит:
– Ну! Докладывай! Да подробно.
Парень вытянул руки по швам, только открыл рот, но начальник перебил:
– Стоп!
Мигнул стражнику, тот куда-то выскочил и вскоре вернулся с тарелочкой. На ней – две стопки с водкой и два огурца.
– Бери… – кивнул начальник шпику.
Тот обтер губы рукавом и потянулся к водке.
– Стоп! – вдруг говорит начальник. – Не скумекал я. Тебе пить нельзя. Вернешься в камеру – водкой шибать будет.
Взял начальник стопку, опрокинул себе в рот, крякнул.
– Твое здоровье! – говорит шпику и вторую стопку выпил.
Потом аппетитно захрустел огурцом. Шпик облизнул губы и с горя тоже откусил кусок огурца.
– Ну, – говорит начальник, – докладывай.
Парень снова вытянул руки по швам и стал рапортовать:
– Так что, перво-наперво оченно я струхнул. Потому как пихнули меня в камеру, Неизвестный оглядел меня с ног до головы и эдак спокойненько говорит: «Похоже, шпика нам подсунули. От морды так и разит охранкой…» Ну, думаю, колотить будут. Городок-то у нас махонький, смутьяны друг друга знают. А у меня комплекция деликатная, к кулакам не расположенная… Ан нет, не били. Шпик так шпик, говорят, пусть послушает, ему полезно…
– Как «пусть послушает»? Чего ты мелешь?! – закричал начальник тюрьмы.
– Все в точности, ваше благородие, – развел руками парень. – В аккурат так оно и было. А потом сгрудились они в кружок, Неизвестный встал, руку поднял да как начнет!. И все, ваше благородие, стихами. Так и чешет..
– Ты что, ошалел? – закричал начальник. – Где это слыхано, чтобы преступники стихами изъяснялись? Это в благородных трагедиях графы – и то не всегда – стихами шпарят.
– Вот и я сперва до крайности поразился, – сказал парень. – Послушал, значит, а потом и говорю Неизвестному: «Ну, до чего же складно у вас получается!.»
Тут арестанты все сразу засмеялись, а Неизвестный отвечает:
«Это не у меня, это у Некрасова складно получается! Слышал, говорит, когда-нибудь это имя: Николай Алексеевич Некрасов? Поэт великий!»
Я, по чести говоря, такого не слышал, но стихи у него и впрямь гладкие. Аж за сердце берут. Один куплетик мне даже запомнился: Неизвестный его раза три повторил:
Назови мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал!
– Болван! – крикнул начальник тюрьмы. – Вертайся-ка в свою «обитель»! И слушай в оба! Главное – о побеге слушай! Понял?
И со злости даже стукнул тщедушного парня по зубам.
Увели шпика в камеру, а начальник подумал:
«Может, зря я ему зубы лечил? Может, он вовсе и не виноват? Наверно, Неизвестный догадался, что мы шпика подсунули, и нарочно о побеге – ни слова, а стал стихи декламировать. Измывается!»
«А впрочем, – думает начальник тюрьмы, – оно и лучше, что я парню по зубам съездил. Приведут в камеру, а у него из губы кровь сочится. Вполне натурально – будто всамделе с допроса вернулся…»
Пробыл шпик еще двое суток в камере. Целыми днями валялся на койке и даже стонал, будто его избили на допросе. А сам все слушает: не шепчутся ли арестанты о побеге?
В первое же утро собрал Бабушкин ткачей и говорит:
– Итак, продолжаем занятия. Только расписание уроков придется изменить. По техническим причинам, – а сам усмехается и на шпика прищуренным глазом показывает: – Сейчас займемся географией.
Парень слушает – что такое?
Ткачи уселись тихо, чинно, как дети в школе, а Неизвестный встал возле стены, как учитель у доски, и говорит:
– Прошлый раз мы беседовали о полезных ископаемых, о металлах. Среди них особенно ценятся благородные – такие, как золото, платина. Они не ржавеют и обладают еще многими ценными свойствами, поэтому и зовутся благородными.
Кстати – богатых, важных господ тоже называют «благородными». И даже обращаются к ним: «Ваше благородие».
А в чем их «благородство»? В том, что весь свой век бездельничают? Или в том, что заставляют работать на себя других людей?.
Говорит Бабушкин, а у самого глаза блестят: вспоминает, как лет семь назад ходил он в Питере в воскресную школу и Крупская учила его там этой самой «географии».
Через час Неизвестный объявил:
– Урок окончен! Вечером займемся естествоведением.
«Чудеса! – думает шпик. – Какие-то уроки затеяли, школу. Ну, послушаем, с чем кушают эту естествоведению!»
После ужина ткачи опять уселись в кружок. Неизвестный говорит:
– Полезное домашнее животное – бык, например, – гнет шею с зари дотемна, землю пашет. А клещ-паразит присосется к хребтине быка, вопьется ему в шкуру и тянет, сосет кровушку. Сам не работает, а за чужой счет жиреет… Каждый сознательный рабочий должен знать: от паразитов одно спасение – уничтожить их!..
– Понятно, – откликнулся ткач Сергей Сельдяков.
На следующий день было еще два урока – опять «география» и, кроме того, «история».
Прошла ночь, и шпика снова вызвали на допрос.
– Ну, – говорит начальник. – Докладывай! Как там Неизвестный, готовится в бега?
Парень встал «смирно» и рапортует:
– Никак нет! Вовсе наоборот! Они там школу затеяли!
– Какую еще школу?! – растерялся начальник.
Ему уже каждую ночь снились радостные сценки: вот узники подпилили решетку, вот лезут на волю, но в решительное мгновение он ловит и Неизвестного, и его друзей. Шум, поздравления. И вот его уже перевели в столицу, дали награду. А тут морочат голову какой-то школой. А о побеге – опять ни звука.
– Я и сам в толк не возьму, – отвечает пшик. – Но школа есть – факт! Неизвестный часто повторяет ткачам: «Раз царь-батюшка заботится о нас, на казенные харчи взял, – значит, время зря терять нечего!» Занимаются аккурат по расписанию: два раза в день – утром и вечером.
– Кто-то из нас пьян: или ты, или я, – сердито отдуваясь, заявил начальник тюрьмы. – Не может такого быть!
Он так разозлился на щупленького шпика, что не пустил его больше в камеру, а отправил обратно в охранку с сопроводительной запиской: мол, парень – олух, дубина, все перепутал и пусть пришлют другого агента, посмышленей.
Но вскоре из города Владимира пришел приказ: немедленно под усиленным конвоем переправить Неизвестного в губернскую тюрьму.
«Эх, видно, и впрямь важная птица! – с горечью подумал начальник покровской уездной тюрьмы. – Побоялись его у нас оставить. Вот тебе и побег, и повышение, и орден в петличку!»
Начальник тюрьмы так расстроился, что тут же запил. Он так и не узнал, что шпик был прав. Бабушкин действительно открыл в камере № 5 настоящую школу. При шпике они изучали географию да геометрию, а как только парня убрали из камеры, Бабушкин снова стал читать ткачам наизусть статьи Ильича из газеты «Искра». Потом совместно обсуждали их.
Прощаясь со своими товарищами-ткачами перед отправкой во Владимир, Бабушкин шутливо сказал Лапину:
– Тебе, Климентий, придется теперь стать вместо меня учителем «Покровской школы № 5». А я, как только доберусь до Владимира, – открою там новое учебное заведение! Будем распространять просвещение по губернии!
Так и получилось: вскоре в одной из камер владимирской тюрьмы стала работать новая «школа», организованная товарищем Богданом.

Восемь прутьев

1. Господин Неизвестный
Во владимирской тюрьме в первый же день Бабушкина привели к начальнику.
– Значит, господин Неизвестный? – сказал тот, с любопытством оглядывая нового арестанта. – Имя, фамилию – забыл? Откуда родом – забыл? Где живешь – забыл?
– Все забыл, – подтвердил Бабушкин. И чуть усмехнулся одними глазами: – У меня, ваше благородие, с детства память хилая!
Ух, как взорвался после такой же фразы жандарм, арестовавший его в Покрове! Но у начальника владимирской тюрьмы нервы, очевидно, были покрепче.
– Ничего, голубок! Мы тебе память вправим, – бодро пообещал он. – У нас на сей счет – профессора!..
Бабушкина провели в соседнюю комнату. Заставили раздеться.
Тюремщик, невысокий, толстенький, сел за стол и на листе бумаги сверху крупно написал: «Приметы господина Неизвестного». Другой тюремщик, помоложе, с усиками, подошел к Бабушкину и, обмеряя его рулеткой, как портной, стал диктовать:
– Рост два аршина четыре вершка, длина ног – аршин с вершком, длина рук – четырнадцать вершков с половиною, телосложение среднее.
Толстяк за столом быстро записывал.
– Форма головы, – продолжал усатый, – удлиненная. Форма ушных раковин – правильная; цвет волос – русый, прическа – косой пробор с левой стороны: глубина глазных впадин – в норме, цвет глаз – серо-голубой.
Он диктовал долго. Как дотошный ветеринар с лошади, описал подробно все «статьи» Ивана Васильевича. Указал, что усы – широкие, без подусников, бороду бреет, очков не носит; нос – прямой, переносица с небольшим выступом.
«Ишь ты! – Бабушкин с удивлением ощупал пальцами свой нос. – И впрямь выступ…»
А тюремщик диктовал дальше. Сообщил, что господин Неизвестный имеет привычку щуриться, заставил Бабушкина пройтись по камере и отметил, что походка у господина Неизвестного «тихая, спокойная» и весь он производит «обманчивое впечатление человека кроткого».
Потом толстяк провел черту и записал: «Особые приметы». Жирно подчеркнул эти слова красным карандашом.
«Значит, чем я отличаюсь от других людей? – подумал Бабушкин. – Интересно, чем же?»
Усатый внимательно оглядел Бабушкина и продиктовал:
– Первое: припухлые, красноватые веки.
«Так, – подумал Иван Васильевич. – И тут мне купеческое наследство подпортило».
Усатый тюремщик заставил Бабушкина открыть рот и продиктовал:
– Второе: сломан нижний левый крайний коренной зуб.
Потом на Бабушкина нацелил свой аппарат маленький суетливый старичок фотограф. Снял его и в профиль и анфас.
«Одну бы карточку матери послать, – подумал Бабушкин. – Все бы толк!»
Как сокрушалась мать, когда они виделись последний раз! Уговаривала хоть сфотографироваться. Чтоб портрет на память остался.
Ивану Васильевичу очень хотелось тогда хоть чем-то порадовать мать. Ведь так редко он видит ее. И так мало хорошего в ее жизни. Все стирает белье на чужих кухнях. Но он наотрез отказался.
Фотографироваться подпольщику нельзя. Суровы законы конспирации. Фотография может попасть в руки сыщиков, облегчит им поиски.
Бабушкина увели в камеру.
Но перед тем начальник тюрьмы сказал ему:
– Вы у нас в «неизвестных» долго не походите! Сделаем известным! На всю Россию!
Начальник велел напечатать триста листков с «приметами» господина Неизвестного и шестьсот фотографий его: триста – в профиль и триста – анфас. На каждый листок с приметами наклеили по две фотографии и в конвертах со строгой надписью «совершенно конфиденциально» разослали по всей России.
Способ давно проверенный. В каком-либо из городов таинственного арестанта опознают. И по инструкции сразу сообщат во владимирскую тюрьму, кто этот «господин Неизвестный».
«Да, – подумал Бабушкин. – Не удастся мне долго морочить головы тюремщикам».
Так оно и вышло. Дежурный в екатеринославской охранке, получив запечатанный сургучом секретный пакет и взглянув на фотографию, чуть не подпрыгнул на стуле от радости. Так вот где беглец! А они-то искали его и в Смоленске, и в Питере, и в Москве.
Тотчас была отстукана телеграмма: «Неизвестный» – это «особо важный государственный преступник Бабушкин».
Начальник владимирской тюрьмы приказал привести его к себе.
– Так-с! – улыбаясь, сказал начальник. – Всегда приятно, когда неизвестное становится известным. В этом и заключается познание мира. Не так ли… – и, торжествуя, добавил: – господин Бабушкин?!
Иван Васильевич промолчал.
– А мне даже жаль с вами расставаться, – любезно продолжал начальник. – Крайне редко в нашей глуши бывают «особо важные». Все больше мелюзга, шушера всякая.
– Мне тоже жаль расставаться, – в тон ему любезно ответил Бабушкин. – Я уже обмозговал план побега из вашей симпатичной тюрьмы – и вот… – Он развел руками.
Начальник побагровел. Но сдержался. Не обругал, не затопал ногами. Позвал тюремщика.
– Отправить в Екатеринослав. По месту надзора. И усилить конвой. Да-с, – повернулся начальник к Бабушкину, – два года назад вам удалось оттуда улизнуть. Но теперь не выйдет! Дудки!
2. Старый друг
В екатеринославском жандармском управлении ротмистр Кременецкий шутливо воскликнул:
– А, снова свиделись! Понравилось на царских хлебах жить?!
Потом вдруг совсем другим, хриплым голосом остервенело заорал:
– Теперь ты, сволочь, от меня не отвертишься! В Сибирь закатаю! Агитируй там волков да медведей!
Бабушкина поместили в общую камеру, где сидело восемнадцать политических.
И вот радость: среди узников Иван Васильевич увидел огромного плотного мужчину с могучими плечами и широкой – веером – бородой. Хотя глаза арестанта были скрыты темными стеклами очков, Бабушкин сразу узнал его:
– Василий Андреевич!
Да, это был Шелгунов, его старый друг еще по Питеру, участник ленинского кружка.
Они обнялись, расцеловались.
– Что у тебя с глазами? – тревожно спросил Бабушкин, подсев на нары к Шелгунову и глядя на темные стекла его очков.
– Плохо, Ваня, – ответил тот. – Слепну.
– А врачи?.
– Врачи говорят – лечиться надо. Долго, систематически: год, а может, и два. В больницах, на курортах. Ну, а как подпольщику лечиться? – Шелгунов усмехнулся. – Из тюрьмы да в ссылку, из ссылки – в тюрьму. В тюрьме, правда, тоже строгий режим, питание по часам – три раза в день, и спать рано укладывают, а все-таки тюрьма и курорт маленько отличаются друг от друга!
Заметив, что Бабушкин погрустнел, Шелгунов хлопнул его по колену и бодро сказал:
– А в общем, унывать не стоит! Вот грянет революция – потом полечимся! [20]20
Шелгунов действительно дожил до Великой Октябрьской революции. Его стали лечить лучшие врачи, но было слишком поздно. Он уже ослеп, вернуть зрение ему не смогли.
[Закрыть]
Бабушкин и Шелгунов наперебой расспрашивали друг друга о партийных делах, о товарищах по Питеру, о ссылке.
Как давно они не виделись! Подумать только! Почти семь лет. С тех пор как Шелгунова арестовали вместе с Лениным в морозную декабрьскую ночь. Оказалось, Шелгунов пятнадцать месяцев просидел в одиночной камере петербургской «предварилки». Потом был выслан на Север, в Архангельскую губернию. После ссылки в столицу не пустили, стал жить под «гласным надзором» здесь, в Екатеринославе.
– В Екатеринославе? – перебил Бабушкин. – А я как раз незадолго до того уехал отсюда!..
– Да, я знаю, – улыбнулся Шелгунов. – Меня тут так и называли: заместитель Трамвайного.
…В тюремной камере медленно тянулись день за днем. Друзья подолгу шепотом беседовали. Будто чуяли: скоро придется расстаться.
И вправду – вскоре «особо важного государственного преступника» Бабушкина перевели в четвертый полицейский участок.








