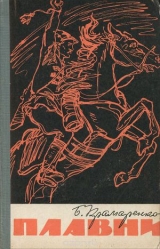
Текст книги "Плавни"
Автор книги: Борис Крамаренко
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 19 страниц)
Ковтун молча всматривался в своего ночного гостя и, узнав Тимку, без особой радости спросил:
– Что ты, Тимка? Что надо?
– Пусти, крестный… дело есть.
– Входи. Ты что, пешком?
– До станицы доехал, а в станицу пеши пробрался.
Курень Ковтуна состоял из одной комнаты с большой русской печью. Стены и печь были выбелены мелом, а земляной пол вымазан глиной и устлан свежеплетеными чаканками. По стенам были развешаны фотографии в черных резных рамках и пучки каких–то трав, а над кроватью, стоящей в первой половине, на пестром ковре висели старинные пистолеты, сабли и кинжалы. Тут же, на узеньком ремешке, красовалось начищенное до блеска охотничье ружье деда Ковтуна.
Все до мелочи было знакомо Тимке: и эта поражающая посторонний глаз чистота, и старая черная кошка Муська возле печки. Знал он, что в том огромном кувшине, что стоит в углу кухни, держит дед Ковтун медовый квас, а вот тот, что чуть поменьше, но все же доходит Тимке по пояс, наполнен медом. Да мало ли что еще есть у деда Ковтуна: моченые яблоки, которые так любит Тимка, и повидло на меду из чернослива, и ведерные бутыли вишен, от терпкого сока которых сладко кружится голова, а ноги каменеют и отказываются служить.
Одно лишь было всегда непонятно Тимке: как это дед Ковтун управлялся сам со всем своим хозяйством, успевал делать всю бабью работу, да еще находил время ловить с Тимкой сазанов, а вечерами рассказывать ему занимательные были про старину далекую, навсегда ушедшую, про стародавние походы казачьи за Терек.
Давно Тимка не был у крестного и теперь, войдя в кухню и снимая пояс, с удовольствием рассматривал каждый предмет, как–то по–особенному, приветливо выделяющийся при свете горящей печки и маленькой лампы. Тимка с наслаждением потянул носом запах свежесваренного борща и тушеного мяса. «Вкусно готовит старый», – подумал Тимка и, сняв папаху, принялся расстегивать крючки суконной черкески.
Дед стоял тут же, возле небольшого кухонного столика. Был он высокий, еще крепкий старик с седыми, книзу спускающимися усами и гладко выбритым круглым подбородком. Его карие глаза с тревогой смотрели на Тимку из–под лохматых бровей. А Тимка, повесив черкеску на гвоздик, подошел к печке, погладил кошку и, потянув еще раз носом аромат от кушаний, вздохнул.
– Исты хочешь?
– Очень хочу, крестный.
– Ну, добре, сидай.
Ковтун усадил Тимку на лавку и вытащил из печки глиняный котелок борща. Тимка ел борщ с жадностью, обжигая губы. Дед сидел напротив, положив на стол локти. Бязевая рубаха Ковтуна была чисто выстирана и выглажена. Из ее рукавов торчали узловатые руки, покрытые морщинами, ссадинами и мозолями.
После борща Ковтун подал Тимке тушеную баранину с картошкой, потом жареных карасей и, наконец, моченых яблок и чашку вишневого сока.
– Що за дило привело тебя, сокол, в станицу?
– По дому соскучился, крестный.
– Домой тебе зараз не можно.
– Почему?! – вырвалось у Тимки. Он отложил недоеденное яблоко и впился взглядом в деда. – Почему?.. – переспросил он сорвавшимся шепотом.
– До Поли брат с Красной Армии приехал, у вас гостит.
– Что же делать, крестный?
Ковтун с минуту молчал, потом, глядя в угол, сказал:
– Лягай спать, а я пойду до вас, гукну 1 Польку. Що ж с тобой, бандюгой, робить…
1 Гукну – позову.
Тимка вспыхнул. Он знал, что Ковтун недолюбливал его отца и брата за то, что они сперва ушли с генералом Покровским, а потом пристали к «камышовскому войску», как иронически называл дед отряд Дрофы. Однако назвать его, Тимку, бандюгой – хоть, может, и в шутку – это уж слишком! Но прежде чем Тимка успел сказать что–нибудь, дед взял палку, снял с гвоздя папаху и вышел за дверь.
Тимка укрылся дедовой бекешей и с удовольствием вытянул босые ноги. Было так приятно лежать в чистой комнате, на мохнатой бурке, под которой одна на одну были сложены десятки мягких зелено–желтых чаканок.
Тимка закрыл глаза и представил себя дома. Завтра воскресенье, и мать, должно быть, испекла его любимый пирог с творогом… Да нет, ей сейчас не до пирога…
Тимка натягивает бекешу на голову и поворачивается на бок, потом поджимает ноги, вытягивает и снова поджимает их, сворачиваясь клубком под бекешей.
Просыпается Тимка от шума голосов, чьего–то возгласа и ощущения мягкого женского тела на своей груди. Тимка открывает глаза и видит Полю, стоящую на коленях перед его постелью.
Поля прижимается к нему, плачет и что–то причитает, чего не может понять Тимка. Потом они сидят рядом и оба плачут. Поля – громко, навзрыд, Тимка – тихонько всхлипывая. Ему жаль Полю, жаль племянника, оставшегося сиротой, жаль отца и себя самого.
Поля плачет долго, и когда она наконец стихает, Тимка решается спросить о матери. От Поли он узнает о том, что они считали его мертвым, о продаже его любимых рыжих быков, об обыске и о том, что у них хотели забрать последний хлеб, но когда мать пошла в ревком, вмешался сам председатель, и хлеб не тронули.
Андрей решил поспать подольше в воскресный день. Все предыдущие дни он поздно возвращался домой и, ложась спать, мечтал отоспаться в воскресенье, но его разбудили под утро. Семен Хмель бесцеремонно тряс его за плечо и, когда Андрей сел на кровати, тихо проговорил:
– Вставай, Андрей.
– Что? Что случилось?!
– Тише!.. Учительница отравилась.
В кухне Андрея ожидал Бабич. Все трое, на цыпочках, чтоб не разбудить Наталку, вышли из дому.
…Когда тачанка свернула к раскрытым воротам школьного двора, Андрей первый спрыгнул на землю и торопливо прошел в дом.
Зинаида Дмитриевна лежала на кровати поверх одеяла. Синее шерстяное платье ее было расстегнуто на груди, обнажая кружево сорочки. Но более всего запомнились Андрею до крови искусанные губы и приоткрытые, словно подсматривающие за кем–то из–под густых ресниц, глаза.
Андрей снял папаху и подошел к кровати. Мучила мысль, что вот он, которого она считала своим другом, не понял ее переживаний и не помешал ее гибели.
– Замотался, все некогда было, – прошептал Андрей, словно оправдываясь перед мертвой. Почувствовав на своем затылке чье–то дыхание, Андрей повернулся и увидел Семена Хмеля.
– Ты, Семен, оставайся здесь, поможешь Бабичу организовать похороны, а я поеду в ревком. – И Андрей тихонько, словно боясь кого–то разбудить, вышел.
Хмель, оставшись один, некоторое время стоял неподвижно, с сожалением смотря на Зинаиду Дмитриевну, потом принялся осматривать комнату. Но, кроме стакана с какой–то мутной жидкостью на дне да пустого зеленого конверта без надписи, валявшегося возле стола, ему не удалось найти ничего, что объяснило бы смерть учительницы.
Хоронили Зинаиду Дмитриевну на другой день. Кладбищенские аллеи были полны народа. Принесенные школьниками цветы не вместились в гробу. Белые, розовые, красные астры, перемешавшись с пестрыми георгинами, сплошь закрыли собой глиняный холм. На обратном пути Андрей ехал вместе с Наталкой. Он завернул ее в бурку, и она сидела притихшая, заплаканная, доверчиво прижавшись к его плечу.
Бегство Тимки и его открытый переход в лагерь врагов бурей прошли в сознании Наталки, оставив след навсегда. Она еще сильнее привязалась к брату и Андрею, перенеся на них обоих всю свою нежность. Наталка заметно похудела и как бы выросла. Глаза стали строже, задумчивей. Она редко улыбалась, смеялась еще реже, но изредка в смехе ее уже вспыхивали прежние перезвоны серебряных колокольчиков.
Семенной по–прежнему был для нее дядей Андреем, членом их семьи. И если его слово было законом для ее брата, то для нее – тем более. Беспрекословное подчинение всех, кто окружал Андрея, его воле стало для нее привычным. Она уже не удивлялась, как прежде, что приходившие к нему старики почтительно слушали, пока он говорил, и если и спорили иногда с ним, то как–то нерешительно, словно ученики со своим учителем.
И если ее брат был для нее не только братом, но и отцом, то Андрей был, пожалуй, кем–то еще большим. Чувство близости к Андрею росло в ней, укреплялось, незаметно переходя в какое–то новое чувство, неясное еще ей самой, но волнующее, заставляющее чаще биться ее сердце при появлении Андрея, при звуке его голоса.
Она уже не бегала по–ребячески взапуски с дядей Андреем, не просилась к нему на седло, когда он приезжал верхом, не брызгала ему холодной водой за ворот рубахи, когда он умывался. Но на столике в зале, где он часто работал или читал перед сном, всегда стоял кувшин с цветами, сорванными Наталкой. Его одежду Наталка тщательно чинила. Обед подавала ему первому, а когда Андрей не приезжал, становилась грустной.
Дома Андрей бережно высадил Наталку из тачанки, помог ей дойти до ее комнаты и, несмотря на ее протесты, заставил прилечь на кровать, укрыв ее своей буркой. Сам же прошел в зал. На столе лежала книга, которую он читал в ночь смерти ее хозяйки, а возле книги стоял кувшин с завядшими цветами.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ1
После отъезда Сухенко в командовании отрядом полковника Дрофы произошли большие перемены. Есаул Гай был назначен командиром первой, офицерской, сотни, а подхорунжий Шпак – второй, добровольческой. Тимка был произведен в вахмистры. Эти назначения вызвали недовольство в офицерской сотне, где войсковые старшины командовали взводами, а подхорунжие служили рядовыми. Но открыто выражать свое недовольство никто не решался: все знали, что Дрофа крут на расправу.
Вскоре после этих перемен добровольческая сотня выступила на выполнение задания полковника Дрофы. Приказано было остановить в степи товарный поезд, не допустив его до Староминской, и сделать, по выражению Дрофы, «сортировку» пассажиров.
В те годы товарные поезда были переполнены людьми, ехавшими на Кубань покупать продукты, а чаще всего – менять их на вещи. Среди этих вещей немало было военного обмундирования и солдатских сапог. В них–то особенно нуждался отряд Дрофы.
Кроме того, в таких поездах можно было встретить служащих, следовавших по командировкам, а среди них уже наверно найдется несколько «эркапистов», как называли бандиты коммунистов.
Среди пассажиров немало бывало и переселенцев из центральных губерний, ехавших со всем своим скарбом, среди которого бандиты рассчитывали найти кое–что по своему вкусу. Но главной приманкой были спекулянты – «мешочники», у которых попадались деньги и ценные вещи, а частенько и золото. Наконец, в товарных вагонах можно было иногда найти ценные грузы.
В помощь второй сотне Дрофа выделил один из офицерских взводов под командой пожилого, желчного войскового старшины.
Неяркий октябрьский день. Еще вьются над степью черные тучи скворцов. Еще кричат по утренним и вечерним зорям в траве перепела. Но уже не мчатся в стремительном полете стрижи и ласточки – они первыми улетели на юг. Низко парят коричневые коршуны в поисках задремавшего под кустиком зайца или пасущегося перепелиного выводка. На вершине кургана лежит Тимка, рядом с подхорунжим Шпаком. Конная сотня и обоз прячутся в кукурузном поле и небольшой балке, недалеко от железнодорожной насыпи. Офицерский взвод скрылся за деревьями сада при путевой будке.
Четвертый час отряд тщетно ждет «товарняка». Пути давно уже разобраны и забаррикадированы рельсами и шпалами. Путевой сторож и его семья связаны и лежат в будке. А поезда все нет и нет…
Шпак нервничает, но не хочет показать этого командиру офицерского взвода, спокойно завтракающему у подножия кургана. Тимка неспокоен. Он понимает, что затея с ограблением поезда сильно не нравится старому подхорунжему. Шпак, будь его воля, давно увел бы свою сотню назад, но подхорунжий, хотя и командует сотней, – все же подхорунжим, а командир офицерского взвода – войсковой старшина. Тимка смотрит вдаль, на уходящие к горизонту рельсы, и желает лишь одного – чтобы поезд никогда не появлялся.
– Дядя Михайло!..
– Чего тебе, суслик? – ворчливо бросает Шпак.
– Поезда ведь может и не быть?
– Ну, может, – соглашается Шпак.
– Наверно, он уже прошел, – делает предположение Тимка.
– Может, и прошел, – опять соглашается Шпак и наводит свой бинокль туда, куда смотрит Тимка. – Вот он! – Но Тимка уже и сам видит на горизонте маленький пушистый дымок.
– Пойдем, Тимка, пора! Поезд остановился у баррикады.
Пассажиры были всюду – на крышах вагонов, на буферах, площадках, в вагонах. Тимке бросилось в глаза, что среди этого люда больше всего было бородатых мужиков в сермяжных свитках. «Тамбовские казаки!» – презрительно подумал он.
Окружив поезд, начали «сортировку»: пассажиров с вещами отделили от пассажиров без вещей. Мешочников согнали отдельно, отпускных красноармейцев и служащих выделили в особую группу.
Затем начался осмотр багажа и обыск. Отбирали все, что казалось мало–мальски ценным, и сваливали в общую кучу, а затем грузили на подводы. Пассажиры были настолько перепуганы, что безропотно расставались со своими вещами, на которые они надеялись выменять муку и сало.
Среди этих оробевших людей Тимке запомнились двое: старик в очках, с седой бородкой, похожий на профессора, и его спутница, молодая красивая женщина, видимо, дочь. Один из казаков с разочарованным видом выбросил на землю вещи, бывшие в чемодане старика: пустой мешок, мужской костюм и три дамских платья.
Пока Тимка занимался сортировкой вещей и укладкой их на подводы, офицерский взвод, отведя к паровозу группу пассажиров, расстрелял их из пулемета. Тимка, побледнев от негодования, соскочил с груженой подводы и прыгнул в седло, но взводный урядник Галушко преградил ему дорогу.
– Куда ты, вахмистр?! Богом прошу! Мертвых ведь не воскресишь.
Тимка опустил голову и молча слез с коня.
Обоз тронулся вперед, следом за разъездом из взвода второй сотни. За обозом и по бокам его шла сотня, а позади офицерский взвод гнал толпу пассажиров.
– Зачем они их взяли? – спросил угрюмо Тимка Шпака.
– Черт их знает зачем, – так же угрюмо ответил подхорунжий и отвернулся от Тимки.
– Прикажите отпустить! Зачем они нам? Хватит, что обобрали, – не отставал Тимка.
Шпак промолчал. Да и что он мог сказать своему вахмистру, если у него самого ныло сердце при виде этой толпы обездоленных и голодных людей. Но отпустить их Шпак не решался. Ведь не он их забрал, а войсковой старшина. Все же в конце концов Шпак не выдержал. Подъехав к командиру офицерского взвода, он тихо, но решительно проговорил:
– Господин войсковой старшина, в наше задание не входило уводить за собой эту толпу. Потрудитесь их отпустить.
Офицер оглянулся назад. Поезд оставался уже далеко позади.
– Да, вы правы, сотник, тащить их с собой не стоит… – Он махнул плетью и остановил коня.
– Господа! Отпустите арестованных. – И, обращаясь к толпе, крикнул: – Идите назад, да не оглядывайтесь. Отпускаю вас на свободу.
Снятые с поезда некоторое время стояли неподвижно, словно не веря. Потом толпа колыхнулась, и люди, рассыпавшись на кучки, пошли назад, – сперва медленно, потом все быстрее и наконец все уже бежали.
Тогда войсковой старшина пропел команду, и его взвод лавой бросился в атаку на бегущих. Тимка сперва не понял всей чудовищной, бессмысленной жестокости совершающегося. Потом первой его мыслью было остановить, во что бы то ни стало остановить атакующий взвод. Услышав почти тотчас же отрывистую, взволнованную команду Шпака, он выхватил клинок.
Вторая сотня рванулась следом за офицерским взводом, но было уже поздно: когда Шпаку удалось остановить это побоище, не менее половины пассажиров было вырублено.
Среди убитых лежал, лицом вверх, «профессор» с разрубленным до пояса туловищем. Тут же, возле него, валялись разбитые очки. Немного поодаль уткнулась лицом во влажную землю его молодая спутница. Кровь из глубокой раны на голове покрыла ее золотистые, вьющиеся, рассыпанные по плечам волосы.
Войсковой старшина был взбешен вмешательством подхорунжего Шпака. Брызгая слюной, визжа от злости, он грозил Шпаку всеми карами по возвращении в лагерь. Но Шпак словно преобразился. Это уже не был дисциплинированный младший офицер–строевик, готовый стать навытяжку перед всяким, кто хоть одним чином был выше его. Тимке показалось, что вот–вот Шпак полоснет войскового старшину шашкой, которую сжимал в руке.
Ругающихся командиров стал окружать офицерский взвод. Тимка, видя, что Шпаку грозит опасность и что офицеры его сотни не решаются вмешаться в спор, вырвал клинок из ножен:
– Сотня! Ко мне!
Дело, несомненно, кончилось бы свалкой между офицерским взводом и второй сотней, если б не пришел в себя войсковой старшина. Поняв, что дело зашло далеко, он сразу замолчал и повернул коня в сторону от Шпака.
Тимка ехал позади сотни. Ему жаль было подхорунжего Шпака – ясное дело, по приезде на хутор ему грозит большая неприятность. И все же Тимке было досадно, что спор не кончился дракой. «Вырубить бы без остатка всех их, собачьих сыновей!» – со злостью подумал Тимка, оглядываясь на офицерский взвод.
…На ночевку отряд расположился в большом казачьем хуторе, разбросанном по берегу речки.
Тимка, Шпак и сотенный трубач заняли хату в центре хутора. Поужинав, Тимка разрешил трубачу отлучиться на часок погулять, а сам пошел посмотреть, как разместились люди его сотни. По дороге его не покидала мысль, что прав был полковник Сухенко, советуя ему уходить из отряда. «Надо встать завтра пораньше, поговорить с Васькой да махнуть на хутор к Петру», – решил Тимка.
Обойдя хаты и конюшни, где разместились казаки сотни, и выделив людей для караула, Тимка направился назад. Он уже подходил к дому, когда услышал сухой револьверный выстрел и вслед затем испуганный крик хозяйки, выбежавшей на крыльцо. Тимка стрелой метнулся во двор и, оттолкнув хозяйку, ворвался в дом. В единственной комнате чистой половины хаты, склонив седеющую голову на стол, сидел недвижимо Шпак. У его ног, на земляном полу, валялся большой армейский кольт, а из левого виска старого подхорунжего тонкой струйкой вытекала кровь.
О происшествии с товарным поездом Андрей узнал на другой день утром. Одновременно пришли еще два сообщения: одно – о налете на станицы Шкуринскую и Канеловскую, другое из Каневской – о смерти Остапа Капусты, найденного в своем огороде с перерезанным горлом.
Объявив мобилизацию партийно–комсомольских рот и взводов в станицах Каневского и Староминского районов, Андрей приказал Хмелю проехать по всем хуторам, выявить месторасположение банды и разбить ее; вызвал к себе в ревком Бабича.
– Звал, Андрей Григорьевич?
– Звал. О налетах слышал?
– Чул…
– А о смерти Остапа?
– Чул…
– Поедешь со мной в Каневскую… Примешь гарнизон. У полковника Гриня появился офицерский отряд. Приказываю уничтожить, а его самого, ежели поймать доведется… Сюда направь… остальных можешь в плен не брать.
Бабич ушел. Андрей взял со стола первую попавшуюся бумагу, но читать не смог.
– Остап… Остап…
Остап Капуста представился ему мертвым, с бледно–желтым лицом, перерезанным горлом и с глазами, полными смертельной ненависти.
– Дорого они заплатят за твою смерть, Остап! – громко сказал Андрей.
С улицы донеслись обрывок песни и напевные слова команды. В кабинет вошел Семен Хмель.
– Выступаем, Андрей. Прощай.
– Добре, езжайте. Запомни, Семен… Никакой пощады бандитам!
Хмель пошел к двери, но у порога задержался и повернулся к столу.
– Андрей! Верь… я не боюсь смерти, но ежели меня убьют… не оставляй сестру! – И, не дожидаясь ответа Андрея, вышел из комнаты.
…Деркачиха ждала к себе есаула Гая и штаб полковника Дрофы. Гости известили ее через конного гонца, что будут ночью. Деркачиха весь день хлопотала насчет ужина, потом приоделась и стала ожидать гостей. Едва начало смеркаться, как во дворе послышались яростный лай собак, голоса людей и топот конских копыт. Хозяйка, придерживая шелковые юбки, выбежала на крыльцо… и совсем неожиданно для нее столкнулась с Семеном Хмелем.
Она испуганно вскрикнула, прижав ладони к груди и широко раскрыв глаза.
– Не ждала, Груня? – В сумерках мелькнувшего дня Деркачиха увидела, что весь ее двор заполнен всадниками.
– Что же стоишь? – голос Хмеля звучал насмешкой. – Принимай гостей. Должно, не нас ждала, разодевшись? В доме никого нет?
– Нету, – еле слышно выдохнула из себя Деркачиха, не отрывая глаз от Хмеля. Хотела отступить в сторону, но у нее подкосились ноги, и, пошатнувшись, она схватилась за перила крыльца.
Хмель уже теплее, без прежней насмешки, сказал:
– Иди, Груня, вперед, да ежели кто у тебя есть, лучше зараз скажи.
Деркачиха, немного оправившись, но все еще бледная и растерянная, вошла в дом. За ней следовали Хмель, Бурмин и несколько казаков.
– Обыскать дом! – распорядился Хмель.
Когда Хмелю донесли, что на кухне приготовлен ужин, по крайней мере, на целый взвод, он нахмурился и молча прошел в спальню Деркачихи.
Она сидела у окошка и пристально смотрела в сад, даже не обернулась, когда Хмель переступил порог ее комнаты. Хмель постоял у порога и, поборов смущение, решительно подошел к хозяйке.
– Гражданка!
Деркачиха вздрогнула, но не повернула лица. В комнате было почти темно, но все же Хмель понял, что она плачет. Хмель хорошо понимал, кого ждала к себе в гости Деркачиха. Знал он и то, что у нее неделями останавливался штаб генерала Алгина, а есаул Гай со своим отрядом постоянно находил здесь пристанище. Знал, что Деркачиха широко снабжает бандитов продуктами, а ее хлеб убирал и обмолачивал отряд Гая. Деркачиху за ее связь с бандитами надо, конечно, арестовать и отправить в станицу. Там ее будет судить комиссия под председательством Семенного и наверняка приговорит к расстрелу. И он, Хмель, член комиссии, должен будет высказаться за ее смерть.
Семен Хмель провел ладонями по лицу, словно отгоняя от себя невольную жалость к женщине, бывшей когда–то для него самой дорогой, самой близкой на свете. И вдруг со страхом понял, что по–прежнему крепко любит ее, что любовь эта, так долго, годами, таимая в сердце, сейчас разгоралась с новой силой. Груня порывисто поднялась, подошла к нему вплотную, и Хмель почувствовал на своем лице ее дыхание.
– Сеня, родной, убей меня, убей! Я подлая, подлая!.. – Груня со стоном повалилась ему в ноги.
Хмель растерялся. Она обнимала его ноги, прижималась головой к его коленям.
– Застрели меня… сокол ты мой!..
Голос Хмеля прозвучал глухо и самому ему показался чужим:
– Встаньте, гражданка Деркач. – Он с трудом поднял ее с пола. Когда же она прижалась к его груди, Хмель не выдержал и обнял ее за плечи. А Груня уже горячо шептала ему в ухо:
– Пусть лишусь всего, ничего мне не надо, ничего, только не гони, только б смотреть на тебя… Увези меня отсюда, Сеня… Увези!
…Хмель, качаясь, словно пьяный, вышел из спальни Деркачихи в столовую, где командир сотни Бурмин допрашивал какого–то парнишку. Увидев Хмеля, Бурмин кивнул в сторону перепуганного парня.
– Вот он влез на скирду и давай фонарем махать, насилу стащили. А кому махал и зачем – признаться не хочет. – И, снова обращаясь к парню, крикнул:
– Ты дураком не прикидывайся! Говори, кому фонарем сигналы давал?
– Оставьте его. – И, посмотрев на двух гарнизон–цев, стоящих позади парня, Хмель приказал: – Посадите его в амбар. Освобожусь, сам допрошу.
Парня увели.
Взглянув на Хмеля, Бурмин с удивлением подумал: «Что это с ним? Как будто он добрый десяток лет скинул за этот вечер. Глаза искрятся, морщины разгладились». Как бы отвечая на немой вопрос Бурмина, Хмель сказал:
– Вот что, Бурмин, я сейчас узнал, что офицерская сотня расположилась в семнадцати верстах отсюда, в двух хуторах. Немного левее, ближе к плавням, остановился Гай. Этой ночью сюда должен был приехать штаб Дрофы. Теперь, конечно, не приедет. Этот хлопчик, гаевец, их предупредил. Прикажите–ка седлать коней. Может, налетим на них под утречко…
Через полчаса Хмель во главе конных сотен покинул хутор. На рассвете он атаковал офицерскую сотню, но врасплох бандитов не удалось захватить. Полковник Дрофа, предупрежденный о появлении красных, готовился к выступлению. Когда сотни Хмеля ворвались в хутор, офицерские взводы уже кончали седловку.
Заняв после короткого боя хутора и развеяв банду по степи, Хмель не смог преследовать их: кони его отряда были утомлены двумя переходами.
Гай, не успевший оказать помощь офицерской сотне, сочтет за лучшее увести свой отряд в плавни.
Семен Хмель решил вернуться в станицу, пройдя по другим хуторам. Проезжая на обратном пути вблизи хутора Деркачихи, он передал команду Бурмину и, взяв с собой десяток казаков и пулеметную тачанку, заехал на хутор, чтобы переночевать здесь.
…Осенний, обложной дождь тоскливо барабанит по крыше. В саду холодный ветер обрывает с деревьев листву. Гарнизонцы, постелив в просторной кухне чаканки и бурки, спят возле жарко натопленной печи, и лишь часовые возле ворот да у конюшни одиноко мокнут, кутаясь в бурки.
В спальне Деркачихи на пуховых перинах лежит Семен Хмель и, заложив руки под голову, глядит на расплывчатые, мягкие тени на потолке. На лице Деркачихи бродит счастливая улыбка… В углу, перед огромной иконой богородицы, горит лампада. Груня тоже не спит. Она думает о своей будущей жизни.
– Сеня, ты спишь?..
– Нет.
– Сеня, завтра мне минет двадцать девять лет, а тебе скоро будет тридцать шесть. А помнишь, когда мне было семнадцать, а тебе двадцать четыре, мы поклялись никогда не разлучаться?
– Помню, Груня. Теперь мы уже никогда не расстанемся. Завтра я увезу тебя в станицу.
– А как же хутор, Сеня?
– Пусть Андрей Григорьевич решает, что делать с хутором.
Груня, приподнявшись на локоть, спросила тревожно:
– Ты ничего не слышишь, Сеня?
– Нет, а что?
– Почудилось мне, будто голоса в саду.
– То ветер шумит, Груня. – Но все же неясная тревога закралась в сердце. Хмель встал и, одевшись, вышел на крыльцо. Ветер швырнул ему в глаза горсть воды и чуть не сорвал с головы папаху. Он постоял, всматриваясь в темноту, но, не заметив ничего подозрительного, решил пройти в конюшню.
Широкие ворота конюшни были прикрыты, а в узких оконцах мерцал тусклый свет фонаря. Хмель, идя к конюшне, поравнялся с амбаром. «А часового–то нет, – с досадой подумал Хмель. – В конюшню, должно, укрылся от непогоды». На всякий случай он вытащил маузер. В это время от амбара отделилась чья–то фигура и бесшумно выросла у него за спиной. Ветер заглушил глухой крик Семена Хмеля, шум от падения его тела и предсмертный слабый стон…
Андрей, похоронив Остапа Капусту и забрав с собой его обоих сыновей, вернулся в Староминскую.
Хмуро выслушал он рапорт Бурмина и, узнав, что Хмель остался ночевать на хуторе Деркачихи, нахмурился еще больше. Смотря поверх головы вытянувшегося перед ним командира сотни, приказал:
– Дайте коням толченого ячменя и клевера, люди пусть не расходятся. Поварам прикажите накормить сотни до света. Утром выступаем. В Канеловскую и Шкуринскую позвонить, чтобы их конные взводы были готовы к выступлению. За мной пришлите коня к шести часам.
Дома Андрей застал Наталку и рыжеволосую девушку с голубыми глазами. Обе они были в зеленых телогрейках с нарукавными повязками сестер милосердия. Отряхивая дождевые капли, Андрей пошутил:
– Вы куда, вояки, собрались?
– Никуда, дядя Андрей. Мы на комсомольском собрании были, а днем раненых по домам развезли и перевязали.
Ужинать сели втроем. Наталка и ее подруга без удержу болтали, смеялись. Андрей слушал, не вмешиваясь, и лишь изредка улыбался, но на лбу его не разглаживались складки. Жаль было Остапа Капусту, беспокоило отсутствие Хмеля. Он решил, что утром сам поведет гарнизон и не возвратится в станицу, пока не разгромит банду вместе с ее штабом.
Пожелав девушкам спокойной ночи, Андрей прошел в зал и сел, не зажигая огня. Вскоре Наталка внесла небольшую лампу и поставила ее на край стола.
– Дядя Андрей, Сеня скоро вернется?
– Не знаю, Цыганенок. Утром поеду к нему сам.
– Опять уезжаете?! – огорченно всплеснула руками Наталка.
Андрей поднялся и шагнул к ней.
– Да, придется тебе еще поскучать. Вернемся с Семеном, поедем в Ростов и тебя возьмем с собой.
– Андрей Григорьевич, дядя Андрей… не ездите… – она подняла на Андрея глаза, и тот с удивлением заметил блеснувшие слезы. Он, притянув ее к себе, провел рукой по волосам.
– Скучно тебе?..
– Не о себе думаю. Доездитесь, что убьют вас… с Семеном. Что я тогда одна делать буду?! – Наталка прижалась к нему и неожиданно обвила его шею руками.
– Дядя Андрей, не ездите.
Он хотел что–то сказать, но ее губы коснулись его губ, и он забыл все. А Наталка сейчас же отскочила от него и убежала в свою комнату.
Андрей в ту ночь не мог заснуть. Неужели Наталка полюбила его… или поцелуй был просто детской лаской? Он решил переговорить с Семеном, а по возвращении – объясниться с Наталкой.
Под утро, когда он наконец задремал, прибыл его конвой. Наталка и ее подруга еще спали. Андрей, не желая будить их, уехал не попрощавшись.
Вскоре две конные сотни покинули станицу, взяв путь к плавням.
К хутору Деркачихи гарнизон подходил в полдень. Вдали показалась кровля из оцинкованного железа и многочисленные хозяйственные постройки. Андрей, обеспокоенный тем, что посланная вперед разведка куда–то исчезла, остановил сотни и выслал новую, но не утерпел и сам поскакал с ней на хутор.
Подъехав к воротам, Андрей увидел труп своего гарнизонца у забора и первую разведку во дворе.
Стиснув зубы, слушал Андрей рапорт начальника разведки о зарезанных часовых и убийстве Семена Хмеля. Не дослушав, приказал оцепить хутор и торопливо пошел к крыльцу.
В большой комнате, видимо столовой, лежал на столе покойник, покрытый белой простыней, а у ног его прямо на полу, сидела молодая женщина с растрепанными волосами и то тихо всхлипывала, то рыдала навзрыд, то вновь затихала. Андрей постоял с минуту на пороге, потом прошел к столу и резко отдернул простыню. Перед ним лежал Хмель с остекленевшим взглядом полуоткрытых черных глаз. Андрей снял папаху и стоял неподвижно, боясь нарушить покой мертвого друга.
Есаул Гай, узнав через своих лазутчиков об уходе гарнизона в станицу, решил ехать разыскивать Дрофу и его штаб. К этому времени на остров стали собираться остатки офицерской сотни.
В ту ночь, когда Гай с Дрофой и его штабами ехали к Деркачихе и у самого хутора заметили сигналы о появлении красных, Дрофа поехал готовить к выступлению офицерскую сотню, а Гай – собирать свою сотню. С тех пор Дрофа и Гай больше не виделись. По рассказам офицеров, Дрофа участвовал в бою, а потом исчез неизвестно куда.
Прежде всего Гай решил заехать к Деркачихе. Он не на шутку беспокоился о ее судьбе. Кроме того, на хуторе можно будет кое–что узнать, а также запастись фуражом для лошадей и продуктами для бойцов.
Гай приказал седлать первому взводу. Выйдя из землянки посмотреть, не находит ли снова дождь, он увидел въезжающий в лагерь' небольшой отряд во главе с полковником Дрофой.








