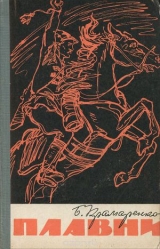
Текст книги "Плавни"
Автор книги: Борис Крамаренко
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 19 страниц)
1
С тех пор как штаб «Повстанческой армии» вынужден был снова уйти в плавни, в землянке полковника Дрофы жили, кроме него, генерал Алгин, полковник Сухенко и есаул Гай.
Генерал Алгин, поджав под себя ноги, сидел на койке и сосредоточенно курил трубку. Его окутывали густые облака сизого дыма. Полковнику Дрофе, прохаживавшемуся по комнате, временами казалось, что маленькая фигурка генерала вот–вот оторвется от койки и улетит вместе с дымовым облаком в полуоткрытый полог входа.
Сухенко, размотав перевязку, осматривал свою левую руку. Рана была пустяшной: пуля пробила ладонь навылет, – но рука почернела и вздулась. «Йодом бы залить…» – подумал Сухенко. Но йода не было.
Дрофа подошел к Сухенко и, взглянув на его руку, сказал насмешливо:
– Домахались руками, пока пулю не поймали. А теперь руку отрежут… ежели раньше от заражения к праотцам не отправитесь.
– Вашу же, полковник, пехоту останавливал, когда она от красных драпала, – огрызнулся Сухенко.
Дрофа ничего не ответил и снова зашагал по комнате, глубоко засунув руки в карманы офицерских рейтуз.
Он понимал, что если Алгин молчит уже около часа, непрерывно затягиваясь табачным дымом, значит, он думает за всех и, наверное, придет к неплохому решению. Уж, конечно, не этот юбочник Сухенко может найти выход… Волочиться за первой встречной бабой, лихо протанцевать мазурку или наурскую, смело мчаться во главе конной казачьей лавы, – это он может, это его жизнь. А вот хладнокровно, как в шахматной игре, рассчитать, взвесить обстоятельства, подметить слабые стороны противника, найти выход из волчьего капкана, в который они попали, – на это Сухенко не способен.
…А положение штаба и отряда действительно препаршивое. Теперь вся надежда на силы десанта. Уральская бригада, очевидно, уже прибыла, иначе Семенной не бросил бы против Алгина всю свою конницу. Но уральцы не смогут задержать надолго Бабиева, и он уже, должно быть, подходит к Каневской… Семенному же придется срочно перебрасывать навстречу десанту все силы гарнизонов. И если в Каневской при подходе Бабиева вспыхнет восстание, то положение может быстро измениться…
Полог входа зашевелился, и в комнату, пригибаясь под притолокой, вошел Гай. Он поставил на стол две манерки с пшенным кулешом и шутливо проговорил:
– Кушайте, господа, изысканное блюдо… Впрочем, не падайте духом: кулеш с индюшатиной.
Дрофа достал с полки четыре ложки, несколько белых сухарей.
Гай зачерпнул ложкой кулеш и подал генералу, тот подул на ложку и попробовал.
– Вкусно… только соли маловато.
– Последнюю высыпал.
Ели жадно, обжигаясь горячим хлебовом.
Алгин первый отложил ложку и, вытерев платком усы и бороду, посмотрел на Дрофу.
– Придется переформировать отряд… свести его в один батальон с конной разведкой… и ночью попытаться вырваться из этого чертова болота. Красные сейчас, должно быть, заняты защитой Каневской от Бабиева.
– У нас много тяжелораненых. Куда мы их денем? – спросил Сухенко.
– Таких раненых надо будет прикончить, – спокойно проговорил Дрофа и вытащил из кулеша кусок мяса.
– Ну, это уж… – вырвалось у Сухенко.
– Что? – спросил Дрофа.
– Подлость, вот что! – Сухенко отшвырнул ложку и порывисто поднялся.
– Я не дам добивать своих раненых бойцов, – мрачно откликнулся Гай и тоже встал.
– Садитесь, господа, обсудим, – приказал спокойно Алгин. Сухенко и Гай нехотя сели. – Сейчас Русская армия терпит большие затруднения. По последним сведениям, большевики стягивают против нас крупные силы. О действиях группы полковника Назарова тоже вести неутешительные. Вопреки всем надеждам, донское казачество не восстает по пути движения назаровского отряда… Нам совместно с десантом необходимо во что бы то ни стало захватить Кубань и срочно провести мобилизацию. Этим мы сильно поможем Русской армии. Генерал Улагай уже двигается на Екатеринодар. Очевидно, он проводит широкую мобилизацию в занятых станицах. Нам надо выбраться отсюда, поскорей соединиться с генералом Бабиевым и немедленно приступить к формированию Второго конного корпуса. И время и возможности у нас весьма ограниченные. Гуманность, Анатолий Николаевич, дело хорошее, но… С тяжелоранеными нам не прорваться. Оставить их здесь тоже нет смысла. Они либо погибнут, либо попадут в руки красным и могут выболтать многое… Поэтому, как ни жаль, но таких раненых придется умертвить. И придется это дело организовать вам, Марк Сергеевич.
– Будет сделано.
Гай молча встал и вышел из домика. Сухенко принялся забинтовывать руку.
– Анатолий Николаевич, я поручаю вам подобрать человека, или даже двух, и послать их спешно к генералу Бабиеву. Надо сообщить ему о нашем положении. Записку напишу я.
– Слушаюсь. Если разрешите, я пошлю старшего урядника Шеремета. Он отлично знает плавни и все ближайшие пути к Каневской и Бриньковской.
– Хорошо, пускай сейчас же собирается. Через час после его отъезда высылайте второго гонца. Я напишу две записки.
Сухенко, бережно прижимая к груди раненую руку, вышел.
– Аркадий Львович, – сказал Дрофа, – а что вы думаете о неудаче Русской армии под Каховкой? Мне кажется…
– Что же вам кажется?
– Я думаю так: если большевики бросят на Юж–яый фронт все, что смогут снять с польского, и, кроме того, произведут дополнительную мобилизацию, – наши могут оказаться снова запертыми в Крыму.
– Нет, я не допускаю этого. Наша армия сейчас великолепно оснащена, части – отборные, солдаты и казаки не утомлены. На офицерско–юнкерские полки можно полагаться безоговорочно. Части же красных устали, выдохлись. Они вынуждены мобилизовать старшие возрасты, бородачей… А самое главное – ни Англия, ни Франция никогда не примирятся с таким положением, чтобы на одной шестой части земного шара правили большевики. В крайнем случае, барон Врангель пойдет на любые территориальные уступки Англии и Франции – и тогда они высадят в Крыму экспедиционный корпус.
– Давно это надо было сделать! – раздраженно проговорил Дрофа. – Лучше отдать и Донбасс, и бакинскую нефть, и даже больше этого, чем потерять все!
– Ну, щедро раздавать, пожалуй, не следует, да и нет в этом нужды, а вот на уступку англичанам Донбасса надо, по–моему, идти – и притом немедленно.
– А на какой срок они добиваются концессии на Донбасс?
– На девяносто девять лет.
– Ого! Это я понимаю! Вот так концессия!
– При условии передачи им Донбасса, они вводят туда свои войска…
– И надо отдать им Донбасс. Иначе не жить вам, ваше превосходительство, в атаманском дворце и не держать в руках булавы войска кубанского… А мне… Ведь у меня нет средств, и мне не с чем драпать за границу в случае провала!
– У вас слишком мрачные мысли сегодня, полковник. Я твердо убежден, что, несмотря на все наши временные неудачи, мы победим.
Маленькая серая птичка – камышовка – примостилась на молодой ветке дикого шиповника, росшего в глубокой балке, и с любопытством рассматривала неподвижно лежащего шагах в десяти молоденького казака в серой черкеске. Недалеко от него пасся по дну балки вороной белолобый конь.
Камышовка, заметив шулику, быстро порхнула в соседний терновый куст. Шулика описала широкий круг, но, потеряв из виду добычу, скрылась в лучах заходящего солнца.
Казак открыл глаза. Полежав еще с минуту, встал, направился к коню и привычными движениями стал подтягивать подпруги. Конь недовольно фыркнул. Его карие глаза стали злыми, а маленькие уши прижались назад.
– Ну, ну! Не балуй! Не вздумай кусаться!
Но Котенок мотал головой и не хотел брать в рот опротивевшее железо. Он даже куснул слегка хозяина за плечо, но тот все же притянул за челку его голову и засунул в рот мундштук.
Тимка, с Котенком на поводу, выбрался из балки, предварительно удостоверясь, что поблизости никого нет. Прыгнув в седло, шагом поехал по выжженной солнцем степи.
Тимка не нашел в Каневской Бабиева, не было врангелевцев и в Бриньковской. Ольгинская была занята красными. Узнав, что бои идут возле Тимашевки, Тимка пробирался по ночам туда, прячась днем по глубоким оврагам и балкам.
Генерал Алгин, вручая ему записку, трижды перекрестил его и ласково проговорил:
– Езжай и… да поможет тебе бог! Растроганный генеральской приветливостью, Тимка
решил во что бы то ни стало добраться до войск десанта. Он и сам не знал, что его побудило согласиться на выполнение такого рискованного поручения. Вернее всего, тоска по воле и желание скорее вырваться из плавней.
Вахмистр Шеремет, узнав об отъезде сына, насупился. Он хотел приласкать Тимку, но, не зная, как это сделать, стоял молча, не отрывая от Тимки глаз.
– Значит, едешь?
– Еду, – едва слышно ответил Тимка.
– Взрослого не могли, что ли, найти?..
– Я старший урядник… – нотка гордости прозвучала в голосе Тимки.
– Поймают, голову враз оторвут, особливо за то, что урядник.
– Один конец, батя. А так жить – хуже смерти… Шеремет удивленно посмотрел на сына и словно впервые заметил темные круги под его глазами, желтый, нездоровый цвет лица, тоску в когда–то беззаботно веселых, озорных синих глазах. И, всегда суровый к своим детям, старый Шеремет неуклюже обнял сына. Тимке даже показалось на миг, что отец всхлипнул.
«Придется ли свидеться?» – подумал Тимка, вспоминая расставание с отцом, и вздохнул. Правда, цель близка: он уже объехал правый фланг красных и сегодня ночью, резко свернув влево, должен обязательно наткнуться на дозоры десантных войск.
Тимка достал из подсумка пару погон и с трудом приколол их английскими булавками к черкеске.
Наступила ночь. Смолкли далекие раскаты орудий. Ехать пришлось наугад, не разбирая дороги. Тимка стал дремать в седле, убаюканный ровным шагом Котенка. Немного беспокоили лишь непонятная головная боль и легкая слабость, не проходившая вот уже вторые сутки и не схожая с обычным приступом лихорадки. Тимке стало холодно, чтобы согреться, он перевел Котенка на рысь – и чуть не свалился с седла от охватившей его слабости.
Он взялся обеими руками за шею коня и с трудом снова перевел его на шаг. В голове словно работала невидимая кузница. Ухали тяжелые молоты, шуршали мехи. Озноб сменился нестерпимым, палящим жаром, тело покрылось липким потом. Тимка растерянно подумал: «Тиф, должно… Эх, надо, что б там ни было, до утра в седле продержаться!» – и он резко свернул влево.
Вскоре Котенок вышел на дорогу. Чуткие уши коня ловили каждый степной шорох. Пробегал ли трусливый заяц, кралась ли к заснувшей перепелке лиса, шуршала ли, изгибаясь, черная гадюка, свистел ли у норки суслик – все волновало и настораживало Котенка.
Но Тимка не слышал ночной жизни степи. Его вновь, сильней прежнего, стал бить леденящий озноб. Отстегнув от седла бурку, он накинул ее себе на плечи. Немного согревшись, уснул и очнулся, лишь когда конь шарахнулся в сторону, испугавшись чего–то, и чуть не вышиб его из седла.
Была все еще непроглядно–темная ночь. Накрапывал мелкий дождик. Где–то вдали лаяли собаки. «Если это станица Поповическая, то там должны быть наши. А если хутор, то все ж можно рискнуть переночевать», – решил Тимка и направил Котенка прямо на собачий лай.
Прошло довольно много времени, прежде чем перед Тимкой из густой завесы дождя показались деревья и какие–то постройки. «Нет, это не станица, – подумал он, – ну, да все равно», – и под яростный собачий лай въехал в чей–то двор.
В одном из окошек довольно большого дома засветился слабый огонек, и вскоре на крыльце показалась человеческая фигура. Голос у вышедшего человека был грубый, негостеприимный. Но Тимке все было сейчас безразлично. Шум в голове усилился, хотелось укрыться от дождя, а главное – спать, спать…
– Хозяин, пусти переночевать. С дороги сбился.
– А кто такой?
– Дальний я.
– А куда едешь?
– В Поповическую.
– В Поповическую? – переспросил хозяин смягченным уже тоном. – Она у тебя с левой руки осталась. Проехал ты ее, значит… Ну, слезай с коня, до утра перебудешь.
Тимка обрадовался. Он с трудом стал сползать с седла, держась рукой за переднюю луку. Но лишь только он коснулся земли, ноги отказались держать его, и он, теряя сознание, медленно осел на землю. Ему казалось, что он падает в глубокий колодец. Последняя его мысль была: «А что будет с запиской Алгина, зашитой в шапке?»
Хозяин поспешно спустился с крыльца и наклонился над Тимкой. Он снял с него бурку и ощутил на плечах сукно погон с поперечными лычками. Из дому вышел молодой парень в коричневой бекешке внакидку.
– Красный, батя?
– Нет, наш… Урядник… Возьми, Петро, коня. – Хозяин легко поднял Тимку на руки и понес в дом.
В маленькой комнате с единственным окном, закрытым наглухо ставней, – полумрак. Слабый свет проникает лишь из соседней комнаты, скупо освещая деревянную кровать у стены да сложенные в углу тыквы.
Тимка всматривался в их причудливые формы и размеры, от длинных оранжевых и золотистых перехваток до серых кругловатых глыб. Он долго не может вспомнить, что с ним случилось, и как он очутился в этой комнате. Напряженно морщит лоб. Наконец с трудом припоминает свою поездку и внезапную болезнь, дождливую ночь и лай собак… Постепенно в памяти воскресают: генерал Алгин, крестивший его на дорогу; угрюмый отец, обнявший его на прощанье; бородатый казак, вышедший на крыльцо… и чье–то женское молодое лицо, так часто склонявшееся над ним во время болезни.
Сколько он пролежал в постели, Тимка определить не мог. Одно лишь ему ясно, что он находится у людей, сочувствующих белым. Иначе за ним не стали бы так бережно ухаживать, ведь на его черкеске – он хорошо помнит – были погоны с нашивками старшего урядника.
В соседней комнате послышались женские голоса. Один из них показался Тимке как будто знакомым, и он стал прислушиваться.
– Не выживет, ох, не выживет он, Миля. Сегодня семнадцатый день пошел – и все время без памяти.
«Семнадцать дней болею! А как же записка Алгина?!» – с ужасом подумал Тимка. Он хотел подняться, но тело не слушалось его.
За дверью продолжался разговор:
– Намедни подошла к нему, а он лежит и на потолок дивится. Очи синие, синие, а лицо… краше в гроб кладут. Обрадовалась я: очнулся, думаю. Наклонилась, а он как вскрикнет – испугался, должно. А потом залопотал невесть чего и зубами заскрипел, будто стекло гложет…
Послышался другой голос.
– Чудной хлопец! Сам вроде врангелец, урядник, а все про председателя какого–то поминает… Намедни мой–то Петро зашел к нему, слушал, слушал, а потом как заругается: «Это, кажет, краснопузый, не иначе, а мы–то за своего его принимаем». А потом за генерала да за полковников каких–то стал балакать и еще за брата – видать, офицер у него брат – и за есаула Гая. Вижу, Петро аж за ухом поскрябал. «Нет, кажет, это наш…» Ты бы, Груня, наведалась к нему…
– Рано ще, давай заспиваем.
– Хлопца потревожим.
– А мы полегоньку. – И Груня запела вполголоса:
Ой, казала мэни маты, ще и приказувала,
Щоб я хлопцив до садочка не приважувала,
Щоб я хлопцив до садочка не приважувала.
И, оборвав, начала другую, шуточную:
Я на улице была, чулочки протерла…
Мэне маты с улицы кочергой поперла…
Тимка на миг забыл о непереданной записке, судьбе своего отряда и невольном плене своем. Ему захотелось подтянуть песню, но голос его был так слаб, что он сам его не слышал. Тогда он снова попытался встать. С большим трудом ему удалось сесть на кровати. Оставалось самое трудное – спустить ноги и накинуть на себя черкеску, висевшую на спинке кровати. В голове стоял неумолчный шум. Черкеска казалась тяжелой, словно ее карманы были набиты камнями. Тимка с огромным усилием притянул ее к себе. Спустив ноги, встал, сделал шаг вперед – и со слабым стоном упал лицом вниз.
…Кризис миновал, и Тимка стал быстро поправляться. Он уже бродил по комнатам и даже выходил на крыльцо, но спускаться по ступенькам вниз еще не решался.
Прошло еще несколько дней, и Тимка окреп уже настолько, что стал собираться в дорогу. От своих хозяев он узнал, что Бриньковская и все станицы по ту сторону Дамбы находятся в руках красных, что мятеж, начавшийся в ряде станиц, подавлении отряды так называемой «Повстанческой армий» снова загнаны в плавни. Узнал он и о том, что генералу Улагаю удалось захватить много станиц и подойти близко к Екатеринодару, собрав вокруг себя сильную казачью конницу и офицерские сотни, но силами какой–то кавалерии, подошедшей на помощь частям Девятой армии, и красного десанта, высадившегося под командованием Дмитрия Фурманова в станице Старонижестеблиевской в тыл Улагаю, Улагай был не только остановлен, но и разбит. По рассказу хозяев выходило, что теперь Улагай, отрезанный от основной своей базы – Приморско – Ахтарского порта, вынужден отходить к станице Гривенской, за которой начинаются огромнейшие Гривенские плавни – недавнее убежище полковника Рябоконя. Хутор, где приютили Тимку, находился на территории, занятой войсками десанта. Но Улагай и Рябоконь отступали значительно южнее, и хутор остался на самом краю их левого фланга. Вот почему хозяин хутора Гавриил Никанорович со дня на день ждал прихода красных.
О группе генерала Бабиева здесь ничего не знали. Слышали лишь, что часть десанта прорвалась на Бриньковскую, но была отбита и отошла к Ольгинской.
Все эти известия глубоко взволновали Тимку. Он почти не сомневался в гибели отрядов Дрофы и Гая и всего повстанческого штаба. А раз это так, то возвращаться искать Бабиева и его разбитый отряд было бы безрассудно. Ведь если Бабиев не прорвался в Каневскую, он ничем не сможет помочь Алгину. Оставалось одно: пробраться к Улагаю, присоединиться к отряду Рябоконя и разделить с ним его судьбу.
Выйдя во двор, Тимка оглянулся по сторонам. Хутор состоял из трех жилых домов и ряда построек. Один из домов занимал хозяин с семьей, в другом ютились батраки, а в третьем, самом большом и только что отстроенном, никто пока не жил. А между тем там стояла самая лучшая мебель, кованные медью сундуки с приданым и праздничной одеждой и кровати с двумя рядами пуховых подушек чуть ли не до самого потолка. Комнаты в этом доме убирались, и он служил как бы парадной гостиной на случай приезда почетных гостей.
Возле одного из амбаров Тимка увидел хозяйскую дочь Груню и невестку Милю. Молодая женщина и девушка развешивали на длинной веревке, тянувшейся от амбара к овчарнику, только что выполосканное и подсиненное белье.
Заметив Тимку, Груня закричала:
– Тимочка, иди помогать! Тимка подошел к ним.
– Здравствуйте… вы Гаврила Никаноровича не бачили?
– А тебе он зачем, Тимочка? – спросила Груня и, схватив Тимку за плечо, взобралась на скамейку. – Подай мне, Тимочка, – показала она рукой на белье в круглой корзине. Тимка, взяв охапку мокрого белья, стоял возле Груни, а та брала по одной вещи и вешала на веревку.
– Хочу поговорить с ним. Ехать пора.
– Ехать?! – вскрикнула Груня и уронила на землю взятое белье. Миля только руками вплеснула и изумленно посмотрела на Тимку.
– А ты, Тимочка, не рехнулся? – спросила Груня. Вмешалась и Миля:
– И куда ты, больной, поедешь?.. Поживи, поправишься, тогда побачим. Я с черкески–то твоей погоны поснимала… Петро сегодня ночью приехал, казав: опять красные наших побили, почти к самым плавням отогнали.
– Все одно, поеду… – упрямился Тимка. Кинув белье в корзину, он пошел навстречу хозяину, показавшемуся из конюшни.
– Здравствуйте, Гаврил Никанорович.
– Здравствуй, сынку, – с грубоватой лаской проговорил хозяин и слегка хлопнул Тимку по плечу. – Есть больше надо. Молоко, масло, сметану. Да по дому тосковать меньше… Никто не знает, где найдет, а где стеряет.
– Поговорить с вами хотел бы, Гаврил Никанорович.
– Ладно, идем в хату.
Хозяин привел Тимку в горницу и, усадив на стул, сел напротив, положив локти на стол.
– Кажи, що за дело, уж не до дому ли собрался?
– Решил ехать до Улагая, Гаврил Никанорович. – Волнуясь, Тимка стал рассказывать хозяину, почему он пришел к такому решению. – Ежели своему отряду помочь опоздал… со своими вместе и погибать буду, – твердо закончил Тимка.
Хозяин слушал, не перебивая, лишь изредка он кивал головой в знак одобрения.
Тимка сидел спиной к двери и не заметил, как в комнату тихонько вошел сын хозяина Петр. Зеленая фронтовая гимнастерка с трудом облекала его широкие плечи и грудь. Синие казачьи шаровары были заправлены в юфтевые сапоги невероятных размеров, а на бритой голове была папаха из золотистого курпейка.
Петр остановился у порога и, присев на корточки, прислонился спиной к стене. Когда Тимка кончил говорить, Гавриил Никанорович кивнул в сторону сына.
– Вот еще один рябоконевец. Ночью приехал, а завтра назад собирается. Ежели уж такое твое решение, езжайте вместе. Да только зря торопитесь. Сейчас красные прут, а позади у них голод… Народ тысячами из России на Кубань бежит… задушит голод большевиков, не удержать Советской власти…
Поздно вечером Тимка и Груня сидели на крылечке амбара. Было прохладно, и Груня набросила на плечи пуховый платок. Почти все в доме легли спать, лишь одна Миля возилась в кухне, собирая мужа в дорогу.
– Значит, едешь?
– Еду, Груня… – тихо ответил Тимка.
– Убьют.
– А тебе жалко?
– Может, и жалко… от смерти тебя выходила. Вроде родного стал.
Тимке сделалось стыдно.
– Не сердись, Груня… ты хорошая, да и все вы… Я у вас – словно у родных.
– Ну, и оставайся. Хозяйство большое, работы хватит. В своей станице тебе все одно не жить, пока большевики там, а тут тебя никто не займет 1.
– Нет, Груня… надо ехать… не могу иначе…
1 Не тронет.
– Упорный ты. Заладил одно, – она прижалась к нему плечом. – Будешь обо мне вспоминать?
– Буду… – нерешительно проговорил Тимка и хотел рассказать Груне про Наталку, про свою тоску по ней… Но с удивлением почувствовал, что тоски–то этой и нет, она развеялась, как предутренний туман в поле. Или она, тоска эта, со временем притупилась или болезнь да заботы ее из сердца вытеснили…
– Груня, спеть тебе песню?
– Где тебе! Наверно, такой же ты безголосый, как и я. Запеть запою, а вытянуть – голоса нет. А люблю песни, страсть люблю!
Тимка еще и сам не знал, сможет ли он петь после тяжелой болезни, остался ли у него прежний голос.
– А хочешь, спою?
– Ну тебя… лучше сказку расскажи. – И Груня еще теснее прижалась к Тимке. – Ежели гарную сказку расскажешь, так и быть, поцелую.
– Слушай. – И Тимка вместо сказки запел песню, сперва тихонько, потом – во весь голос:
Дывлюсь я на небо, та и думку гадаю,
Чого я не сокил, чого не летаю.
Чого ты мне, боже, крыльев не дав,
Я б землю покинув та и в небо злетев,
Бо в доли на свити, дывлюсь, я нелюбый,
Я наймит у ней, хлопцуга приблудный,
Чужой я у бога, чужой у людей…
Хиба кто кохае неридных дитей…
Груня притихла. Она жадно слушала песню, не отрывая глаз от Тимки.
На крыльцо выбежала Миля, а за ней свекровь… Они стояли, не шевелясь, словно боясь спугнуть залетевшую невесть откуда жар–птицу.
А Тимкин тенор звенел уже на весь двор, будя людей и заставляя их выходить во двор послушать редкостного певца.
…О дайте мне крылья, орлиные крылья.
Орлом быстрокрылым я в небо,
Я в небо полыну…
Тимка повернулся к Груне и смущенно, но уже с оттенком гордости, спросил:
– Ну как?.. Могу петь или нет?
Груня не ответила и только тесней прижалась к Тимке.
Широкое русло реки зарастало у берегов камышом. Лишь по крутым берегам да по узенькой полоске воды посередине можно было догадаться, что здесь, сотни веков тому назад, катила свои воды широкая река, имя которой стерлось в памяти людей.
По склонам прежних берегов растут кое–где сады, а внизу, в высоком бурьяне и терновых зарослях, плодятся лисы…
Два всадника остановились на склоне и пытливо заглянули вниз.
– Пора коням отдых дать, да и самим поснидать, – проговорил широкоплечий, на рыжем высоком коне.
– Что ж, давай проедем вон в тот садок, – указал плетью второй и тронул коня шенкелями.
Над деревьями сада с шумом поднялась огромная стая куропаток, а между кустами замелькало зеркальце заячьего хвоста. Широкоплечий потянул повод.
– Давай, Тимка, здесь… вглубь забиваться не будем.
– Можно и здесь, – ответил Тимка и спрыгнул с коня.
Через несколько минут они сидели на разостланной на траве бурке и уплетали коржики, сало, свиную колбасу и яйца. Запивали водой, принесенной Петром из родника, что тонкой струйкой выбивался на поверхность земли.
Тихо в саду. Багрянцем осени окрашена листва. Мирно журчит родник. Терновые заросли внизу, сонный камыш у воды и теплая ласка солнечных лучей.
Такие дни будят неясную тревогу у перелетных птиц. Заставляют их все чаще засматриваться в голубую высь, а по ночам настороженно ловить каждый шорох и собираться в стаи.
Тимка любил раньше эти осенние дни, когда после тяжелых полевых работ ходил он в сады стрелять вальдшнепов и куропаток, а по утренним холодным зорям – северных перелетных уток и маленьких диких гусей–казарок.
Теперь же осень вместо успокоенности несла с собой боязнь за будущее, сожаление о прошедшем да неясную, как у птиц, тревогу.
Вдали, где, не умолкая, надрывно гудели пушки, дрались люди. Победа одних и поражение других уже были предрешены, но еще ныли тоскливо в воздухе пули, свистели и скрежетали, ударяясь друг о друга, клинки, падали сраженные насмерть люди…
– Видать, наши опять к плавням отходят. Отступление прикрывают… Многие лягут… – Тимке стало грустно. Вспомнился отряд, его взвод, к которому он уже привык, новые друзья – Васька, Галушко, Щурь, старый подхорунжий Шпак.
– Тимка, а ты не боишься, что нас словить могут? – неожиданно спросил Петр. Тимка вздрогнул.
– Он не хотел показать Петру, что, действительно, немного трусит. Принудив себя улыбнуться, он нарочито равнодушно проговорил:
– Недалеко уж, доберемся как–нибудь…
– Вот то–то и оно, что недалеко, – не унимался Петр. – Места тут неровные, курганы да балки. Высыплет из–за кургана их разъезд: «Стой! Бросай оружию!» – вот и готово…
Тимке стало не по себе. Он недовольно посмотрел на Петра, но тот спокойно продолжал жевать сало, и его широкое лицо не выражало ни страха, ни тревоги. «На медведя похож… Такой и под расстрелом будет спокойно сало дожевывать». Тимка поднялся с бурки.
…Глубокими балками, кукурузными полями да конопляниками пробирались Тимка и Петр к станице Гривенской.
Они уже были близки к цели. Уже слышались далекие вспышки пулеметных очередей и нервный треск винтовочных залпов. Хоть и совсем молод был Тимка, он по стрельбе чутьем угадывал: то, что происходит впереди, уже не может назваться боем. Это походит скорее на облаву, когда цепь охотников подковой охватывает обреченного на смерть матерого волка.
Волк мечется по зарослям терновника и камыша, в бессильной ярости скалит желтые клыки, злобно дыбит загривок густой серо–аспидной щетины. Он пытается еще сопротивляться, но судьба его уже решена. Впереди – болото, позади – неумолимые охотники… И вот волк, почуяв конец, трусливо поджимает хвост и убегает в самую чащу зарослей, чтобы хоть на час оттянуть неизбежную гибель.
Там, впереди, в необозримом море плавней, таится, возможно, гибель многих тысяч людей, связавших свою жизнь с судьбой восстания. Там таится, очевидно, и его, Тимкина, гибель.
– Слушай!.. – Петр дотронулся до Тимкиного рукава.
– Что?
– Тише!
Они стояли за высоким курганом. Перед ними в сумраке вечера расстилалась степь с небольшими клочками неубранной пшеницы. Мимо кургана проезжал дозор. По черным буркам и таким же папахам нетрудно было узнать казаков, но кто они – белые или красные?.. Каждую минуту дозор мог въехать на курган, и тогда Тимка и Петр будут обнаружены.
Дозорные, мирно переговариваясь, проехали курган стороной и скрылись за пшеницей. Вскоре показался и самый разъезд, силою до взвода. Тимка и Петр следили за ним, затаив дыхание. Когда он шел уже в полусотне шагов от кургана, Котенок, почуяв лошадей, призывно заржал. На мгновение разъезд в нерешительности остановился, потом, по знаку командира, рассыпался и подковой стал охватывать курган.
Уходить на уставших лошадях было невозможно. Тимка переглянулся с Петром. Тот отстегнул от пояса бомбу лимонку, и по его лицу Тимка понял, что он решил дорого продать свою жизнь.
Это ободрило Тимку. Ему стало совестно за свою нерешительность. Ведь и у него на поясе было четыре бомбы – «бутылки». Правда, он никогда еще не бросал бомбы, но раздумывать не приходилось. Тимка, спрыгнув с коня, побежал на верхушку кургана, на бегу отстегивая бомбу. Услышав взрыв от брошенной им бомбы, лег на живот и стал отстегивать вторую.
Разъезд сдержал метнувшихся коней, спешился и залег. Тимка видел, как коноводы уводили коней в пшеницу. Вскоре раздался залп, и в воздухе поюще засвистели пули. Петр тоже спешился и залег с лошадьми внизу.
Сложив ладони рупором, Тимка крикнул:
– Хочу говорить с командиром!
Ему никто не ответил, но второго залпа не последовало. Тимка снова крикнул:
– Давай командира! Хриплый голос спросил:
– Кто такие?!
Тимка решил испытать позывной сигнал своего отряда. Если это рябоконевцы, то они поймут его и ответят, если же он не получит ответа, тогда можно вступить в переговоры. И Тимка, напрягая голос, засвистел соловьем.
В бурьяне, где залег разъезд, зашевелились, и затем над степью, пшеничным полем и старым курганом пополз протяжный волчий вой. Для Тимки эти тягостные и жуткие звуки показались приятнее самой нежной мелодии, и когда они оборвались так же неожиданно, как и начались, Тимка крикнул:
– Я – старший урядник из отряда есаула Гая, еду к Рябоконю.
Из бурьяна снова раздался хриплый голос:
– Эй ты, старший урядник! Иду к тебе, но если вздумаешь бомбу кидать…
Тимка не дослушал. Он кубарем скатился с кургана навстречу поднявшемуся из бурьяна человеку.
– Наши, ей–богу, наши! – радостно шептал он. Они остановились друг против друга в двух шагах, пытливо всматриваясь, оба готовые протянуть дружески руки или драться насмерть.
Заметив на папахе командира разъезда офицерскую кокарду, Тимка вытянулся:
– Старший урядник Шеремет.
Командир разъезда дотронулся пальцами до папахи.
– Хорунжий Ярчук, из отряда полковника Рябоконя, Георгия Шеремета знаешь?
– Хорунжий Шеремет – мой брат…
– Ну, как он, здоров?
– Убит…
– Убит?! Жорка Шеремет убит?! – Ярчук шагнул вперед и, забыв осторожность, положил свои руки на плечи Тимки. – Ты один?
– Нет, со мной товарищ, рябоконевец.
– Зови его, едем с нами… По дороге расскажешь про Георгия. Он был моим другом…
Окружающие Рябоконя офицеры внимательно разглядывали Тимку. Плотный, высокий, черноусый Рябоконь молчал, как будто что–то припоминая. Тимка стоял перед ним навытяжку, отдавая честь.
– Ординарцем у председателя ревкома Семенного был?
– Точно так, господин полковник, – ответил, смутившись, Тимка.
Лица офицеров сразу омрачились, многие переглянулись. Хорунжий Ярчук перестал улыбаться и уже недоверчиво взглянул на Тимку.








