Том 1. Стихотворения 1939–1961
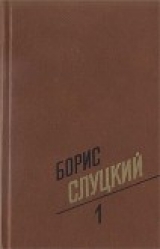
Текст книги "Том 1. Стихотворения 1939–1961"
Автор книги: Борис Слуцкий
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц)
«Все телефоны – не подслушаешь…»
Все телефоны – не подслушаешь,
Все разговоры – не запишешь.
И люди пьют, едят и кушают,
И люди понемногу дышат,
И понемногу разгибаются,
И даже тихо улыбаются.
А телефон – ему подушкой
Заткни ушко —
И телефону станет душно,
И тяжело, и нелегко,
А ты – вздыхаешь глубоко
С улыбкою нескромною
И вдруг «Среди долины ровныя»
Внезапно начинаешь петь,
Не в силах более терпеть.
«А нам, евреям, повезло…»
А нам, евреям, повезло.
Не прячась под фальшивым флагом,
На нас без маски лезло зло.
Оно не притворялось благом.
Еще не начинались споры
В торжественно-глухой стране.
А мы – припертые к стене —
В ней точку обрели опоры.
ПРО ЕВРЕЕВ
Евреи хлеба не сеют,
Евреи в лавках торгуют,
Евреи раньше лысеют,
Евреи больше воруют.
Евреи – люди лихие,
Они солдаты плохие:
Иван воюет в окопе,
Абрам торгует в рабкопе.
Я все это слышал с детства,
Скоро совсем постарею,
Но все никуда не деться
От крика: «Евреи, евреи!»
Не торговавши ни разу,
Не воровавши ни разу,
Ношу в себе, как заразу,
Проклятую эту расу.
Пуля меня миновала,
Чтоб говорилось нелживо:
«Евреев не убивало!
Все воротились живы!»
В ЯНВАРЕ
Я кипел тяжело и смрадно,
Словно черный асфальт в котле.
Было стыдно. Было срамно.
Было тошно ходить по земле.
Было тошно ездить в трамвае.
Все казалось: билет отрывая,
Или сдачу передавая,
Или просто проход давая
И плечами задевая,
Все глядят с молчаливой злобой
И твоих оправданий ждут.
Оправдайся – пойди, попробуй,
Где тот суд и кто этот суд,
Что и наши послушает доводы,
Где и наши заслуги учтут.
Все казалось: готовятся проводы
И на тачке сейчас повезут.
Нет, дописывать мне не хочется.
Это все ненужно и зря.
Ведь судьба – толковая летчица —
Всех нас вырулила из января.
СОВРЕМЕННЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
В то утро в мавзолее был похоронен Сталин.
А вечер был обычен – прозрачен и хрустален.
Шагал я тихо, мерно
Наедине с Москвой
И вот что думал, верно,
Как парень с головой:
Эпоха зрелищ кончена,
Пришла эпоха хлеба.
Перекур объявлен
У штурмовавших небо.
Перемотать портянки
Присел на час народ,
В своих ботинках спящий
Невесть который год.
Нет, я не думал этого,
А думал я другое:
Что вот он был – и нет его,
Гиганта и героя.
На брошенный, оставленный
Москва похожа дом.
Как будем жить без Сталина?
Я посмотрел кругом:
Москва была не грустная,
Москва была пустая.
Нельзя грустить без устали.
Все до смерти устали.
Все спали, только дворники
Неистово мели,
Как будто рвали корни и
Скребли из-под земли,
Как будто выдирали из перезябшей почвы
Его приказов окрик, его декретов почерк:
Следы трехдневной смерти
И старые следы —
Тридцатилетней власти
Величья и беды.
Я шел все дальше, дальше,
И предо мной предстали
Его дворцы, заводы —
Все, что воздвигнул Сталин:
Высотных зданий башни,
Квадраты площадей…
Социализм был выстроен.
Поселим в нем людей.
«Не пуля была на излете, не птица…»
Не пуля была на излете, не птица —
Мы с нашей эпохой ходили
проститься.
Ходили мы глянуть на нашу судьбу,
Лежавшую тихо и смирно в гробу.
Как слабо дрожал в светотрубках неон.
Как тихо лежал он – как будто не он.
Не черный, а рыжий, совсем низкорослый,
Совсем невысокий – седой и рябой,
Лежал он – вчера еще гордый и грозный,
И слывший и бывший всеобщей судьбой.
БОГ
Мы все ходили под богом.
У бога под самым боком.
Он жил не в небесной дали,
Его иногда видали
Живого. На мавзолее.
Он был умнее и злее
Того – иного, другого,
По имени Иегова,
Которого он низринул,
Извел, пережег на уголь,
А после из бездны вынул
И дал ему стол и угол.
Мы все ходили под богом.
У бога под самым боком.
Однажды я шел Арбатом,
Бог ехал в пяти машинах.
От страха почти горбата,
В своих пальтишках мышиных
Рядом дрожала охрана.
Было поздно и рано.
Серело. Брезжило утро.
Он глянул жестоко,
мудро
Своим всевидящим оком,
Всепроницающим взглядом.
Мы все ходили под богом.
С богом почти что рядом.
ХОЗЯИН
А мой хозяин не любил меня —
Не знал меня, не слышал и не видел,
А все-таки боялся, как огня,
И сумрачно, угрюмо ненавидел.
Когда меня он плакать заставлял,
Ему казалось: я притворно плачу.
Когда пред ним я голову склонял,
Ему казалось: я усмешку прячу.
А я всю жизнь работал на него,
Ложился поздно, поднимался рано.
Любил его. И за него был ранен.
Но мне не помогало ничего.
А я возил с собой его портрет.
В землянке вешал и в палатке вешал —
Смотрел, смотрел,
не уставал смотреть.
И с каждым годом мне все реже, реже
Обидною казалась нелюбовь.
И ныне настроенья мне не губит
Тот явный факт, что испокон веков
Таких, как я, хозяева не любят.
«Всем лозунгам я верил до конца…»
Всем лозунгам я верил до конца
И молчаливо следовал за ними,
Как шли в огонь во Сына, во Отца,
Во голубя Святого Духа имя.
И если в прах рассыпалась скала,
И бездна разверзается, немая,
И ежели ошибочка была —
Вину и на себя я принимаю.
«Начинается новое время…»
Начинается новое время —
Та эпоха, что после моей.
Это, верно, случилось со всеми.
Это многим досталось больней.
Очень многие очень честные,
Те, что издавна были честны,
Были, словно автобусы местные,
Безо всякого отменены.
Очень многие очень хорошие
За свое большое добро
Были брошены рваной калошею
В опоганенное ведро.
Я уволен с мундиром и пенсией,
Я похвастаться даже могу —
Отступаю, но все-таки с песнею,
Отхожу – не бегом бегу.
Буду смирненько жить, уютненько,
Буду чай на газе греть.
Буду, словно собака из спутника,
На далекую землю глядеть.
Буду лесенкой или елочкой
Переводы кропать в тишине,
Буду, словно подросток, в щелочку
Озирать недоступное мне.
Буду думать о долге и совести,
Буду дружбу ценить и любовь.
Буду ждать, пока новые новости
Удивят эту старую новь.
«Парторг вылетает четвертым…»
Парторг вылетает четвертым,
Но первым вставал комиссар,
Живым подавая и мертвым
Пример,
чтобы их потрясал.
Четвертым парторг вылетает
И знает: вернется в семью,
А ветер давно заметает
Простую могилу твою.
Товарищи комиссары,
Товарищи политруки,
Товарищи замполиты,
Что на ноги были легки,
Что спали по часу в неделю,
А ели – по сухарю.
Неужто вы не задели
Сердца!
Я вам говорю!
Неужто красные звезды,
Горевшие на рукавах,
Упали и просто сгорели,
И ветер развеял прах.
Шинели стыдиться не хочется,
Бока укрывавшей едва,
Судьбы моей, словно летчица,
Выруливавшей на У-2[5]5
У-2 – легкий двухместный учебный самолет, во время войны использовавшийся как ночной бомбардировщик.
[Закрыть],
Лозунгов, что выкрикивал,
Митингов, что проводил,
Окопа – я первым выпрыгивал,
Людей за собой выводил.
ДЕМАСКИРОВКА
Человека лишили улыбки
(Ни к чему человеку она),
А полученные по ошибке
Разноцветные ордена
Тоже сняли, сорвали, свинтили,
А лицо ему осветили
Темноголубизной синяков,
Чтобы видели, кто таков.
Камуфлированный человеком
И одетый, как человек,
Вдруг почувствовал, как по векам
В первый раз за тот полувек,
Что он прожил, вдруг расплывается,
Заливает ему глаза, —
«Как, – подумал он, – называется
Тепломокрое это?» —
слеза.
И стремившийся слыть железным
Покупает конверт с цветком,
Пишет: я хочу быть полезным.
Не хочу я быть дураком.
У меня хорошая память,
Языки-то я честно учил,
Я могу отслужить, исправить,
То, что я заслужил, отмочил.
Я могу восполнить потери,
Я найду свой правильный путь.
Мне бы должность сонной тетери
В канцелярии где-нибудь.
«Осознавать необходимость…»
Осознавать необходимость
И называть ее свободой,
И признавать непобедимость,
И чествовать поспешной одой —
Не торопитесь.
Для осознанья нужно знанье
Предмета, безо всякой узости.
А слишком скорое признанье
Свидетельствует лишь о трусости,
А также – глупости.
ВЕРИЛ?
Я беру краткосрочный отпуск,
Добываю пропуск и допуск
И в большую читальню иду,
И выписываю подшивки,
И смотрю на большую беду,
Ту, что к старым газетам подшита.
Лица Постышева или Косарева[6]6
П. П. Постышев (1887–1939), партийный и государственный деятель, и А. В. Косарев (1903–1939), генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ, были репрессированы, уничтожены и объявлены «врагами народа».
[Закрыть],
Простота, прямота этих лиц:
Не воздали кесарю кесарево
И не пали пред кесарем ниц.
Вот они на заводах и стройках
Зажигают большие огни.
Вот они в сообщительных строках,
Что враги народа они.
Я в Дворце пионеров, в Харькове,
Где артисты читали Горького
И огромный кружок полярников
Летом ездил по полюсам,
Видел Павла Петровича Постышева.
Персонально видел. Я – сам.
Пионер – с 28-го,
Комсомолец – чуть погодя,
Сашу Косарева – мирового,
Комсомольского помню вождя.
Я по ихним меркам мерил
Все дела и слова всегда.
Мой ответ на вопрос: «Верил?»
– Верил им. Про них – никогда.
ПОСЛЕ РЕАБИЛИТАЦИИ
Гамарнику[7]7
Я. Б. Гамарник (1894–1937), не дожидаясь ареста и расправы, покончил с собой. Тем не менее его имя фигурировало и шельмовалось на процессе военачальников 1937 г. Обстоятельства самоубийства Гамарника в стихотворении изложены неверно, по ходившим в начальную пору реабилитации слухам.
[Закрыть], НачПУРККА, по чину
Не улицу, не площадь, а – бульвар.
А почему? По-видимому, причина
В том, что он жизнь удачно оборвал:
В Сокольниках. Он знал – за ним придут.
Гамарник был особенно толковый.
И вспомнил лес, что ветерком продут,
Веселый, подмосковный, пустяковый.
Гамарник был подтянут и высок
И знаменит умом и бородою.
Ему ли встать казанской сиротою
Перед судом?
Он выстрелил в висок.
Но прежде он – в Сокольники! – сказал.
Шофер рванулся, получив заданье.
А в будни утром лес был пуст, как зал,
Зал заседанья после заседанья.
Гамарник был в ремнях, при орденах.
Он был острей, толковей очень многих,
И этот день ему приснился в снах,
В подробных снах, мучительных и многих.
Член партии с шестнадцатого года,
Короткую отбрасывая тень,
Шагал по травам, думал, что погода
Хорошая
в его последний день.
Шофер сидел в машине развалясь:
Хозяин бледен. Видимо, болеет.
А то, что месит сапогами грязь,
Так он сапог, наверно, не жалеет.
Погода занимала их тогда.
История – совсем не занимала.
Та, что Гамарника с доски снимала
Как пешку
и бросала в никуда.
Последнее, что видел комиссар
Во время той прогулки бесконечной:
Какой-то лист зеленый нависал,
Какой-то сук желтел остроконечный.
Поэтому-то двадцать лет спустя
Большой бульвар навек вручили Яну:
Чтоб веселилось в зелени дитя,
Чтоб в древонасажденьях – ни изъяну,
Чтоб лист зеленый нависал везде,
Чтоб сук желтел и птицы чтоб вещали.
И чтобы люди шли туда в беде
И важные поступки совершали.
«Ни за что никого никогда не судили…»
Ни за что никого никогда не судили.
Всех судили за дело.
Например, за то, что латыш
И за то, что не так летишь
И крыло начальство задело.
Есть иная теория, лучшая —
Интегрального и тотального,
Непреодолимого случая,
Беспардонного и нахального.
Есть еще одна гипотеза —
Злого гения Люцифера,
Коммуниста, который испортился —
Карамзинско-плутархова сфера.
Почему же унес я ноги,
Как же ветр меня не потушил?
Я – не знаю, хоть думал много.
Я – решал, но еще не решил.
БЕДА
В ходе действия тридцать седьмого
Года
люди забыли покой.
Дня такого, ночи такой,
Может быть, даже часа такого, —
Я не помню, чтоб твердой рукой
Убедительно, громко, толково
Не стучала мне в окна беда,
Чтобы в двери она не стучала,
Приходила она – и молчала,
Не высказывалась никогда.
Как патроны солдат в окружении
Бережет для мостов и дорог,
Не для драки, а для сражения
Я себя аккуратно сберег.
Я прощал небольшие обиды,
Я не ссорился по мелочам.
Замечать их – всегда замечал.
Никогда – не показывал виду.
Не злопамятность и не мстительность.
Просто – память.
Личная бдительность.
В этом смысле мне повезло —
Помню все: и добро и зло.
Вспоминаю снова и снова,
Не жалею на это труды…
Это все от стука дневного
И ночного стука беды.
КОМИССИЯ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ НАСЛЕДСТВУ
Что за комиссия, создатель?
Опять, наверное, прощен
И поздней похвалой польщен
Какой-нибудь былой предатель,
Какой-нибудь неловкий друг,
Случайно во враги попавший,
Какой-нибудь холодный труп,
Когда-то весело писавший.
Комиссия! Из многих вдов
(Вдова страдальца – лестный титул!)
Найдут одну, заплатят долг
(Пять тысяч платят за маститых),
Потом романы перечтут
И к сонму общему причтут.
Зачем тревожить долгий сон?
Не так прекрасен общий сонм,
Где книжки переиздадут,
Дела квартирные уладят,
А зуб за зуб – не отдадут,
За око око – не уплатят!
ОДНОГОДКИ
Все умерли и все в одном и том же
Году. Примерно двадцать лет назад.
Те, кто писал потолще и потоньше,
Кто прожил тридцать, сорок, пятьдесят.
Какие разные года рожденья,
Какая пестрядь чисел, но зато
Тот год, как проволочное загражденье,
И сквозь него не прорвался никто:
Те, кто писал рассказы и романы,
Кто женолюбом, кто аскетом был,
Те, кто любил прекрасные обманы,
И те, кто правду голую любил.
Они роились, словно пчелы в сотах,
Трудились в муравейнике своем,
Родились в девяностых, в девятисотых,
Но сгинули в одном – в тридцать седьмом.
СЛАВА
Художники рисуют Ленина,
Как раньше рисовали Сталина,
А Сталина теперь не велено:
На Сталина все беды взвалены.
Их столько, бед, такое множество!
Такого качества, количества!
Он был не злобное ничтожество,
Скорей – жестокое величество.
Холстины клетками расписаны,
И вот сажают в клетки тесные
Большие ленинские лысины,
Глаза раскосые и честные.
А трубки, а погоны Сталина
На бюстах, на портретах Сталина?
Все, гамузом, в подвалы свалены,
От пола на сажень навалены.
Лежат гранитные и бронзовые,
Написанные маслом, мраморные,
А рядом гипсовые, бросовые,
Дешевые и необрамленные.
Уволенная и отставленная,
Лежит в подвале слава Сталина.
«Если б я был культом личности…»
Если б я был культом личности
И права имел подобные,
Я бы выдал каждой личности
Булку мягкую и сдобную.
Я людей бы не расстреливал,
Не томил их заключениями,
Я бы им ковры расстеливал,
Развлекал их развлечениями.
Если б я был культом личности,
Я б удрал, наверно, за море
От сознанья неприличности
Культа этого вот самого,
Неприличности и лишнести.
Если б я был культом личности,
Я без всяких околичностей
Запретил бы культы личности.
СОН – СЕБЕ
Сон после снотворного. Без снов.
Даже потрясение основ,
Даже революции и войны —
Не разбудят. Спи спокойно,
Человек, родившийся в эпоху
Войн и революций. Спи себе.
Плохо тебе, что ли? Нет, не плохо.
Улучшенье есть в твоей судьбе.
Спи – себе. Ты раньше спал казне
Или мировой войне.
Спал, чтоб встать и с новой силой взяться.
А теперь ты спишь – себе.
Самому себе.
Можешь встать, а можешь поваляться.
Можешь встать, а можешь и не встать.
До чего же ты успел устать.
Сколько отдыхать теперь ты будешь,
Прежде чем ты обо всем забудешь,
Прежде чем ты выспишь все былье…
Спи!
Постлали свежее белье.
ПОСЛЕ ДВОЕТОЧИЯ
Вечером после рабочего дня
По дороге в отдельные и коммунальные
берлоги
Люди произносят внутренние монологи.
Кое-что доносится до меня.
Двоеточие
– Целый день работал без меры.
Целый день мозги засорял.
Все-таки почему инженеру
Платят меньше, чем слесарям?
– Трудно учиться станкачу.
Семь часов плюс три за партой.
Зато потом, если захочу,
Прочту чертежи, разберусь с картой.
– Муж! Всю жизнь ему верна.
Даже в сторону не посмотрела.
А он сперва говорил – война!
Теперь говорит – ты постарела.
– Покуда ноги будут носить,
Покуда женщины хорошеют весною,
Буду в сторону глаза косить.
Ничего не поделает со мною.
– Всю жизнь выполнял последний приказ.
Делал то, что говорили.
Сейчас даже в пенсии отказ.
Все грехи на меня свалили.
– Он меня бил в живот, по лицу.
Кричал: подписывай! Все равно сдохнешь!
Смотришь в глаза ему, подлецу,
И – ничего! Ни вздохнешь, ни охнешь.
Все-таки кончился рабочий день
Для всех: для неправых и для обиженных.
Деревья удлиняют тень.
Огни зажглись во дворцах и в хижинах.
Для правых и неправых зажжена
В общем небе одна луна.
Перебивая все голоса,
Все проклятия и благословения,
Луна в привычном дерзновении
Спокойно восходит на небеса.
ДОМ В ПЕРЕУЛКЕ
Проживал трудяга в общаге,
А потом в тюрягу пошел
И в тюряге до мысли дошел,
Что величие вовсе не благо.
По амнистии ворошиловской[8]8
По амнистии ворошиловской – так называли в народе довольно широкую амнистию сразу же после смерти И. В. Сталина, указ о которой был подписан тогдашним Председателем Президиума Верховного Совета СССР К. Е. Ворошиловым.
[Закрыть]
Получил он свободу с трудом.
А сегодня кончает дом —
Строит, лепит – злой и решительный.
Не великий дом – небольшой.
Не большой, а просто крохотный.
Из облезлых ящиков сгроханный,
Но с печуркой – домовьей душой.
Он диван подберет и кровать,
Стол и ровно два стула поставит,
Больше двух покупать не станет,
Что ему – гостей приглашать?
Он сюда приведет жену,
Все узнав про нее сначала,
Чтоб любить лишь ее одну,
Чтоб она за себя отвечала.
Он сначала забор возведет,
А потом уже свет проведет.
Он сначала достанет собаку,
А потом уже купит рубаху.
Все измерив на свой аршин,
Доверять и дружить закаясь,
Раньше всех домашних машин
Раздобудется он замками.
Сам защелкнутый, как замок,
На все пуговицы перезастегнутый,
Нависающий, как потолок,
И приземистый, и полусогнутый.
Экономный, словно казна,
Кость любую трижды огложет.
Что он хочет?
Хто його зна.
Что он может?
Он много может.
«Богатые занимают легко…»
Богатые занимают легко,
Потому что
что им, богатым?
А бедные долго сидят по хатам,
Им до денег идти далеко.
Бедный думает, как отдать?
Откуда взять?
А богатый знает: деньги найдутся,
Только все костюмы обследуются,
По телеграфу переведутся,
У дальних родственников наследуются.
Шутку о том, что берешь на время,
Но отдаешь навсегда,
Придумала Большая Беда,
Выдохнуло тяжелое бремя.
«Только война закончится…»
Только война закончится —
Сразу же Мострамвай
Детям и инвалидам
Множество мест подавай.
В эти первые годы
После большой войны
Дети очень заметны
И калеки видны.
Вскорости дети вырастут,
С мест передних уйдут,
А инвалидов вылечат
Или в больницах запрут.
Только одни беременные,
Как символ мирного времени,
Будут сидеть впереди
С брошками на груди.
СЧАСТЬЕ
Гривенники, пуговицы,
Карандашей огрызки —
Все, что нашла на улице,
Она хранила в миске.
И вот за жизнь за длинную
Покрылось все же дно
У маленькой, у глиняной
У мисочки одной.
Не вышли, не выгорели
Затеи и дела.
По тиражам не выиграла
И мужа не нашла.
Ах, сколько еще надобно
Промучиться, прожить,
А пуговицы найденные
Не к чему пришить.
ВЗРОСЛЫЕ
Смотрите! Вот они пирожные едят!
Им стыдно, и смешно, и сладко.
Украдкою приподнимая взгляд,
Они жуют с улыбкой и с оглядкой!
По многу! По четыре! И по шесть!
А дети думают: зачем им столько?
Наверно, трудно сразу это съесть,
Не отходя от магазинной стойки.
Им – 35. Им – 40. 45.
Им стыдно. Но они придут опять:
От этого им никуда не деться.
За то, что недоели в детстве,
За «Не на что!», за «Ты ведь не один!»,
За «Не проси!», за «Это не для бедных!»
Они придут в сладчайший магазин
И будут есть смущенно и победно!
СЧЕТНЫЕ РАБОТНИКИ
К бухгалтерам приглядываюсь издавна
И счетоводам счет веду.
Они, быть может, вычислят звезду,
Которая и выведет нас из дому.
Из хаоса неверных букв,
Сложившихся в слова неясные —
В края, где в основаньи всех наук
Нагие числа, чистые, прекрасные.
Во имя человечества – пора,
Необходимо для целе́й природы,
Чтоб у кормила – вы, бухгалтера,
Стояли. Рядом с вами – счетоводы.
Дворянская забылась честь.
Интеллигентская пропала совесть.
У счетоводов же порядок есть
И аккуратность, точность, образцовость.
Все приблизительны. Они – точны.
Все – на глазок. У них же – до копейки.
О, если бы на карту всей страны
Перевести их книги – под копирку.
Растратчики, прохвосты и ворюги
Уйдут из наших городов и сел.
Порядок, тот, что завезли варяги,
Он весь по бухгалтериям осе́л.
«Меняю комнату на горницу…»
Меняю комнату на горницу.
Меняю площадь на жилье.
Переезжаю с дикой гордостью
Из коммунального – в мое.
Я развивался в коллективе.
Я все обязанности нес.
Хочу, чтоб гости колотили
В моих ворот кленовый тес.
Я был хороший, стал отличный,
Обыкновенный стал потом.
Теперь хочу, чтоб пес мой личный
Гонялся за моим котом.
Хочу, как пишут в объявлении,
Отдельности, уединения.
ИСКУССТВО
Я посмотрел Сикстинку[9]9
Стихотворение вызвано выставкой шедевров Дрезденской картинной галереи, состоявшейся в Москве в 1957 г. Сикстинка – полотно Рафаэля «Сикстинская мадонна».
[Закрыть] в Дрезденке,
Не пощадил свои бока.
Ушел. И вот иду по Сретенке,
Разглядываю облака.
Но как она была легка!
Она плыла. Она парила.
Она глядела на восток.
Молчали зрители. По рылу
У каждого стекал восторг.
За место не вступали в торг!
С каким-то наслажденьем дельным
Глазели, как летит она.
Канатом, вроде корабельным,
Она была ограждена.
Не понимали ни хрена!
А может быть, и понимали.
Толковые! Не дурачки!
Они платочки вынимали
И терли яростно очки.
Один – очки. Другой – зрачки!
Возвышенное – возвышает,
Парящее – вздымает вверх.
Морали норму превышает
Человек. Как фейерверк
Взвивается. Он – человек.
ВРЕМЯ **
1959
«Ко мне на койку сел сержант-казах…»
Ко мне на койку сел сержант-казах
И так сказал:
«Ты понимаешь в глобусе?»
И что-то вроде боли или робости
Мелькнуло в древних, каменных глазах.
Я понимал.
И вот сидим вдвоем
И крутим, вертим шар земной
до одури,
И где-то под Берлином
и на Одере
Последний бой противнику даем.
Вчерашней сводкой
Киев сдан врагам,
И Харьков сдан сегодняшнею сводкой,
И гитлеровцы бьют прямой наводкой
По невским и московским берегам.
Но будущее – в корпусе «один»,
Где целый день – у глобуса собрание,
Где раненые
И тяжело раненные
Планируют сраженье за Берлин.
ДЕКАБРЬ 41-ГО ГОДА
Памяти М. Кульчицкого
Та линия, которую мы гнули,
Дорога, по которой юность шла,
Была прямою от стиха до пули —
Кратчайшим расстоянием была.
Недаром за полгода до начала
Войны
мы написали по стиху
На смерть друг друга.
Это означало,
Что знали мы.
И вот – земля в пуху,
Морозы лужи накрепко стеклят,
Трещат, искрятся, как в печи поленья:
Настали дни проверки исполненья,
Проверки исполненья наших клятв.
Не ждите льгот, в спасение не верьте:
Стучит судьба, как молотком бочар.
И Ленин учит нас презренью к смерти,
Как прежде воле к жизни обучал.








