Том 1. Стихотворения 1939–1961
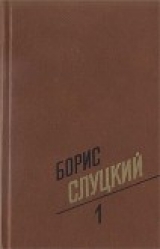
Текст книги "Том 1. Стихотворения 1939–1961"
Автор книги: Борис Слуцкий
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц)
«Про безымянных, про полузабытых…»
Про безымянных, про полузабытых
И про совсем забытых – навсегда,
Про тайных, засекреченных и скрытых,
Про мертвых, про сожженных, про убитых,
Про вечных, как огонь или вода,
Я буду говорить, быть может, годы,
Настаивать, твердить и повторять.
Но знаю – списки рядовых свободы
Не переворошить, не исчерпать.
Иная вечность – им не суждена.
Другого долголетья им не будет.
Одев штампованные ордена,
Идут на смерть простые эти люди.
«…Тяжелое, густое честолюбье…»
…Тяжелое, густое честолюбье.
Которое не грело, не голубило,
С которым зависть только потому
В бессонных снах так редко ночевала,
Что из подобных бедному ему
Равновеликих было слишком мало.
Азарт отрегулированный, с правилами
Ему не подходил.
И не устраивал
Его бескровный бой.
И он не шел
На спор и спорт.
С обдуманною яростью
Две войны: в юности и в старости —
Он ежедневным ссорам предпочел.
В политике он начинал с эстетики,
А этика пришла потом.
И этика
Была от состраданья – не в крови.
Такой характер в стадии заката
Давал – не очень часто – ренегатов
И – чаще – пулю раннюю ловил.
Здесь был восход характера. Я видел.
Его лицо, когда, из лесу выйдя,
Мы в поле напоролися на смерть.
Я в нем не помню рвения наемного,
Но милое, и гордое, и скромное
Решение,
что стоит умереть.
И это тоже в памяти останется:
В полку кино крутили – «Бесприданницу»,—
Крупным планом Волга там дана.
Он стер слезу. Но что ему все это,
Такому себялюбцу и эстету?
Наверно, Волга и ему нужна.
В нем наша песня громче прочих пела.
Он прилепился к правильному делу.
Он прислонился к знамени,
к тому,
Что осеняет неделимой славой
И твердокаменных, и детски слабых.
Я слов упрека не скажу ему.
«Скользили лыжи. Летали мячики…»
Скользили лыжи. Летали мячики.
Повсюду распространялся спорт.
И вот – появились мужчины-мальчики.
Особый – вам доложу я – сорт.
Тяжелорукие. Легконогие.
Бутцы, трусы, майки, очки.
Я многих знал. Меня знали многие —
Играли в шахматы и в дурачки.
Все они были легки на подъем:
Меня чаровала ихняя легкость.
Выпьем? Выпьем! Споем? Споем!
Натиск. Темп. Сноровистость. Ловкость!
Словно дым от чужой папиросы
Отводишь, слегка тряхнув рукой,
Они отводили иные вопросы.
Свято храня душевный покой.
Пуда соли я с ними не съел.
Пуд шашлыку – пожалуй! Не менее!
Покуда в легкости их рассмотрел
Соленое, словно слеза, унижение.
Оно было потное, как рубаха,
Сброшенная после пробежки длинной,
И складывалось из дисциплины и страха —
Половина на половину.
Унизились и прошли сквозь казармы.
Сквозь курсы – прошли. Сквозь чистки —
прошли.
А прочие – сгинули, словно хазары.
И ветры их прах давно размели.
«В любой библиотеке есть читатели…»
В любой библиотеке есть читатели —
Сражений и героев почитатели.
Читающие только о войне.
А рядом с ними приходилось мне
Глядеть людей и старше и печальнее,
Войну таскавших на своем горбу.
Они стоят и слушают в молчании,
Как выбирает молодость судьбу.
«У Абрама, Исака и Якова…»
У Абрама, Исака и Якова
Сохранилось немногое от
Авраама,
Исаака,
Иакова —
Почитаемых всюду господ.
Уважают везде Авраама —
Прародителя и мудреца.
Обижают повсюду Абрама,
Как вредителя и подлеца.
Прославляют везде Исаака,
Возглашают со всех алтарей.
А с Исаком обходятся всяко
И пускают не дальше дверей.
С той поры, как боролся Иаков
С богом
и победил его бог,
Стал он Яковом.
Этот Яков
Под любым зодиаком убог.
«Почему люди пьют водку?..»
Почему люди пьют водку?
Теплую, противную —
Полные стаканы
Пошлого запаха
И подлого вкуса?
Потому что она врывается в глотку,
Как добрый гуляка
В баптистскую молельню,
И сразу все становится лучше.
В год мы растем на 12 процентов
(Я говорю о валовой продукции.
Война замедляла рост производства).
Стакан водки дает побольше.
Все улучшается на 100 процентов.
Война не мешает росту производства,
И даже стальные протезы инвалидов
Становятся теплыми живыми ногами —
Всё – с одного стакана водки.
Почему люди держат собаку?
Шумную, нелепую, любящую мясо
Даже в эпоху карточной системы?
Почему в эпоху карточной системы
Они никогда не обидят собаку?
Потому что собака их не обидит,
Не выдаст, не донесет, не изменит,
Любое достоинство выше оценит,
Любой недостаток простит охотно
И в самую лихую годину
Лизнет языком колбасного цвета
Ваши бледные с горя щеки.
Почему люди приходят с работы,
Запирают двери на ключ и задвижку,
Бросают на стол телефонную трубку
И пять раз подряд, семь раз подряд,
Ночь напролет и еще один разок
Слушают стертую, полуглухую,
Черную, глупую патефонную пластинку?
Слова истерлись, их не расслышишь.
Музыка? Музыка еще не истерлась.
Целую ночь одна и та же.
Та, что надо. Другой – не надо.
Почему люди уплывают в море
На два километра, на три километра,
Хватит силы – на пять километров,
Ложатся на спину и ловят звезды
(Звезды падают в соседние волны)?
Потому что под ними добрая бездна.
Потому что над ними честное небо.
А берег далек – его не видно,
О береге можно забыть, не думать.
АМНИСТИРОВАННЫЙ
Шел человек по улице зеленой.
Угрюмый, грустный,
может быть – хмельной.
От всех – отдельный,
Зримо отделенный
От всех
Своей бедой или виной.
У нас – рубашки. У него рубаха.
Не наши туфли. Просто – башмаки.
И злые. И цепные, как собаки,
В его глазах метались огоньки.
Глаз не свожу я с этого лица:
А может – нету в мире виноватых?
И старый ватник – это просто – ватник.
Одёжа,
А не форма подлеца.
«Все скверное – раньше и прежде…»
Все скверное – раньше и прежде.
Хорошее – невдалеке.
Просторно мне в этой надежде,
Как в сшитом на рост пиджаке.
Мне в этой надежде привольно,
Как в поле, открытом для всех.
Не верится в долгие войны,
А верится в скорый успех.
«Я сегодня – шучу…»
Я сегодня – шучу.
Я своей судьбой – верчу.
Я беру ее за кубические,
Как у толстой вдовы, бока
И слова говорю комические,
Потому что – шучу. Пока.
– Вековуха моя, перестарок,
Будь довольна, что я – верчу.
Завтра я шутить перестану,
А пока – ничего. Шучу.
ЧЕЛОВЕК
Царь природы, венец творенья
Встал за сахаром для варенья.
За всеведением или бессмертием
Он бы в очередь эту не влез,
Но к вареньям куда безмерней
И значительней интерес.
Метафизикам не чета я,
И морали ему не читаю.
Человек должен сытно кушать
И чаи с вареньем пивать.
А потом про бессмертие слушать
И всезнаньем мозги забивать.
«Грехи и огрехи…»
Грехи и огрехи,
Враги и овраги
Не стоят чернила,
Не стоят бумаги,
Не стоит чернила
Все то, что чернило,
Все то, что моральный
Ущерб причинило.
Пишите-ка оды,
Где слово «народы»
Неточно рифмуют
Со словом «свободы».
Пишите баллады,
Где слово «победы»
Прекрасно рифмуют
Со словом «обеды».
Я ваши таланты
Весьма почитаю
И ваши баллады
Всегда прочитаю.
ЛЕНИНСКАЯ ЖИЛИЩНАЯ НОРМА
Должна быть мастерская,
А в мастерской —
Свет, чистота, покой.
Немыслимы, бессмысленны
Будущего контуры
Без отдельной комнаты.
Комната. Она
На каждого одна
Должна быть.
С врезанной в дверях
Сталью замка.
Звонок тоже необходим пока.
Хошь – затворяй.
Хошь – не затворяй.
Свой отдельный рай.
С людьми живешь и дышишь,
Но только не попишешь,
Не сотворишь в толпе.
И стих и человек
Не на людях творятся,
И надо затворяться
На это время.
«Ордена теперь никто не носит…»
Ордена теперь никто не носит.
Планки носят только дураки.
И они, наверно, скоро бросят,
Сберегая пиджаки.
В самом деле, никакая льгота
Этим тихим людям не дана,
Хоть война была четыре года,
Длинная была война.
Впрочем, это было так давно,
Что как будто не было и выдумано.
Может быть, увидено в кино,
Может быть, в романе вычитано.
Нет, у нас жестокая свобода
Помнить все страдания. До дна.
А война – была.
Четыре года.
Долгая была война.
ПАМЯТЬ**
1957
ПАМЯТНИК
Дивизия лезла на гребень горы
По мерзлому,
мертвому,
мокрому
камню,
Но вышло,
что та высота высока мне.
И пал я тогда. И затих до поры.
Солдаты сыскали мой прах по весне,
Сказали, что снова я родине нужен,
Что славное дело,
почетная служба,
Большая задача поручена мне.
– Да я уже с пылью подножной смешался!
Да я уж травой придорожной пророс!
– Вставай, подымайся! —
Я встал и поднялся.
И скульптор размеры на камень нанес.
Гримасу лица, искаженного криком,
Расправил, разгладил резцом ножевым.
Я умер простым, а поднялся великим.
И стал я гранитным,
а был я живым.
Расту из хребта,
как вершина хребта.
И выше вершин
над землей вырастаю.
И ниже меня остается крутая,
Не взятая мною в бою высота.
Здесь скалы
от имени камня стоят.
Здесь сокол
от имени неба летает.
Но выше поставлен пехотный солдат,
Который Советский Союз представляет.
От имени родины здесь я стою
И кутаю тучей ушанку свою!
Отсюда мне ясные дали видны —
Просторы
освобожденной страны.
Где графские земли
вручал
батракам я,
Где тюрьмы раскрыл,
где голодных кормил,
Где в скалах не сыщется
малого камня,
Которого б кровью своей не кропил.
Стою над землей
как пример и маяк.
И в этом
посмертная
служба
моя.
КЕЛЬНСКАЯ ЯМА
Нас было семьдесят тысяч пленных
В большом овраге с крутыми краями.
Лежим
безмолвно и дерзновенно.
Мрем с голодухи
в Кельнской яме.
Над краем оврага утоптана площадь —
До самого края спускается криво.
Раз в день
на площадь
выводят лошадь,
Живую
сталкивают с обрыва.
Пока она свергается в яму,
Пока ее делим на доли
неравно,
Пока по конине молотим зубами, —
О бюргеры Кельна,
да будет вам срамно!
О граждане Кельна, как же так?
Вы, трезвые, честные, где же вы были,
Когда, зеленее, чем медный пятак,
Мы в Кельнской яме
с голоду выли?
Собрав свои последние силы,
Мы выскребли надпись на стенке отвесной,
Короткую надпись над нашей могилой —
Письмо
солдату Страны Советской.
«Товарищ боец, остановись над нами,
Над нами, над нами, над белыми костями.
Нас было семьдесят тысяч пленных,
Мы пали за родину в Кельнской яме!»
Когда в подлецы вербовать нас хотели,
Когда нам о хлебе кричали с оврага,
Когда патефоны о женщинах пели,
Партийцы шептали: «Ни шагу, ни шагу…»
Читайте надпись над нашей могилой!
Да будем достойны посмертной славы!
А если кто больше терпеть не в силах,
Партком разрешает самоубийство слабым.
О вы, кто наши души живые
Хотели купить за похлебку с кашей,
Смотрите, как, мясо с ладони выев,
Кончают жизнь товарищи наши!
Землю роем,
скребем ногтями,
Стоном стонем
в Кельнской яме,
Но все остается – как было, как было! —
Каша с вами, а души с нами.
ГОРА
Ни тучки. С утра – погода.
И значит, снова тревоги.
Октябрь сорок первого года.
Неспешно плывем по Волге —
Раненые, больные,
Едущие на поправку,
Кроме того, запасные,
Едущие на формировку.
Я вместе с ними еду,
Имею рану и справку,
Талоны на три обеда,
Мешок, а в мешке литровку.
Радио, черное блюдце,
Тоскливо рычит несчастья:
Опять города сдаются,
Опять отступают части.
Кровью бинты промокли,
Глотку сжимает ворот.
Все мы стихли,
примолкли.
Но – подплывает город.
Улицы ветром продуты,
Рельсы звенят под трамваем.
Здесь погрузим продукты.
Вот к горе подплываем.
Гора печеного хлеба
Вздымала рыжие ребра,
Тянула вершину к небу,
Глядела разумно, до́бро,
Глядела достойно, мудро,
Как будто на все отвечала.
И хмурое, зябкое утро
Тихонько ее освещало.
К ней подъезжали танки,
К ней подходила пехота,
И погружали буханки.
Целые пароходы
Брали с собой, бывало.
Гора же не убывала
И снова высила к небу
Свои пеклеванные ребра.
Без жалости и без гнева.
Спокойно. Разумно. Добро.
Покуда солдата с тыла
Ржаная гора обстала,
В нем кровь еще не остыла,
Рука его не устала.
Не быть стране под врагами,
А быть ей доброй и вольной,
Покуда пшеница с нами,
Покуда хлеба довольно,
Пока, от себя отрывая
Последние меры хлеба,
Бабы пекут караваи
И громоздят их – до неба!
ГОСПИТАЛЬ
Еще скребут по сердцу «мессера»,
Еще
вот здесь
безумствуют стрелки,
Еще в ушах работает «ура»,
Русское «ура-рарара-рарара!» —
На двадцать
слогов
строки.
Здесь
ставший клубом
бывший сельский храм —
Лежим
под диаграммами труда,
Но прелым богом пахнет по углам —
Попа бы деревенского сюда!
Крепка анафема, хоть вера не тверда.
Попишку бы ледащего сюда!
Какие фрески светятся в углу!
Здесь рай поет!
Здесь
ад
ревмя
ревет!
На глиняном истоптанном полу
Томится пленный,
раненный в живот.
Под фресками в нетопленном углу
Лежит подбитый унтер на полу.
Напротив,
на приземистом топчане.
Кончается молоденький комбат.
На гимнастерке ордена горят.
Он. Нарушает. Молчанье.
Кричит!
(Шепотом – как мертвые кричат.)
Он требует, как офицер, как русский,
Как человек, чтоб в этот крайний час
Зеленый,
рыжий,
ржавый
унтер прусский
Не помирал меж нас!
Он гладит, гладит, гладит ордена,
Оглаживает,
гладит гимнастерку
И плачет,
плачет,
плачет
горько,
Что эта просьба не соблюдена.
Лежит подбитый унтер на полу.
А в двух шагах, в нетопленном углу,
И санитар его, покорного,
Уносит прочь, в какой-то дальний зал,
Чтобы он
своею смертью черной
Комбата светлой смерти
не смущал.
И снова ниспадает тишина.
И новобранца
наставляют воины:
– Так вот оно,
какая
здесь
война!
Тебе, видать,
не нравится
она —
Попробуй
перевоевать
по-своему!
ВОЕННЫЙ РАССВЕТ
Тяжелые капли сидят на траве,
Как птицы на проволоке сидят:
Рядышком,
голова к голове.
Если крикнуть,
они взлетят.
Малые солнца купаются в них:
В каждой капле
свой личный свет.
Мне кажется, я разобрался, вник,
Что это значит – рассвет.
Это – пронзительно, как засов,
Скрипит на ветру лоза.
Но птичьих не слышится голосов —
Примолкли все голоса.
Это – солдаты усталые спят,
Крича сквозь сон
невест имена.
Но уже едет кормить солдат
На кухне верхом
старшина.
Рассвет.
Два с половиной часа
Мира. И нет войны.
И каплет медленная роса —
Слезы из глаз тишины.
Рассвет. По высям облачных гор
Лезет солнце,
все в рыжих лучах,
Тихое,
как усталый сапер,
С тяжким грузом огня
на плечах.
Рассвет. И видит во сне сержант:
Гитлер! Вот он, к стене прижат!
Залп. Гитлер падает у стены.
(Утром самые сладкие сны.)
Рассвет – это значит:
раз – свет!
Два – свет!
Три – свет!
Во имя света для всей земли
По темноте – пли!
Солнце!
Всеми лучами грянь!
Ветер!
Суши росу!
…Ах, какая бывает рань
В прифронтовом лесу!
«Последнею усталостью устав…»
Последнею усталостью устав,
Предсмертным равнодушием охвачен,
Большие руки вяло распластав,
Лежит солдат.
Он мог лежать иначе,
Он мог лежать с женой в своей постели,
Он мог не рвать намокший кровью мох,
Он мог…
Да мог ли? Будто? Неужели?
Нет, он не мог.
Ему военкомат повестки слал.
С ним рядом офицеры шли, шагали.
В тылу стучал машинкой трибунал.
А если б не стучал, он мог?
Едва ли.
Он без повесток, он бы сам пошел.
И не за страх – за совесть и за почесть.
Лежит солдат – в крови лежит, в большой,
А жаловаться ни на что не хочет.
«Хуже всех на фронте пехоте!..»
– Хуже всех на фронте пехоте!
– Нет! Страшнее саперам.
В обороне или в походе
Хуже всех им, без спора!
– Верно, правильно! Трудно и склизко
Подползать к осторожной траншее.
Но страшней быть девчонкой-связисткой,
Вот кому на войне
всех страшнее.
Я встречал их немало, девчонок!
Я им волосы гладил,
У хозяйственников ожесточенных
Добывал им отрезы на платье.
Не за это, а так
отчего-то,
Не за это,
а просто
случайно
Мне девчонки шептали без счета
Свои тихие, бедные тайны.
Я слыхал их немало, секретов,
Что слезами политы,
Мне шептали про то и про это,
Про большие обиды!
Я не выдам вас, будьте спокойны.
Никогда. В самом деле,
Слишком тяжко даются вам войны
Лучше б дома сидели.
КАК МЕНЯ ПРИНИМАЛИ В ПАРТИЮ
Я засветло ушел в политотдел
И за полночь добрался до развалин,
Где он располагался. Посидел,
Газеты поглядел. Потом – позвали.
О нашей жизни и о смерти
мыслящая,
Все знающая о добре и зле,
Бригадная партийная комиссия
Сидела прямо на сырой земле.
Свеча горела. При ее огне
Товарищи мои сидели старшие,
Мою судьбу партийную решавшие,
И дельно говорили обо мне.
Один спросил:
– Не сдрейфишь?
Не сбрешешь?
– Не струсит, не солжет, —
другой сказал.
А лунный свет, валивший через бреши,
Светить свече усердно помогал.
И немцы пять снарядов перегнали,
И кто-то крякнул про житье-бытье,
И вся война лежала перед нами,
И надо было выиграть ее.
И понял я,
что клятвы не нарушу,
А захочу нарушить – не смогу,
Что я вовеки
не сбрешу,
не струшу,
Не сдрейфлю,
не совру
и не солгу.
Руку крепко жали мне друзья
И говорили обо мне с симпатией.
Так в этот вечер я был принят в партию,
Где лгать – нельзя
И трусом быть – нельзя.
СОН
Утро брезжит,
а дождик брызжет.
Я лежу на вокзале
в углу.
Я еще молодой и рыжий,
Мне легко
на твердом полу.
Еще волосы не поседели
И товарищей милых
ряды
Не стеснились, не поредели
От победы
и от беды.
Засыпаю, а это значит:
Засыпает меня, как песок,
Сон, который вчера был начат,
Но остался большой кусок.
Вот я вижу себя в каптерке,
А над ней снаряды снуют.
Гимнастерки. Да, гимнастерки!
Выдают нам. Да, выдают!
Девятнадцатый год рожденья —
Двадцать два в сорок первом году —
Принимаю без возраженья,
Как планиду и как звезду.
Выхожу двадцатидвухлетний
И совсем некрасивый собой,
В свой решительный, и последний,
И предсказанный песней бой.
Потому что так пелось с детства,
Потому что некуда деться
И по многим другим «потому».
Я когда-нибудь их пойму.
Привокзальный Ленин мне снится:
С пьедестала он сходит в тиши
И, протягивая десницу,
Пожимает мою от души.
ПИСАРЯ
Дело,
что было Вначале, —
сделано рядовым,
Но Слово,
что было Вначале, —
его писаря писали.
Легким листком оперсводки
скользнувши по передовым,
Оно спускалось в архивы,
вставало там на причале.
Архивы Красной Армии, хранимые как святыня,
Пласты и пласты документов,
подобные
угля пластам!
Как в угле скоплено солнце,
в них наше сияние стынет,
Собрано,
пронумеровано
и в папки сложено там.
Четыре Украинских фронта,
Три Белорусских фронта,
Три Прибалтийских фронта,
Все остальные фронты
Повзводно,
Побатарейно,
Побатальонно,
Поротно —
Все получат памятники особенной красоты.
А камни для этих статуй тесали кто? Писаря.
Бензиновые коптилки
неярким светом светили
На листики из блокнотов,
где,
попросту говоря,
Закладывались основы
литературного стиля.
Полкилометра от смерти —
таков был глубокий тыл,
В котором работал писарь.
Это ему не мешало.
Он,
согласно инструкций,
в точных словах воплотил
Все,
что, согласно инструкций,
ему воплотить надлежало.
Если ефрейтор Сидоров был ранен в честном бою,
Если никто не видел
тот подвиг его
благородный,
Лист из блокнота выдрав,
фантазию шпоря свою,
Писарь писал ему подвиг
длиною в лист блокнотный.
Если десятиклассница кричала на эшафоте,
Если крестьяне вспомнили два слова:
«Победа придет!»
Писарь писал ей речи,
писал монолог,
в расчете
На то,
что он сам бы крикнул,
взошедши на эшафот.
Они обо всем написали
слогом простым и живым,
Они нас всех прославили,
а мы
писарей
не славим.
Исправим же этот промах,
ошибку эту исправим
И низким,
земным поклоном
писаря
поблагодарим!








