Том 1. Стихотворения 1939–1961
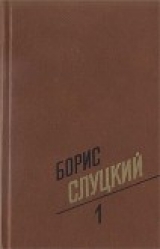
Текст книги "Том 1. Стихотворения 1939–1961"
Автор книги: Борис Слуцкий
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)
«Проводы правды не требуют труб…»
Проводы правды не требуют труб.
Проводы правды – не праздник, а труд!
Проводы правды оркестров не требуют:
Музыка – брезгует, живопись требует.
В гроб ли кладут или в стену вколачивают,
Бреют, стригут или укорачивают:
Молча работают, словно прядут,
Тихо шумят, словно варежки вяжут.
Сделают дело, а слова не скажут.
Вымоют руки и тотчас уйдут.
«Вынимаются книжки забытые…»
Вынимаются книжки забытые,
Называются вновь имена,
Гвозди,
в руки распятых
забитые,
Тянут, тащат с утра до темна.
Знаменитые и безымянные,
В шахтах сгинувшие и в рудниках,
Вы какие-то новые, странные,
Вы на вас не похожи никак.
Чтоб судьбу, бестолковую пряху,
Вновь на подлость палач не подбил,
Мир, предложенный вашему праху,
Отвергаете вы из могил.
Отвергаете сладость забвенья
И терпенья поганый верняк.
Кандалов ваших синие звенья
О возмездии только звенят.
МОШКА́
Из метро, как из мешка,
Словно вулканическая масса,
Сыплются четыре первых класса.
Им кричат: «Мошка!»
Взрослым кажется совсем не стыдно
Ухмыляться гордо и обидно,
И не обходиться без смешка,
И кричать: «Мошка!»
Но сто двадцать мальчиков, рожденных
В славном пятьдесят четвертом,
Правдолюбцев убежденных,
С колыбели увлеченных спортом,
Улицу заполонили
Тем не менее.
Вас, наверно, мамы уронили
При рождении,
Плохо вас, наверно, пеленали.
Нас вообще не пеленали,
Мы росли просторно и легко.
Лужники, луна ли —
Все равно для нас недалеко.
Вот она, моя надежда.
Вот ее слова. Ее дела.
Форменная глупая одежда
Ей давным-давно мала.
Руки красные из рукавов торчат,
Ноги – в заменители обуты.
Но глаза, прожекторы как будто,
У ребят сияют и девчат.
Вы пока шумите и пищите
В радостном предчувствии судьбы,
Но, тираны мира,
трепещите,
Поднимайтесь,
падшие рабы.
НОВАЯ КВАРТИРА
Я в двадцать пятый раз после войны
На новую квартиру перебрался,
Отсюда лязги буферов слышны,
Гудков пристанционных перебранка.
Я жил у зоопарка и слыхал
Орлиный клекот, лебедей плесканье.
Я в центре жил. Неоном полыхал
Центр надо мной.
Я слышал полосканье
В огромном горле неба. Это был
Аэродром, аэрогром и грохот.
И каждый шорох, ропот или рокот
Я записал, запомнил, не забыл.
Не выезжая, а переезжая,
Перебираясь на своих двоих,
Я постепенно кое-что постиг,
Коллег по временам опережая.
А сто или сто двадцать человек,
Квартировавших рядышком со мною,
Представили двадцатый век
Какой-то очень важной стороною.
«То лето, когда убивали водителей многих такси…»
То лето, когда убивали водителей многих такси[40]40
Имеется в виду время после «ворошиловской» амнистии (см. примеч. к стих. «Дом в переулке»), когда было отпущено на свободу множество уголовников-рецидивистов.
[Закрыть],
Когда уголовники
Веселые, пьяные, злые расхаживали по Руси,
Решительные, как подполковники.
До этого лета случилась весна.
Как щепка на щепку, лезла новость на новость,
И, словно медведи после зимнего сна,
Вползали вечные ценности: правда, свобода, совесть.
До этого выпало несколько зимних годов
И вечные ценности спали в далеких берлогах,
И даже свободный мыслитель был не готов
Помыслить о будущих мартовских некрологах.
До этого было четыре года войны,
И кто уцелел, кто с фронта вернулся,
Войне в три погибели поклониться должны —
Все те, кто после войны – уцелел, не согнулся.
А все довоенное является ныне до —
Историческим, плюсквамперфектным, забытым
И, словно Филонов[41]41
П. Н. Филонов (1883–1941) – советский художник-авангардист, картины которого долгие годы не выставлялись.
[Закрыть] в Русском музее, забитым
В какие-то ящики…
СОВРЕМЕННИК
Советские люди по сути —
Всегда на подъем легки.
Куда вы их ни суйте —
Берут свои рюкзаки,
Хватают свои чемоданы
Без жалоб и без досад
И – с Эмбы до Магадана,
И – если надо – назад.
Каких бы чинов ни достигнул
И званий ни приобрел,
Но главное он постигнул:
Летит налегке орел
И – правило толковое —
Смерть, мол, красна на миру.
С зернистой на кабачковую
Легко переходим
икру.
Из карточной системы
Мы в солнечную перебрались,
Но с достиженьями теми
Нисколько не зарвались,
И если придется наново,
Охотно возьмем за труды
От черного и пеклеванного
Колодезной до воды.
До старости лет ребята,
Со всеми в мире – на ты.
Мой современник, тебя-то
Не низведу с высоты.
Я сам за собою знаю,
Что я, как и все, заводной
И моложавость чудная
Не расстается со мной.
«На краю у ночи, на опушке…»
На краю у ночи, на опушке —
За окном трамвай уже поет,—
Укрывая ушки и макушки,
Крепко дремлет трудовой народ:
Запасает силу и тепло,
Бодрость копит и веселость копит.
И вставать не так уж тяжело
В час, когда будильник заторопит.
С каждым годом люди – веселей
И глаза добрее перед вами.
Сдачу даже с десяти рублей
Ласково передают в трамвае.
И взаимно вежлив с продавцом
Прежде грубоватый покупатель:
Вот товар – с изнанкой и лицом,
А хотите – сами покопайтесь.
Все-таки дела идут на лад,
Движутся! Хоть медленней, чем хочется.
Десять лет несчастья мне сулят.
Десять лет плюю на те пророчества.
«Суббота. Девки все разобраны…»
Суббота. Девки все разобраны.
В наряды лучшие разубраны.
У них сознание разорвано.
На них всезнания зазубрины.
Все зная и все понимая,
С работы, с Пушкинской, с Арбата
Москва – кричащая, немая —
Идет – девчата и ребята.
Все, что ни выскажут ей, – выслушает.
Все, что прочтут, – она усвоит.
И семечко немедля вылущит.
И тут же шелуху развеет.
«Песню крупными буквами пишут…»
Песню крупными буквами пишут,
И на стенку вешают текст,
И поют, и злобою пышут,
Выражают боль и протест.
Надо все-таки знать на память,
Если вправду чувствуешь боль,
Надо знать, что хочешь ославить,
С чем идешь на решительный бой.
А когда по слогам разбирает,
Запинаясь, про гнев поет,
Гнев меня самого разбирает,
Смех мне подпевать не дает.
ПРОБА
Еще играли старый гимн
Напротив места лобного,
Но шла работа над другим
Заместо гимна ложного.
И я поехал на вокзал,
Чтоб около полуночи
Послушать, как транзитный зал,
Как старики и юноши —
Всех наций, возрастов, полов,
Рабочие и служащие,
Недавно не подняв голов
Один доклад прослушавшие, —
Воспримут устаревший гимн;
Ведь им уже объявлено,
Что он заменится другим,
Где многое исправлено.
Табачный дым над залом плыл,
Клубился дым махорочный.
Матрос у стойки водку пил,
Занюхивая корочкой.
И баба сразу два соска
Двум близнецам тянула.
Не убирая рук с мешка,
Старик дремал понуро.
И семечки на сапоги
Лениво парни лускали.
И был исполнен старый гимн,
А пассажиры слушали.
Да только что в глазах прочтешь?
Глаза-то были сонными,
И разговор все был про то ж,
Беседы шли сезонные:
Про то, что март хороший был
И что апрель студеный,
Табачный дым над залом плыл —
Обыденный, буденный.
Матрос еще стаканчик взял —
Ничуть не поперхнулся.
А тот старик, что хмуро спал, —
От гимна не проснулся.
А баба, спрятав два соска
И не сходя со стула,
Двоих младенцев в два платка
Толково завернула.
А мат, который прозвучал,
Неясно что обозначал.
ВАСЯ С БУЛЕЙ
Первый образ сошедших с круга:
Камчадалы, два глупых друга,
Вася Лихарев с Галкиным Булей.
Класс
то забормочет, как улей,
То от ужаса онемеет.
Класс контрольной только и дышит.
Вася с Булей контрольных не пишут.
Вася с Булей надежд не имеют.
Вася с Булей на задней парте,
Вне компаний, группок, партий,
Обсуждают с наглой улыбкой
Тщетность наших поползновений.
Сами, сами на почве зыбкой:
Вася – дуб, и Буля не гений.
Оба, оба школы не кончат.
Буля – потому что не хочет.
Вася – потому что не может.
Эта мысль не томит, не гложет,
Не страшит, не волнует, не мучит —
Целый год уроков не учат!
До секунды время исчисля,
Вася ждет звонка терпеливо.
Бродят дивные пошлые мысли
Вдоль по Булиной роже счастливой.
Чем он думает? Даже странно.
И о чем? Где его установки?
Путешествует, видимо, в страны,
Где обедают без остановки.
Мы потом в институтах учились,
На симпозиумах встречались,
В санаториях южных лечились
И на аэролиниях мчались.
После вечера выпускного
Через год, через два, через сорок
Мы встречались снова и снова,
Вспоминая о дружбах и ссорах.
Где же Вася?
Никто не слышал.
Словно в заднюю дверь он вышел.
Что же Буля?
Где колобродит?
Даже слухи давно не ходят,
Словно за угол завернули
Буля с Васей,
Вася с Булей.
На экзаменах провалились
И как будто бы провалились.
«Сорок сороков сорокалетних…»
Сорок сороков сорокалетних
Однокурсниц и соучениц,
По уши погрязших в сплетнях,
Пред успехом падающих ниц,
Все же сердобольных, все же честных,
Все же (хоть по вечерам) прелестных,
Обсудили и обговорили
И распределили все места
И такую кашу заварили!
Ложка в ней стоймя стоит – крута!
Эти сорок сороков я знал
Двадцать лет назад – по институту,
И по гулкости консерваторских зал,
По добру, а также и по худу.
Помню толстоватых и худых,
Помню миловидных, безобразных,
Помню работящих, помню праздных,
Помню очень молодых.
Я взрослел и созревал
Рядом с ними, сорока сороками,
Отмечал их дни рождения строками,
А на днях печали – горевал.
Стрекочите и трезвоньте,
Сорок сороков, сорок сорок,
Пусть на вашем горизонте
Будет меньше тучек и тревог.
МОРАЛЬНЫЙ ИЗНОС
Человек, как лист бумаги,
Изнашивается на сгибе.
Человек, как склеенная чашка,
Разбивается на изломе.
А моральный износ человека
Означает, что человека
Слишком долго сгибали, ломали,
Колебали, шатали, мяли,
Били, мучили, колотили,
Попадая то в страх, то в совесть,
И мораль его прохудилась,
Как его же пиджак и брюки.
УЛУЧШЕНИЕ АНКЕТ
В анкетах лгали,
Подчищали в метриках,
Равно боялись дыма и огня
И не упоминали об Америках,
Куда давно уехала родня.
Храня от неприятностей семью,
Простую биографию свою
Насильно к идеалу приближали
И мелкой дрожью вежливо дрожали.
А биография была проста.
Во всей своей наглядности позорной.
Она – от головы и до хвоста —
Просматривалась без трубы подзорной.
Сознанье отражало бытие,
Но также искажало и коверкало, —
Как рябь ручья, а вовсе не как зеркало,
Что честно дело делает свое.
Но кто был более виновен в том:
Ручей иль тот, кто в рябь его взирает
И сам себя корит и презирает?
Об этом я вам расскажу потом.
«Доносов не принимают!..»
«Доносов не принимают!
Вчера был последний день!»
Но гадов не пронимает
Торжественный бюллетень.
Им уходить неохота,
Они толпятся у входа.
Серее серых мышат,
Они бумагой шуршат.
Проходят долгие годы,
Десятилетья идут,
Но измененья погоды
Гады по году ждут.
«Когда эпохи идут на слом…»
Когда эпохи идут на слом,
Появляются дневники,
Писанные задним числом,
В одном экземпляре, от руки.
Тому, который их прочтет
(То ли следователь, то ли потомок),
Представляет квалифицированный отчет
Интеллигентный подонок.
Поступки корректируются слегка.
Мысли – очень серьезно.
«Рано!» – бестрепетно пишет рука,
Где следовало бы: «Поздно».
Но мы просвечиваем портрет
Рентгеновскими лучами,
Смываем добавленную треть
Томления и отчаяния.
И остается пища: хлеб
Насущный, хотя не единый,
И несколько недуховных потреб,
Пачкающих седины.
«Надо, чтобы дети или звери…»
Надо, чтобы дети или звери,
Чтоб солдаты или, скажем, бабы
К вам питали полное доверье
Или полюбили вас хотя бы.
Обмануть детей не очень просто,
Баба тоже не пойдет за подлым,
Лошадь сбросит на скаку прохвоста,
А солдат поймет, где ложь, где подвиг.
Ну, а вас, разумных и ученых, —
О, высокомудрые мужчины, —
Вас водили за нос, как девчонок,
Как детей, вас за руку влачили.
Нечего ходить с улыбкой гордой
Многократно купленным за орден.
Что там толковать про смысл, про разум,
Многократно проданный за фразу.
Я бывал в различных обстоятельствах,
Но видна бессмертная душа
Лишь в освобожденной от предательства,
В слабенькой улыбке малыша.
СОН
Как дерево стареет и устает металл,
Всемирный обыватель от истории устал.
Он одурел от страха и притерпелся к совести,
Ему приелись лозунги и надоели новости.
Заснул отец семейства и видит сладкий сон
О том, что репродуктор неожиданно включен.
Храпит простак, но видит его душевный глаз:
Последние известия звучат в последний раз.
Храпит простак, но слышит его душевный слух,
Что это все взаправду, что это все не слух:
Событий не предвидится ближайших двести лет
И деньги возвращаются подписчикам газет.
Посередине ночи, задолго до утра
Вскочил простак поспешно с двуспального одра,
Он теребит супругу за толстое плечо,
И, злая с недосыпу, она кричит: «Для чо?
Какой там репродуктор? Он даже не включен».
И оптимист злосчастный проклял свой лживый сон.
«У людей – дети. У нас – только кактусы…»
У людей – дети. У нас – только кактусы
Стоят, безмолвны и холодны.
Интеллигенция, куда она катится?
Ученые люди,
где ваши сыны?
Я жил в среде, в которой племянниц
Намного меньше, чем теть и дяде́й.
И ни один художник-фламандец
Ей не примажет больших грудей.
За что? За то, что детские сопли
Однажды побрезговала стереть,
Сосцы у нее навсегда пересохли,
Глаза и щеки пошли стареть.
Чем больше книг, тем меньше деток,
Чем больше идей, тем меньше детей.
Чем больше жен, со вкусом одетых,
Тем в светлых квартирах пустей и пустей.
«Генерала легко понять…»
Генерала легко понять,
Если к Сталину он привязан, —
Многим Сталину он обязан,
Потому что тюрьму и суму
Выносили совсем другие.
И по Сталину ностальгия,
Как погоны, к лицу ему.
Довоенный, скажем, майор
В сорок первом или покойник,
Или, если выжил, полковник.
Он по лестнице славы пер.
До сих пор он по ней шагает,
В мемуарах своих – излагает,
Как шагает по ней до сих пор.
Но зато на своем горбу
Все четыре военных года
Он тащил в любую погоду
И страны и народа судьбу
С двуединым известным кличем.
А из Родины – Сталина вычтя,
Можно вылететь. Даже в трубу!
Кто остался тогда? Никого.
Всех начальников пересажали.
Немцы шли, давили и жали
На него, на него одного.
Он один, он один. С начала
До конца. И его осеняло
Знаменем вождя самого.
Даже и в пятьдесят шестом,
Даже после Двадцатого съезда
Он портрета не снял, и в том
Ни его, ни его подъезда
Обвинить не могу жильцов,
Потому что в конце концов
Сталин был его честь и место.
Впереди только враг. Позади
Только Сталин. Только Ставка.
До сих пор закипает в груди,
Если вспомнит. И ни отставка,
Ни болезни, ни старость, ни пенсия
Не мешают; грозною песнею,
Сорок первый, звучи, гуди.
Ни Егоров, ни Тухачевский —
Впрочем, им обоим поклон, —
Только он, бесстрашный и честный,
Только он, только он, только он.
Для него же свободой, благом,
Славой, честью, гербом и флагом
Сталин был. Это уж как закон.
Это точно. «И правду эту, —
Шепчет он, – никому не отдам».
Не желает отдать поэту.
Не желает отдать вождям.
Пламенем безмолвным пылает,
Но отдать никому не желает.
И за это ему – воздам!
«Товарищ Сталин письменный…»
Товарищ Сталин письменный —
Газетный или книжный —
Был благодетель истинный,
Отец народа нежный.
Товарищ Сталин устный —
Звонком и телеграммой —
Был душегубец грустный,
Угрюмый и упрямый.
Любое дело делается
Не так, как сказку сказывали.
А сказки мне не требуются,
Какие б ни навязывали.
О ПРЯМОМ ВЗГЛЯДЕ
Честный человек
Должен прямо смотреть в глаза.
Почему – неизвестно.
Может быть, у честного человека
Заболели глаза и слезятся?
Может быть, нечестный
Обладает прекрасным зрением?
Почему-то в карательных службах
Стольких эпох и народов
Приучают правдивость и честность
Проверять по твердости взгляда.
Неужели охранка,
Скажем, Суллы имела право
Разбирать нечестных и честных?
Неужели контрразведка,
Например, Тамерлана
Состояла из моралистов?
Каждый зрячий имеет право
Суетливо бегать глазами
И оцениваться не по взгляду,
Не по обонянью и слуху,
А по слову и делу.
«Виноватые без вины…»
Виноватые без вины
Виноваты за это особо,
Потому-то они должны
Виноватыми быть до гроба.
Ну субъект, ну персона, особа!
Виноват ведь! А без вины!
Вот за кем приглядывать в оба,
Глаз с кого спускать не должны!
Потому что бушует злоба
В виноватом без вины.
«Художнику хочется, чтобы картина…»
Художнику хочется, чтобы картина
Висела не на его стене,
Но какой-то серьезный скотина
Торжественно блеет: «Не-е-е…»
Скульптору хочется прислонить
К городу свою скульптуру,
Но для этого надо сперва отменить
Одну ученую дуру.
И вот возникает огромный подвал,
Грандиозный чердак,
Где до сих пор искусств навал
И ярлыки: «Не так».
И вот возникает запасник, похожий
На запасные полки,
На Гороховец, что с дрожью по коже
Вспоминают фронтовики.
На Гороховец Горьковской области
(Такое место в области есть),
Откуда рвутся на фронт не из доблести,
А просто, чтоб каши вдоволь поесть.
«Поэты малого народа…»
Поэты малого народа,
Который как-то погрузили
В теплушки, в ящики простые,
И увозили из России,
С Кавказа, из его природы
В степя, в леса, в полупустыни —
Вернулись в горные аулы,
В просторы снежно-ледяные,
Неся с собой свои баулы,
Свои коробья лубяные.
Выпровождали их с Кавказа
С конвоем, чтоб не убежали.
Зато по новому приказу —
Сказали речи, руки жали.
Поэты малого народа —
И так бывает на Руси —
Дождались все же оборота
Истории вокруг оси.
В ста эшелонах уместили,
А все-таки – народ! И это
Доказано блистаньем стиля,
Духовной силою поэта.
А все-таки народ! И нету,
Когда его с земли стирают,
Людского рода и планеты:
Полбытия
они теряют.
«Шуба выстроена над калмыком…»
Шуба выстроена над калмыком[43]43
В основе стихотворения – судьба калмыцкого поэта Д. Н. Кугультинова, репрессированного вместе со своим народом.
[Закрыть].
Щеки греет бобровый ворс.
А какое он горе мыкал!
Сколько в драных ватниках мерз!
Впрочем, северные бураны
Как ни жгли – не сожгли дотла.
Слава не приходила рано.
Поздно все же слава пришла.
Как сладка та поздняя слава,
Что не слишком поздно дана.
Поглядит налево, направо:
Всюду слава, всюду она.
Переизданный, награжденный
Много раз и еще потом,
Многократно переведенный,
Он не щурится сытым котом.
Нет, он смотрит прямо и точно
И приходит раньше, чем ждут:
Твердый профиль, слишком восточный,
Слишком северным ветром продут.
«Бывший кондрашка, ныне инсульт…»
Бывший кондрашка, ныне инсульт,
Бывший разрыв, ныне инфаркт,
Что они нашей морали несут?
Только хорошее. Это – факт.
Гады по году лежат на спине.
Что они думают? – Плохо мне.
Плохо им? Плохо взаправду. Зато
Гады понимают за что.
Вот поднимается бывший гад,
Ныне – эпохи своей продукт,
Славен, почти здоров, богат,
Только ветром смерти продут.
Бывший безбожник, сегодня он
Верует в бога, в чох и в сон.
Больше всего он верит в баланс.
Больше всего он бы хотел,
Чтобы потомки ценили нас
По сумме – злых и добрых дел.
Прав он? Конечно, трижды прав.
Поэтому бывшего подлеца
Не лишайте, пожалуйста, прав
Исправиться до конца.
«Подумайте, что звали высшей мерой…»
Подумайте, что звали высшей мерой
Лет двадцать или двадцать пять подряд.
Добро? Любовь?
Нет. Свет рассвета серый
И звук расстрела.
Мы будем мерить выше этой высшей,
А мера будет лучше и верней.
А для зари, над городом нависшей,
Употребленье лучшее найдем.
«Быка не надо брать за бока…»
Быка не надо брать за бока.
Быка берут за рога —
Темные, вроде табака,
Крутые, как берега.
Бык мотнет большой башкой,
Потом отбежит вбок.
А ты хватай левой рукой
За правый рог.
Бык замычит – он такой!
И в глазах у него – тоска.
А ты хватай правой рукой
За левый рог быка.
Покуда не доконал быка,
Покамест он жив, пока
Не рухнет с грохотом перед тобой —
Ты продолжаешь бой.
КАК ТОЛЬКО ВЗЯТЬСЯ
Все может быть,
Что не может быть,
Все может статься,
Как только взяться,
И самое главное
Не позабыть,
И в самом важном
Не струсить, не сдаться.
А если правила
Соблюсти,
А если вовремя
Их нарушить,
Все можно
До конца довести
И гору
На гору
Можно обрушить.
Возможность
И невозможность
Давно
Настолько привыкли
Местами меняться,
Что им уже, в сущности,
Все равно
И все может статься,
Как только взяться.
«Свобода совести непредставима…»
Свобода совести непредставима
Без совести. Сначала совесть,
Потом свобода.
Но два тысячелетия усилий
Последовательность эту размочили.
Пора попробовать наоборот: сначала —
Свободу.
ВРЕМЯ ВСЕ УЛАДИТ
Ссылки получают имя ссыльных.
Книги издаются без поправок.
В общем, я не верю в право сильных.
Верю в силу правых.
Восстанавливается справедливость,
Как промышленность, то есть не скоро.
Все-таки, хотя и не без спора,
Восстанавливается – справедливость.
Восстанавливается! Если остановится
Восстанавливаться, это ненадолго.
Постепенно все опять становится
На стезю прогресса, чести, долга.
Все долги двадцатого столетья
Двадцать первое заплатит.
Многолетье скрутит лихолетье.
Время – все уладит.
Надо с ним, как Пушкин с ямщиками, —
Добрым словом, а не кулаками,
И оно поймет, уразумеет
Тех, кто объясниться с ним сумеет.
«Пропускайте детей до шестнадцати лет…»
Пропускайте детей до шестнадцати лет,
До тринадцати, до десяти!
Пусть дитя беспрепятственно купит билет,
Спросит вежливо, как пройти —
И крутите, крутите для малых детей
Без купюр и затей
То, что вы посмотрели давно:
Детям нужно ходить в кино.
Да, экран, а не буква, отнюдь не число!
Кинотеатров широкая сеть
Изучить человеческое ремесло,
Своевременно повзрослеть
Очень может помочь.
И поэтому вы
Пропускайте детей в кинотеатры Москвы.
«Учитесь, дети, книги собирать…»
Учитесь, дети, книги собирать
Не для богатства, а для благородства.
Обидеть книгу – подлость и уродство,
Как будто пайку хлеба отобрать.
Кто голодал, но книги покупал,
Недосыпал, но их читал ночами,
Себя таким окопом окопал!
Кого бы там над ним ни назначали,
Кто б ни грозил ему, кто б ни разил
Его,
никто б его не поразил.
Все потому, что, словом пораженный,
Для дела закален и заострен.
Не спорьте, дети, я со всех сторон
Вопрос обдумал. Он теперь решенный.
Не загрязняйте, дети, ваших книг
(В особенности же библиотечных).
Среди случайных, жалких, скоротечных
Немало важных сыщется средь них.








