Том 1. Стихотворения 1939–1961
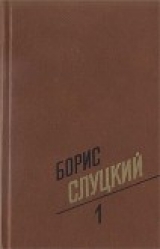
Текст книги "Том 1. Стихотворения 1939–1961"
Автор книги: Борис Слуцкий
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц)
ВТОРОЙ ЭТАЖ
Я жил над музыкальной школой.
Меня будил проворный, скорый,
Быстро поспешный перебряк:
То гармонисты, баянисты,
А также аккордеонисты
Гоняли гаммы так и сяк.
Позднее приходили скрипки,
Кларнет, гитара и рояль.
Весь день на звуке и на крике
Второй, жилой этаж стоял.
Все только музыки касалось —
Одной мелодии нагой,
И даже дом, как мне казалось,
Притопывает в такт ногой.
Он был проезжею дорогой —
Веселой, грязной и широкой,
Открытой настежь целый день
Для прущих к музыке людей.
Я помню их литые спины
И не забуду до конца
Замах рублевый кузнеца
Над белой костью пианино.
Как будто бы земля сама
На склоне лет брала уроки,
Гремели из дому грома́,
Певцы ревели, как пророки.
А наш второй этаж, жилой,
Оглохнув от того вокала,
Лежал бесшумною золой
Над красным пламенем вулкана.
БЛУДНЫЙ СЫН
Истощенный нуждой,
Истомленный трудом,
Блудный сын возвращается в отческий дом
И стучится в окно осторожно.
– Можно?
– Сын мой! Единственный! Можно!
Можно все. Лобызай, если хочешь, отца,
Обгрызай духовитые кости тельца.
Как приятно, что ты возвратился!
Ты б остался, сынок, и смирился.—
Сын губу утирает густой бородой,
Поедает тельца,
Запивает водой,
Аж на лбу блещет капелька пота
От такой непривычной работы.
Вот он съел, сколько смог.
Вот он в спальню прошел,
Спит на чистой постели.
Ему – хорошо!
И встает.
И свой посох находит.
И, ни с кем не прощаясь, уходит.
С НАШЕЙ УЛИЦЫ
Не то чтобы попросту шлюха,
Не то чтоб со всеми подряд,
Но все-таки тихо и глухо
Плохое о ней говорят.
Но вот она замуж решает,
Бросает гулять наконец
И в муках ребенка рожает —
Белесого,
точно отец.
Как будто бы
содою с мылом,
Как будто отребья сняла,
Она отряхнула и смыла
Все то, чем была и слыла.
Гордясь красотою жестокой,
Она по бульвару идет,
А рядышком
муж синеокий
Блондина-ребенка несет.
Злорадный, бывалый, прожженный
И хитрый
бульвар
приуныл:
То сын ее,
в муках рожденный,
Ее от обид заслонил.
ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Перед войной я написал подвал
Про книжицу поэта-ленинградца
И доказал, что, если разобраться,
Певец довольно скучно напевал.
Я сдал статью и позабыл об этом,
За новую статью был взяться рад.
Но через день бомбили Ленинград —
И автор книжки сделался поэтом.
Все то, что он в балладах обещал,
Чему в стихах своих трескучих клялся,
Он выполнил – боролся, и сражался,
И смертью храбрых, как предвидел, пал.
Как хорошо, что был редактор зол
И мой подвал крестами переметил
И что товарищ, павший,
перед смертью
Его,
скрипя зубами,
не прочел.
«Музыка на вокзале…»
Музыка на вокзале,
Играющая для всех:
Чтоб мимоездом взяли
Плач на память
и смех.
Многим ты послужила,
Начатая давно,
Песенка для пассажиров,
Выглянувших в окно.
Диктор какой-то нудный
Рядом с тобою живет:
Еже-почти-минутно
Режет тебя и рвет.
Все же в транзитном зале
Слушают не дыша.
Музыка на вокзале!
Значит, ты хороша.
Значит, гудки не мешают
Песне греметь с утра.
Музыка, ты большая.
Музыка, ты добра.
Не уставай, работай!
Век тебя слушать готов.
Словно море у борта —
Музыка вдоль поездов.
«Толпа на Театральной площади…»
Толпа на Театральной площади.
Вокруг столичный люд шумит.
Над ней четыре мощных лошади,
Пред ней экскурсовод стоит.
У Белорусского и Курского
Смотреть Москву за пять рублей
Их собирали на экскурсию —
Командировочных людей.
Я вижу пиджаки стандартные —
Фасон двуборт и одноборт,
Косоворотки аккуратные,
Косынки тоже первый сорт.
И старые и малолетние
Глядят на бронзу и гранит, —
То с горделивым удивлением
Россия на себя глядит.
Она копила, экономила,
Она вприглядку чай пила,
Чтоб выросли заводы новые,
Громады стали и стекла.
И нету робости и зависти
У этой вот России к той,
И та Россия этой нравится
Своей высокой красотой.
Задрав башку и тщетно силясь
Запомнить каждый новый вид,
Стоит хозяин и кормилец,
На дело рук своих
глядит.
Стихи, не вошедшие в книгу**
«У офицеров было много планов…»
У офицеров было много планов,
Но в дымных и холодных блиндажах
Мы говорили не о самом главном,
Мечтали о деталях, мелочах, —
Нет, не о том, за что сгорают танки
И движутся вперед, пока сгорят,
И не о том, о чем молчат в атаке, —
О том, о чем за водкой говорят!
Нам было мило, весело и странно,
Следя коптилки трепетную тень,
Воображать все люстры ресторана
Московского!
В тот первый мира день
Все были живы. Все здоровы были.
Все было так, как следовало быть,
И даже тот, которого убили,
Пришел сюда,
чтоб с нами водку пить.
Официант нес пиво и жаркое
И все, что мы в грядущем захотим,
А музыка играла —
что такое?—
О том, как мы в блиндажике сидим,
Как бьет в накат свинцовый дождик частый,
Как рядом ходит орудийный гром,
А мы сидим и говорим о счастье.
О счастье в мелочах. Не в основном.
БУХАРЕСТ
Капитан уехал за женой
В тихий городок освобожденный,
В маленький, запущенный, ржаной,
В деревянный, а теперь сожженный.
На прощанье допоздна сидели,
Карточки глядели.
Пели. Рассказывали сны.
Раньше месяца на три недели
Капитан вернулся – без жены.
Пироги, что повара пекли —
Выбросить велит он поскорее,
И меняет мятые рубли
На хрустящие, как сахар, леи.
Белый снег валит над Бухарестом.
Проститутки мерзнут по подъездам.
Черноватых девушек расспрашивая,
Ищет он, шатаясь день-деньской,
Русую или хотя бы крашеную,
Но глаза чтоб серые, с тоской.
Русая или, скорее, крашеная
Понимает: служба будет страшная.
Денег много и дают – вперед.
Вздрагивая, девушка берет.
На спине гостиничной кровати
Голый, словно банщик, купидон.
– Раздевайтесь. Глаз не закрывайте, —
Говорит понуро капитан.
– Так ложитесь. Руки – так сложите.
Голову на руки положите.
– Русский понимаешь? – Мало очень.
– Очень мало – вот как говорят.
Черные испуганные очи
Из-под черной челки не глядят.
– Мы сейчас обсудим все толково.
Если не поймете – не беда.
Ваше дело – не забыть два слова:
Слово «нет» и слово «никогда».
Что я ни спрошу у вас, в ответ
Говорите: «никогда» и «нет».
Белый снег всю ночь валом валит,
Только на рассвете затихает.
Слышно, как газеты выкликает
Под окном горластый инвалид.
Слишком любопытный половой,
Приникая к щелке головой,
Снова,
Снова,
Снова
слышит ворох
Всяких звуков, шарканье и шорох,
Возгласы, названия газет
И слова, не разберет которых —
Слово «никогда» и слово «нет».
«Пред наших танков трепеща судом…»
Пред наших танков трепеща судом,
Навстречу их колоннам подходящим
Горожане города Содом
Единственного праведника тащат.
Непризнанный отечеством пророк,
Глас, вопиющий без толку в пустыне,
Изломанный и вдоль, и поперек,—
Глядит на нас глазницами пустыми.
В гестапо бьют в челюсть. В живот.
В молодость. В принципы. В совесть.
Низводят чистоту до нечистот.
Вгоняют человеческое в псовость.
С какой закономерностью он выжил!
Как много в нем осталось от него!
Как из него большевика не выжал,
Не выбил лагерь многогодовой!
Стихает гул. Смолкают разговоры.
Город ожидают приговоры.
Вот он приподнялся на локтях,
Вот шепчет по-немецки и по-русски:
Ломайте! Перестраивайте! Рушьте!
Здесь нечему стоять! Здесь все не так!
ДОМОЙ
То ли дождь, то ли снег,
То ли шел, то ли нет,
То морозило,
То моросило.
Вот в какую погоду,
Поближе к весне,
Мы вернулись до дому,
В Россию.
Талый снег у разбитых перронов —
Грязный снег, мятый снег, черный снег —
Почему-то обидел нас всех,
Чем-то давним
и горестным тронув.
Вот он, дома родного порог, —
Завершенье дорог,
Новой жизни начало!
Мы, как лодки,
вернулись к причалу.
Что ты стелешься над пожарищем?
Что не вьешься над белой трубой?
Дым отечества?
Ты – другой,
Не такого мы ждали, товарищи.
Постояв, поглядев, помолчав,
Разошлись по вагонам солдаты,
Разобрали кирки и лопаты
И, покуда держали состав,
Так же молча, так же сердито
Расчищали перрон и пути —
Те пути, что войною забиты,
Те пути,
по которым идти.
ФОТОГРАФИИ КАРТИН, СОЖЖЕННЫХ ОККУПАНТАМИ
На выставке, что привезли поляки,
Пируют радуга и красота,
Зеленые весенние полянки,
Нескошенного луга пестрота,
Все краски, все оттенки, все цвета!
А я стоял пред черной, как смола —
Черней смолы! – у черной, как пожарище —
Перед картиной польского товарища,
Что на костер, как человек, взошла.
Их много, черных пятен на стене,
Сухих, фотографических теней,
Миниатюр и фресок двухсаженных,
Замазанных, изрезанных, сожженных,
Замученных за красный флаг на них,
За то, что в них свобода, труд и Польша,
За то, что справедливее и больше
Они картин оставленных иных.
Среди поляков и среди полотен
Враг – лучших, самых смелых выбирал.
Но подвиг живописцев – не бесплоден
И никогда бесплоден не бывал:
Девчонки, что глаза платочком трут,
И парни – те, что кулаки сжимают,
Здесь, у холстов обугленных, мечтают,
Что если будет враг ценить их труд —
Пускай сожжет. Пускай – не оставляет.
«Туристам показываю показательное…»
Туристам показываю показательное:
Полную чашу, пустую тюрьму.
Они проходят, как по касательной,
Почти не притрагиваясь ни к чему.
Я все ожидаю, что иностранцев
Поручат мне: показать, объяснить.
В этом случае – рад стараться.
Вот она, путеводная нить.
Хотите, представлю вас инвалидам,
Которые в зной, мороз, дожди
Сидят на панели с бодрым видом,
Кричат проходящим: «Не обойди!»
Вы их заснимете. Нет, обойдете.
Вам будет стыдно в глаза смотреть,
Навек погасшие в фашистском доте,
На тело, обрубленное на треть.
Хотите, я покажу вам села,
Где нет старожилов – одни новоселы?
Все, от ребенка до старика,
Погибли, прикрывая вашу Америку,
Пока вы раскачивались и пока
Отчаливали от берега.
Хотите, я покажу вам негров?
С каким самочувствием увидите вы
Бывших рабов,
будущих инженеров.
Хотите их снять на фоне Москвы?
И мне не нравятся нежные виды,
Что вам демонстрируют наши гиды.
Ну что же! Я времени не терял.
Берите, хватайте без всякой обиды
Подготовленный материал.
«Пристальность пытливую не пряча…»
Пристальность пытливую не пряча,
С диким любопытством посмотрел
На меня
угрюмый самострел.
Посмотрел, словно решал задачу.
Кто я – дознаватель, офицер?
Что дознаю, как расследую?
Допущу его ходить по свету я
Или переправлю под прицел?
Кто я – злейший враг иль первый друг
Для него, преступника, отверженца?
То ли девять грамм ему отвешено,
То ли обойдется вдруг?
Говорит какие-то слова
И в глаза мне смотрит,
Взгляд мой ловит,
Смотрит так, что в сердце ломит
И кружится голова.
Говорю какие-то слова
И гляжу совсем не так, как следует.
Ни к чему мне страшные права:
Дознаваться или же расследовать.
«Я судил людей и знаю точно…»
Я судил людей и знаю точно,
Что судить людей совсем не сложно, —
Только погодя бывает тошно,
Если вспомнишь как-нибудь оплошно.
Кто они, мои четыре пуда
Мяса, чтоб судить чужое мясо?
Больше никого судить не буду.
Хорошо быть не вождем, а массой.
Хорошо быть педагогом школьным,
Иль сидельцем в книжном магазине,
Иль судьей… Каким судьей? Футбольным:
Быть на матчах пристальным разиней.
Если сны приснятся этим судьям,
То они во сне кричать не станут.
Ну, а мы? Мы закричим, мы будем
Вспоминать былое неустанно.
Опыт мой особенный и скверный —
Как забыть его себя заставить?
Этот стих – ошибочный, неверный.
Я не прав.
Пускай меня поправят.
ГОВОРИТ ФОМА
Сегодня я ничему не верю:
Глазам – не верю.
Ушам – не верю.
Пощупаю – тогда, пожалуй, поверю,
Если на ощупь – все без обмана.
Мне вспоминаются хмурые немцы,
Печальные пленные 45-го года,
Стоявшие – руки по швам – на допросе,
Я спрашиваю – они отвечают.
– Вы верите Гитлеру? – Нет, не верю.
– Вы верите Герингу? – Нет, не верю.
– Вы верите Геббельсу? – О, пропаганда!
– А мне вы верите? – Минута молчанья.
– Господин комиссар, я вам не верю.
Все пропаганда. Весь мир – пропаганда.
Если бы я превратился в ребенка,
Снова учился в начальной школе,
И мне бы сказали такое:
Волга впадает в Каспийское море!
Я бы, конечно, поверил. Но прежде
Нашел бы эту самую Волгу,
Спустился бы вниз по течению к морю,
Умылся его водой мутноватой
И только тогда бы, пожалуй, поверил.
Лошади едят овес и сено!
Ложь! Зимой 33-го года
Я жил на тощей, как жердь, Украине.
Лошади ели сначала солому,
Потом – худые соломенные крыши,
Потом их гнали в Харьков на свалку.
Я лично видел своими глазами
Суровых, серьезных, почти что важных
Гнедых, караковых и буланых,
Молча, неспешно бродивших по свалке.
Они ходили, потом стояли,
А после падали и долго лежали,
Умирали лошади не сразу…
Лошади едят овес и сено!
Нет! Неверно! Ложь, пропаганда.
Все – пропаганда. Весь мир – пропаганда.
КВАДРАТИКИ
В части выписывали «Вечерки»,
Зная: вечерние газеты
Предоставляют свои страницы
Под квадратики о разводах.
К чести этой самой части
Все разводки получали
По изысканному посланью
С предложеньем любви и дружбы.
Было не принято ссылаться
Ни на «Вечерки», ни на мужа,
Сдуру бросившего адресатку.
Это считалось нетактичным.
Было тактично, было прилично,
Было даже совсем отлично
Рассуждать об одиночестве
И о сердце, жаждущем дружбы.
Кроме затянувшейся шутки
И соленых мужских разговоров,
Сердце вправду жаждало дружбы
И любви и всего такого.
Не выдавая стрижки короткой,
Фотографировались в фуражках
И обязательно со значками
И обаятельной улыбкой.
Некоторые знакомые дамы
Мне показывали со смехом
Твердые квадратики фото
С мягкими надписями на обороте.
Их ответов долго ждали,
Ждали и не дождались в части.
Там не любили писать повторно:
Не отвечаешь – значит, не любишь.
Впрочем, иные счастливые семьи
Образовались по переписке,
И, как семейная святыня,
Корреспонденция эта хранится:
В треугольник письма из части
Вложен квадратик о разводе
И еще один квадратик —
Фотографии твердой, солдатской.
БОЛЕЗНЬ
Досрочная ранняя старость,
Похожая, на пораженье,
А кроме того – на усталость.
А также – на отраженье
Лица
в сероватой луже,
В измытой водице ванной:
Все звуки становятся глуше,
Все краски темнеют и вянут.
Куриные вялые крылья
Мотаются за спиною.
Все роли мои – вторые! —
Являются передо мною.
Мелькают, а мне – не стыдно.
А мне – все равно, все едино.
И слышно, как волосы стынут
И застывают в седины.
Я выдохся. Я – как город,
Открывший врагу ворота.
А был я – юный и гордый
Солдат своего народа.
Теперь я лежу на диване.
Теперь я хожу на вдуванья.
А мне – приказы давали.
Потом – ордена давали.
Все, как ладонью, прикрыто
Сплошной головною болью —
Разбито мое корыто.
Сижу у него сам с собою.
Так вот она, середина
Жизни.
Возраст успеха.
А мне – все равно.
Все едино.
А мне – наплевать. Не к спеху.
Забыл, как спускаться с лестниц.
Не открываю ставен.
Как в комнате,
Я в болезни
Кровать и стол поставил.
И ходят в квартиру нашу
Дамы второго разряда,
И я сочиняю кашу
Из пшенного концентрата.
И я не читаю газеты,
А книги – до середины.
Но мне наплевать на это.
Мне все равно. Все едино.
БАЛЛАДА
В сутках было два часа – не более,
Но то были правильные два часа!
Навзничь опрокидываемый болью,
Он приподнимался и писал.
Рук своих уродливые звезды
Сдавливая в комья-кулаки,
Карандаш ловя, как ловят воздух,
Дело доводил он до строки.
Никогда еще так не писалось,
Как тогда, в ту старость и усталость,
В ту болезнь и боль, в ту полусмерть!
Все казалось: две строфы осталось,
Чтоб в лицо бессмертью посмотреть.
С тихой и внимательною злобой
Глядя в торопливый циферблат,
Он, как сталь выдерживает пробу,
Выдержал балладу из баллад.
Он загнал на тесную площадку —
В комнатенку с видом на Москву —
Двух противников, двух беспощадных,
Ненавидящих друг друга двух.
Он истратил всю свою палитру,
Чтобы снять подобие преград,
Чтоб меж них была одна политика —
Этот новый двигатель баллад.
Он к такому темпу их принудил,
Что пришлось скрести со всех закут
Самые весомые минуты —
В семьдесят и более секунд.
Стих гудел, как самолет на старте,
Весь раскачиваемый изнутри.
Он скомандовал героям: «Шпарьте!»
А себе сказал: «Смотри!»
Дело было сделано. Балладу
Эти двое доведут до ладу.
Вот они рванулися вперед!
Точка. Можно на подушки рухнуть,
Можно свечкой на ветру потухнуть.
А баллада – и сама дойдет!
«В поэзии красна изба – углами…»
В поэзии красна изба – углами.
Чтобы – четыре! И чтоб все – свои!
Чтобы доска не пела под ногами
Чужие песни, а пела бы мои.
То, что стоит – не шатко и не валко,
Из всех квартир единственное – дом! —
Воздвигнуто не прихотью зеваки,
Но поперечных пильщиков трудом.
Тот труд – трудней, чем пильщиков
продольных,
И каторжнее всех иных работ,
Зато достойным домом для достойных
Мой деревянный памятник встает.
Корней я сроду не пустил. Судьба.
Но вместо них я вколотил тесины.
Мой герб не дуб – дубовая изба!
Корчуйте, ежели достанет силы.
«Я не могу доверить переводу…»
Я не могу доверить переводу
Своих стихов жестокую свободу
И потому пройду огонь и воду,
Но стану ведом русскому народу.
Я инородец; я не иноверец.
Не старожил? Ну что же – новосел.
Я, как из веры переходят в ересь,
Отчаянно
в Россию перешел.
Я правду вместе с кривдою приемлю —
Да как их разделить и расщепить.
Соленой струйкой зарываюсь в землю,
Чтоб стать землей
И все же – солью быть.
М. В. КУЛЬЧИЦКИЙ
Одни верны России
потому-то,
Другие же верны ей
оттого-то,
А он – не думал, как и почему.
Она – его поденная работа.
Она – его хорошая минута.
Она была отечеством ему.
Его кормили.
Но кормили – плохо.
Его хвалили.
Но хвалили – тихо.
Ему давали славу.
Но – едва.
Но с первого мальчишеского вздоха
До смертного
обдуманного
крика
Поэт искал
не славу,
а слова.
Слова, слова.
Он знал одну награду:
В том,
чтоб словами своего народа
Великое и новое назвать.
Есть кони для войны
и для парада.
В литературе
тоже есть породы.
Поэтому я думаю:
не надо
Об этой смерти слишком горевать.
Я не жалею, что его убили.
Жалею, что его убили рано.
Не в третьей мировой,
а во второй.
Рожденный пасть
на скалы океана,
Он занесен континентальной пылью
И хмуро спит
в своей глуши степной.
КЛЮЧ
У меня была комната с отдельным ходом.
Я был холост и жил один.
Всякий раз, как была охота,
В эту комнату знакомых водил.
Мои товарищи жили с тещами
И с женами, похожими на этих тещ, —
Слишком толстыми, слишком тощими,
Усталыми, привычными, как дождь.
Каждый год старея на год,
Рожая детей (сыновей, дочерей),
Жены становились символами тягот,
Статуями нехваток и очередей.
Мои товарищи любили жен.
Они вопрошали все чаще и чаще:
– Чего ты не женишься? Эх ты, пижон!
Что ты понимаешь в семейном счастье?
Мои товарищи не любили жен.
Им нравились девушки с молодыми руками,
С глазами,
в которые,
раз погружен,
Падаешь,
падаешь,
словно камень.
А я был брезглив (вы, конечно, помните),
Но глупых вопросов не задавал.
Я просто давал им ключ от комнаты.
Они просили, а я – давал.
ЗЛЫЕ СОБАКИ
Злые собаки на даче
Ростом с волка. С быка!
Эту задачу
Мы не решили пока.
Злые собаки спокойно
Делают дело свое:
Перевороты и войны
Не проникают в жилье,
Где благодушный владелец
Многих безделиц,
Слушая лай,
Кушает чай.
Да, он не пьет, а вкушает
Чай.
За стаканом стакан.
И – между делом – внушает
Людям, лесам и стогам,
Что заработал
Этот уют,
Что за работу
Дачи дают.
Он заслужил, комбинатор,
Мастер, мастак и нахал.
Он заработал, а я-то?
Я-то руками махал?
Просто шатался по жизни?
Просто гулял по войне?
Скоро ли в нашей Отчизне
Дачу построят и мне?
Что-то не слышу
Толков про крышу.
Не торопиться
Мне с черепицей.
Исподволь лес не скупать!
В речке телес не купать!
Да, мне не выйти на речку,
И не бродить меж лесов,
И не повесить дощечку
С уведомленьем про псов.
Елки зеленые,
Грузди соленые —
Не про меня.
Дачные псы обозленные,
Смело кусайте меня.
«С Алексеевского равелина…»
С Алексеевского равелина[3]3
Алексеевский равелин – один из казематов Петропавловской крепости в Петербурге, где содержались политические заключенные.
[Закрыть]
Голоса доносятся ко мне:
Справедливо иль несправедливо
В нашей стороне.
Нет, они не спрашивают: сыто ли?
И насчет одежи и домов,
И чего по карточкам не выдали —
Карточки им вовсе невдомек.
Черные, как ночь, плащи-накидки,
Блузки, белые как снег[4]4
Подразумеваются народнические революционеры 60–90-х годов XIX в.
[Закрыть],
Не дают нам льготы или скидки —
Справедливость требуют для всех.
«Я строю на песке, а тот песок…»
Я строю на песке, а тот песок
Еще недавно мне скалой казался.
Он был скалой, для всех скалой остался,
А для меня распался и потек.
Я мог бы руки долу опустить,
Я мог бы отдых пальцам дать корявым.
Я мог бы возмутиться и спросить,
За что меня и по какому праву…
Но верен я строительной программе…
Прижат к стене, вися на волоске,
Я строю на плывущем под ногами,
На уходящем из-под ног песке.








