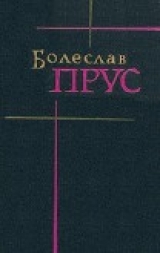
Текст книги "Том 2. Повести и рассказы"
Автор книги: Болеслав Прус
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 43 страниц)
– Побойся бога, человече! – всполошился бургомистр. – Не губи ты нашей почтенной и столь гостеприимной хозяйки! – Он указал на мою мать.
Но мать беспечно махнула рукой.
– Э, пусть делают, что хотят. Только одно утешение нам и осталось – послушать иной раз хорошую песню.
– Вас-то, может, и не тронут, – сказал бургомистр. – Но здесь присутствует его преподобие, он – лицо официальное…
– Я боюсь только одного бога, – буркнул ксендз.
– Наконец, здесь я, бургомистр! И если я пострадаю, кто заменит моим детям отца?
– Ну, ну, бояться нечего, – сказал ксендз. – Никогда я не замечал, чтобы тот подслушивал под окнами.
– Ему нет надобности ходить под окнами – ведь его дом в трех шагах отсюда, – не сдавался расстроенный бургомистр.
– А до почты от его дома только верста и двести саженей, – вставил почтмейстер.
– Так ты хотя бы пой тихонько, не ори во все горло, – сказал бургомистр кассиру.
– Что за выражения, папа! – возмутилась старшая дочь бургомистра. – Ну, можно ли говорить так про это чудное пение?
– Видно, наш пан бургомистр метит уже в уездные начальники, – съязвил кассир. – Не бойтесь, не бойтесь! Если кому суждено пасть жертвой, то прежде всего мне…
– И падешь и падешь! – горячился бургомистр. – Это самый отчаянный революционер во всем городе! – тихо сказал он ксендзу.
Довольный публичным признанием его революционных заслуг, кассир вытянул ноги так, что они казались еще тоньше обычного, и, вперив взор в старшую дочку бургомистра, запел вполголоса:
Бегут разбитые мавров отряды,
Народ их в цепи повязан.
Еще стоит твердыня Гренады,
Но косит Гренаду зараза.
Еще в Альпухаре последние силы
Сплотились вокруг Альманзора…[8]8
Бегут разбитые мавров отряды… – слова из поэмы А.Мицкевича «Конрад Валленрод», посвященной теме борьбы за родину. (Перевод Н.Асеева.)
[Закрыть]
– Чудесно! – воскликнули хором панны, глядя на вращавшего глазами кассира.
– Кто это сочинил? – с беспокойством осведомился бургомистр.
– Мицкевич, – отвечал кассир.
– Ми-цке-вич?! Ну, уж извините, я ухожу! – Бургомистр ударил себя в грудь. – Мне еще слишком много нужно сделать для родины, и я не хочу сгинуть из-за каких-то стишков.
– А что вы видите опасного в этой песне? – с сердцем спросил ксендз.
– Что? Да вы это знаете не хуже меня, – отрезал бургомистр. – А мотив? Да если бы эту мелодию заиграл военный оркестр, так я бы первый вышел на площадь в алой конфедератке. Да! И пусть бы меня тогда расстреляли, зарубили, растоптали…
– С ума ты сошел, Франек?! – воскликнула жена бургомистра.
– Да, таков уж я! – не слушая ее, кричал раскипятившийся бургомистр. – Если, не дай бог, будет война, все наши здешние удальцы разбегутся по углам. А я покажу, на что я способен.
– Полно, Франек! Да ты не в себе, право! – унимала его жена.
– Не беспокойся, я в полном рассудке. И хочу, чтобы все вы знали, до чего я могу дойти, когда меня разозлят! Я – как бомба: пока она лежит спокойно, ее хоть ногой пинай – и ничего. Но стоит искре ее коснуться, и… спасайся, кто может!
Говоря это громко и взволнованно, бургомистр волчком вертелся между стульями. Но, насколько мне помнится, его грозное мужество не произвело на присутствующих никакого впечатления. Ксендз все помахивал рукой около уха, а кассир небрежно бренчал что-то на гитаре, словно в такт выкрикам бургомистра. Только моя мать одобрительно кивала головой, а заплаканная майорша, кажется, задремала под бурный поток его слов.
– Однако, господа, пора и по домам, – сказал почтмейстер. – Десять часов.
– Неужели? – удивился кассир. Для него, когда он пел, время летело незаметно.
Словно в ответ, кукушка на часах прокуковала десять раз. Дамы пришли в ужас, узнав, что уже так поздно, и дружно собрались уходить.
Когда няня уложила меня и погасила свечу, передо мной снова, как на яву, встало все, что происходило в гостиной сегодня вечером: я увидел подвижную фигурку пана бургомистра, и желтые ленты на чепце майорши, и почтмейстера, и секретаря, и всех панн. Гости шумно суетились, разговаривали, пели, а бургомистр пугал их своей отчаянной смелостью, кассир играл на гитаре, все было совсем как в действительности, но с той только разницей, что среди гостей я видел какую-то тень, – должно быть, это был тот человек, кого секретарь тщетно искал во дворе под окном. Я хотел указать на него матери, но не в силах был поднять руку. А тень между тем сновала и сновала по комнате, бесшумная, неуловимая, и никто, кроме меня, не замечал ее.
Потом все исчезло, а когда я открыл глаза, то увидел у печки няню Лукашову, которая, улыбаясь беззубым ртом, говорила:
– Ага, проснулся! Небось уже новые проказы на уме!
Было утро. Я и не заметил, как уснул вчера и проспал всю ночь после веселого вечера.
В середине марта был мой день рождения, мне пошел восьмой год. За неделю перед тем сапожник Стахурский снимал с меня как-то утром мерку, чтобы сшить мне первые сапоги. И как раз в ту минуту, когда я снял с ноги башмак, чтобы подвергнуться этой операции, к нашему дому подкатил почтовый возок, и из него вылез какой-то юноша, который, как оказалось, привез маме письмо от моего старшего брата.
Фамилии приезжего я так и до сих пор не знаю, а звали его Леон. Это был юноша лет двадцати, писаный красавец, веселый и удивительно приветливый – он так и льнул ко всем. У мамы он при первой встрече поцеловал обе руки и так много рассказал ей о брате, что она пригласила его погостить у нас несколько дней. Не успел еще пан Стахурский снять с меня мерку на сапоги, как приезжий уже подружился с ним, да так крепко, что обещал даже побывать у него в мастерской. Затем Леон отправился в братнину комнату в мансарде и за несколько минут, видимо, успел очаровать Лукашову, которая отнесла туда его чемодан, – няня моя целый день не переставала говорить о молодом госте. Пану Добжанскому, когда он пришел на урок, Леон поднес неслыханно дорогую сигару, мне, пока я занимался, выстругал из дерева ветряную мельницу, а маме открыл секрет приготовления домашнего пива.
После обеда наш гость ушел в город и вернулся только поздно вечером. Так было все время, пока он жил у нас. Мы видывали его редко и мельком, но, несмотря на это, он оказывал всем столько услуг, что все мы просто обожали его. Только маме не очень-то нравилось, что он запанибрата с такими людьми, как сапожник Стахурский, столяр Гроховский и колбасник Владзинский. Но мой учитель объяснил ей, что поскольку молодой человек приехал сюда разведать, нельзя ли будет в нашем городе открыть бакалейную лавку, ему нужно заручиться расположением даже и людей низкого звания.
Удивление матери еще возросло, когда в день моего рождения у нас собрались гости и вдруг оказалось, что пан Леон уже ранее со всеми успел перезнакомиться. Бургомистр обещал ему свое покровительство, когда он откроет здесь лавку, а почтмейстер даже хотел сдать ему внаем две комнаты в своем доме. С секретарем магистрата и письмоводителем почтового отделения Леон был уже на «ты», а обе внучки майорши краснели, когда он заговаривал с ними. И только с кассиром у Леона отношения не наладились: оба как-то косо поглядывали друг на друга.
Танцев у нас в тот день не затевали, но кассир пришел с гитарой и, как всегда, играл и пел. Одна из панн спросила у Леона, поет ли он. Галантный юноша тотчас взял гитару, но запел что-то такое печальное, что бургомистр сбежал при первых же звуках песни и больше не вернулся, все дамы прослезились, а кассир даже позеленел от зависти. На другое утро Леон уехал, сказав маме, что ему нужно побывать еще в других городках и поискать для своей будущей лавки наиболее подходящее место.
Он заезжал к нам еще раз – это было как-то в субботу, в конце апреля. Маме он привез письмо от брата и поваренную книгу, пану Добжанскому – пачку табаку, а мне – преотличную жестяную саблю. Он сказал, что, вероятно, в ближайшее время решится вопрос о лавке, но ему еще надо как следует ознакомиться с районом. Потом он ушел из дому, чтобы увидеться со всеми знакомыми, и вернулся только к ночи.
На другой день, в воскресенье, мы пошли к поздней обедне. Я сидел с матерью перед большим алтарем, рядом с семьей бургомистра и майоршей, а в нескольких шагах от нас стоял кассир, углубившись в чтение молитвенника.
Служба кончилась, и мы собрались уходить, как вдруг из толпы на середину костела вышли сапожник Стахурский, столяр Гроховский и колбасник Владзинский, а за ними их подмастерья и ученики. Были тут и писарь почтового отделения, и секретарь магистрата. Когда ксендз благословил народ, Стахурский сделал знак органисту. В костеле наступила тишина и…
Что было дальше, я не помню, – от жары и давки я так ослабел, что мама поспешила унести меня из костела в квартиру ксендза. Тут мы застали кассира, он бегал по комнатам, рвал на себе волосы и клялся, что он ни в чем не виноват. Маму он попросил, чтобы она в случае чего удостоверила, что он первый убежал из костела.
Дома нас ждал Леон. Мама рассказала ему, что произошло в костеле, и он очень удивился. Сказал, впрочем, что такие вспышки бывают повсюду, возникая как-то стихийно. Затем объявил, что ему сразу после обеда нужно ехать дальше, посетить еще несколько местечек и окончательно проверить, где выгоднее всего открыть лавку.
Необычайное поведение кассира в доме ксендза на время пошатнуло его репутацию, тем более что наш герой с того дня не надевал больше алой конфедератки и ходил в своем старом чиновничьем фраке с желтыми пуговицами. К счастью, это длилось недолго. Ибо наш бургомистр, сопоставив в уме множество подробностей, пришел к выводу, что происшествие в костеле – дело рук кассира, и этот человек тем опаснее для общественного спокойствия, что ловко разыгрывает из себя невинного. В городе этому поверили, так как кассир уже снова ходил с таинственной и важной миной, а Стахурский, Гроховский и Владзинский отзывались о нем на людях весьма пренебрежительно. Всем теперь было ясно, что сей агитатор, чтобы отвлечь от себя подозрения, дал своим подчиненным соответствующие инструкции.
И такое общественное мнение вполне подтверждал один факт, который мне пришлось увидеть воочию.
Однажды моя мать попросила пана Добжанского пойти со мной в центр города – купить бумаги, перьев и карандаш. На рыночной площади мы увидели толпу ремесленников, евреев и пожилых горожан, которые что-то оживленно обсуждали. А неподалеку от толпы, около магистрата, стоял кассир.
Сделав все покупки, мы уже собирались идти домой, как вдруг на площади поднялся громкий галдеж. Я выбежал из лавки и увидел высокого старика, который выходил из булочной с хлебом под мышкой. Компания подростков, с криками окружив этого человека, принялась швырять в него камнями и комьями земли. В первую минуту старик остановился, но когда в него угодило несколько камней и слетела с головы шапка, он уронил хлеб и бросился бежать. Его белые, как молоко, волосы и старчески неловкие движения болью отозвались в моей душе. Вспомнились те мучительные ночи, когда мне снилось, что за мной кто-то гонится, а я не могу убежать.
В этот миг за моей спиной кто-то глухо вскрикнул: мой учитель вышел из лавки и, побледнев до желтизны, широко открытыми глазами смотрел вслед бегущему.
Шум утих, запыхавшиеся мальчишки вернулись на площадь, а пан Добжанский все еще не двигался с места и смотрел куда-то в пространство безжизненным взглядом. Тут только его увидел кассир и зашагал к нам. Лицо его сияло таким удовлетворением, что я забыл о несчастном обиженном старике.
– Здравствуйте, пан Добжанский. Что, ловко проделано? – тихо сказал кассир моему учителю.
Учитель ничего не отвечал.
– Это я устроил, – шепотом продолжал кассир, тыча себя пальцем в крахмальную манишку. – Да, я! Так следует карать предателей.
– Ага, так это ваших рук дело? – глухо отозвался наконец учитель.
– Моих! Теперь узнают люди, кто у нас пользуется влиянием.
Пан Добжанский подобрал с земли бумагу, трость и, уходя, произнес каким-то странным тоном:
– О да, вы многого достигли!
А про себя буркнул:
– Ну, конечно, я так и знал!
Проводив меня до дома, учитель отдал мне бумагу и ушел. Когда я рассказал матери о том, что случилось, она печально покачала головой и сказала:
– Да, страшное это несчастье, не дай бог никому дожить до этого!
Но только от Лукашовой я узнал, что толпа преследовала того самого дурного человека, который живет в хате за нашим полем.
Я заметил, что с этих пор пан Добжанский стал мрачен, на уроках рассеян и часто с горечью говорил что-то моей матери о кассире. А раз даже, когда в его присутствии бургомистр пел дифирамбы кассиру, называя его тонким политиком и опасным агитатором, старый учитель стукнул кулаком по столу и гневно крикнул:
– А я вам говорю, что он – болван!
– Кто болван? – спросил изумленный бургомистр.
– Да ваш хваленый кассир.
– Как? Этот великий патриот?
– Великий пустозвон, вот он кто!
– Да он весь город расшевелил! – горячился бургомистр.
– Кошачьи концерты – вот единственное, к чему он способен, – отрезал пан Добжанский.
– Он на всех нас может беду навлечь, – продолжал бургомистр.
– Так вы скажите ему, чтобы угомонился, не то я ему палкой ребра посчитаю, хоть я и старик! – дрожа от гнева, крикнул учитель.
Бургомистр, онемев, пристально смотрел на мою мать, словно ожидая, не заступится ли она за кассира. Но мама только головой качала, – наверное, сожалея об ослеплении учителя, не сумевшего оценить столь выдающегося революционера и патриота.
Постепенно и незаметно в моем воображении создался смутный образ человека из хаты за полями. Враждебные замечания няни, опасение бургомистра, что он подслушивает под окнами, травля этого старика на рынке, а более всего странное поведение пана Добжанского и молчание моей матери – все рождало в уме моем тысячи вопросов. Кто он и что делает, почему его преследуют, как опасного зверя? Если мальчишкам дозволяется швырять в него камнями, то это, видно, дурной человек. Но почему же в таком случае взрослые не посадят его в тюрьму?
Чем чаще я думал о старике, тем сильнее боролись во мне два чувства – страх и любопытство, мучившие меня нестерпимо. Как только выдавалась свободная минута, я, вооружившись своей саблей, крался к уединенной хате. Правда, вначале у меня и в мыслях не было подойти к ней близко, но что-то влекло меня в ту сторону. Я перелезал через плетень нашего сада, добирался до ольховой рощи, а позднее стал уже и переходить через болото, бродил между кустов, росших вокруг хаты. Порой сознание, что я так близко к этому опасному человеку и так далеко от дома, заставляло меня цепенеть от ужаса, и я бежал обратно в город, к людям. Но постепенно я освоился с новыми местами, и мне из любопытства все сильнее хотелось заглянуть в одинокую хату.
С каждым днем я ближе знакомился с нею. Стояла она в пустынном месте – отсюда было шагов двести, а то и триста до проселка, пересекавшего поля. Вокруг хаты рос густой и высокий кустарник, кишевший птицами и их гнездами, окружали ее и глубокие, заросшие лесом овраги с крутыми изрытыми склонами. Частенько бывало, что над головой моей прошумит стая куропаток или из-под самых ног выскочит заяц. В сырых ложбинах попадались ужи, а на склонах оврагов темнели отверстия лисьих нор. Держась на некотором расстоянии от хаты, я однажды обошел ее кругом. В одном месте меня испугал какой-то тихий, неумолчный шелест. С бьющимся сердцем подкрался я ближе и увидел ручей, быстро бежавший по камешкам.
Хотя было страшновато, я подошел еще на десяток шагов. Стенки оврага в этом месте все снижались, пока не исчезли вовсе. Я дошел до небольшой впадины, откуда брал начало ручей, – здесь вода кипела, как на огне. Вокруг рос коровяк, такой высокий, что закрывал меня с головой. Я крепко сжал в руке саблю, готовый при малейшем шуме обратиться в бегство, и нырнул в чащу высоких стеблей. Немного дальше заросли коровяка были пониже, и, подняв голову, я увидел хату. Она стояла на каменистом пригорке, облитая горячими потоками солнечного света. У порога было свалено много и начатых, и уже готовых корзин, а среди них прохаживался хромой аист. Со стен хаты давно облупилась известка, и щели между досками были замазаны глиной, а в оконцах кое-где вместо стекол натянуты бычачьи пузыри.
На почерневших от времени дверях белела какая-то надпись большими буквами, уже несколько стершаяся. Я всмотрелся внимательнее и прочел слово «Шпион». В эту минуту аист заметил меня и, опустив крылья, сердито зашипел. Я помчался прочь как угорелый и через несколько минут был уже среди хорошо знакомых кустов. Скоро я вернулся домой и ни перед кем не стал хвалиться своим подвигом. Так никто и не узнал, где я был и что видел. А я больше и не ходил в ту сторону.
Прошло полтора года. Наступила зима. Она была короткая, но жестокая. В ноябре уже ударили сильные морозы, а в декабре выпал такой обильный снег, что вокруг нашего дома сугробы стояли, как сплошной белый вал, и наш работник нередко до полудня трудился, прокапывая между ними дорожку.
Однажды поднялась страшная вьюга. Пан Добжанский ни утром, ни днем не пришел на урок, да и от нас никто не ходил в город. Вой ветра слышен был во всем доме, мелкий снег засыпал огонь на кухне, в воздухе стоял белый туман. В четвертом часу уже стемнело, ветер выл все жалобнее, снег сильнее бил в окна. По временам все затихало, тучи раздвигались, мгла рассеивалась, и тогда видно было, что снег лежит уже выше заборов.
В такую именно минуту я смотрел через окно на улицу и вдруг увидел за стеклами какую-то фигуру. Вгляделся, – на скамье под окном сидел человек, свесив голову на грудь. Он был весь в снегу, на шапке и плечах снег лежал горками.
У меня сердце сжалось. Я побежал на кухню сказать матери, что у нашего дома снегом заносит прохожего. Мать сперва не поверила, но, выглянув в окно, велела Валеку поскорее привести беднягу на кухню.
– А, может, он уже замерз? – с беспокойством спрашивал я, уцепившись за складки материнской юбки.
Но через несколько минут в сенях послышались шаги, шорох – там, видно, кто-то стряхивал с себя снег. И в кухню вошел Валек, а за ним – прохожий.
Это был человек огромного роста в коротком заплатанном полушубке и высоких сапогах. Он снял шапку, открыв белоснежную седину. Медленно вышел на середину кухни и стоял молча.
Кухарка сунула в печь лучину. Огонь вспыхнул ярче и осветил лицо старика. В ту же минуту мать отступила к двери в столовую, а старая Лукашова, присмотревшись к гостю, сердито проворчала:
– Этого только не хватало… Еще беду накличет на нас, проклятый!
Сейчас и я узнал его. Это был тот, кого ненавидели и боялись все в нашем местечке, обитатель уединенной хаты.
Он заметил, какое произвел впечатление, и, обратясь к моей матери, сказал тихо:
– Не гневайтесь, пани, что сел у вашего дома. Вьюга последние мои силы измотала, и я не мог идти дальше. Закоченел весь…
Было что-то глубоко трогательное в словах этого человека, который извинялся в том, что в такую страшную метель сел на скамью у чужого дома.
Мама смотрела на него, словно раздумывая. И вдруг сказала кухарке тоном суровым и решительным:
– Катажина, налейте пану горячего молока.
Посетитель все стоял и смотрел на мать голубыми, кроткими глазами.
– Живей! – уже гневно добавила мать, видя, что ее приказ не спешат выполнить.
Молоко, уже вскипяченное, стояло на печке. Кухарка сняла с полки старый горшочек и наполнила его нехотя, рывком, так, что немного молока выплеснулось на пол.
– Подайте молоко пану, Лукашова, – сказала мать няне.
– Только не я, – отрезала та. – Пусть Валек подаст.
– А мне что, жизнь не мила? – буркнул парень.
– Подай, Валек, слышишь? – сказала мама.
– Ишь, трусит – вот так мужчина! – пристыдила его нянька.
Парень медленно взял в руки горшочек и, поставив его на лавку, сказал старику:
– Нате!
Потом ушел в самый дальний угол кухни и, хмурясь, сел там на чурбан.
Снег по-прежнему сыпал за окном, и в печи ветер временами гасил огонь.
Старик, пошатываясь, подошел к лавке и стал пить горячее молоко. Мама увела меня в столовую, а за нами поплелась и Лукашова, бормоча:
– Что же, он здесь ночевать вздумал? Ведь вы, пани, не выгоните для него в такую погоду даже пса из будки, а люди с ним под одной крышей спать не захотят… Такой уж это человек, – добавила она, помолчав. – На кого глянет, тому несчастье принесет. Даже дерево засыхает, если он до него дотронется. Господь его проклял, а люди… что же люди против этого могут сделать?
Мать, скрестив на груди руки, в волнении ходила по комнате. Слышно было, как в кухне трещат дрова в печи и чмокает губами старик, – он дул на молоко и жадно пил.
Неожиданно с улицы в комнату проник луч света и одновременно мы услышали громкий голос:
– Гей! Гей! Отзовитесь!
– Это мой хлопец, – сказал старик на кухне.
Валек выбежал во двор и после короткого разговора привел нового гостя. В руках новоприбывший держал зажженный фонарь и весь с головы до ног был облеплен снегом. Пока он отряхивался, я успел разглядеть, что волосы спутанными космами закрывают ему лоб и часть лица, а одет он в ужаснейшие лохмотья. Никогда ни на ком я не видел такого тряпья, обвязанного в поясе и на ногах толстыми веревками.
– А я уже думал, что вас замело, – сказал этот оборванец старику и захохотал густым басом.
– Не знаешь, Валек, кто он такой? – шепотом спросила кухарка, брезгливо поглядывая на нового гостя.
– Как не знать? Все знают, что он собак ловил в городе, – так же тихо ответил ей наш работник.
Старик беспокойно топтался на месте, видимо, собираясь уходить. Он сложил руки на груди и с поклоном сказал:
– Покорно благодарю.
Не дождавшись ответа, он вторично поклонился и добавил глухо:
– Слава Иисусу Христу.
Никто и на этот раз не откликнулся.
На пороге старик еще раз оглянулся – и скрылся в темных сенях, а за ним его «хлопец».
В кухне было так тихо, как будто все притаили дыхание, чтобы уходивший не услышал человеческого голоса.
Когда мимо окон столовой промелькнул удалявшийся свет фонаря, мать вышла на кухню и, указав на горшочек, из которого пил старик, сказала Валеку:
– Выбрось!
Работник осторожно вынес горшочек во двор и швырнул с такой силой, что осколки зазвенели под самым хлевом.
На улице еще мелькал, удаляясь, дрожащий красноватый огонек фонаря. Слезы душили меня, а ветер снаружи так стонал, так выл, стучась к нам в окна, словно хотел что-то сказать, но не мог и жаловался на это своим протяжным воем. «Господи, что же это такое творится!» – думал я. Передо мной неотвязно стоял образ старика, и его кроткие глаза смотрели на меня с упреком. Я словно видел, как он, пряча руки в рукава, идет через поле, где замело дорогу, идет неверными шагами, выгнанный на мороз в такую метель… А этот его товарищ в лохмотьях!
Спустя несколько часов, когда я уже прочитал молитву перед сном и молитву богородице за тех, кого в пути застигла непогода, я спросил у матери:
– А правда это, мама, что, если путников застигнет вьюга, им стоит помолиться – и бог посылает ангела указать им дорогу?
– Правда, дитятко.
– И ангел идет впереди лошадей, и они даже без кучера сами находят дорогу домой?
– Да, сынок.
– А если бы тот старик заплутался, разве по его молитве бог не послал бы ему ангела?
– Господь милосерден, Антось, и заботится о самых дурных людях.
Я лег уже несколько успокоенный и без тревоги прислушивался к шуму ветра. Мне казалось, что в эту ночь бог не спит и, наклонясь с неба к земле, где бушует метель, время от времени раздвигает снежные тучи, чтобы увидеть, не блуждает ли где в поле путник, которому надо послать на помощь ангела. Я даже готов был поклясться, что по временам среди шума ветра, скрипа деревьев и стука метавшихся от ветра ставень ясно слышу мощный и властный голос, приказывающий: «Вставай, ангел!» После этого на земле наступала тишина.
– Со стариком ничего не случится, – сказал я себе и крепко уснул.
Новый год начался очень хорошо. Учитель в первый раз вручил мне «табель успеваемости» на красивой бумаге, окаймленной гирляндой цветов. В табеле этом он поставил мне по всем предметам отличные отметки, написал, что поведение примерное и что я переведен в следующий класс. В награду за это мама заказала для меня санки.
Санки были совсем маленькие, но как я тешился ими! Сразу за нашими сараями высился пригорок. На его верхушке я ставил санки, садился на них – и вниз! С полдороги я уже слышал только свист ветра в ушах и дальше мчался так быстро, что вихрем слетал в открытое поле внизу. В первый раз все у меня шло хорошо, а во второй (сам не знаю, почему так вышло!) я, съезжая с пригорка, вдруг почувствовал, что еду не на санках, а на собственной голове, потом снова очутился на санках, через минуту – опять на голове и так уже до самого низу, где я наконец отпустил санки и они умчались в поле, а я по пояс провалился в сугроб. Вообще, вначале санки мои ездили на мне не реже, чем я на них. Зато позднее я научился ими управлять так ловко, что не раз предлагал маме прокатить ее. Но у нее никогда не было времени.
Однажды, когда я катался, на горку пришла моя няня. Я схватил ее за шиворот, чтобы силой усадить на санки и съехать вниз. Но она сердито вырвалась и сказала:
– Все только шалости у тебя на уме! А уж сегодня надо бы угомониться.
– Почему сегодня? – спросил я, удивленный ее тоном.
– Пришли вести, что война…
– Война? – переспросил я. – Война?
Я закинул санки за плечи и пошел домой. Это слово «война» всегда означало для меня что-то очень далекое и древнее. Но сейчас оно обрело какой-то новый смысл, мне совершенно неясный.
Проходя мимо овина, я заметил, что работники не молотят, а сидят и толкуют о войне. У меня даже застряли в памяти слова Валека:
– Кому Иисус милосердный судил смерть, тот и так помрет, а кому суждено жить, тот и на войне цел будет.
На кухне стряпуха, вздыхая, объясняла девушкам, что ее войной не удивишь, потому что она вот уже несколько лет как видит на небе знамения – красные, как кровь, столбы и огненные ветви.
– Знаю я, что такое война, – говорила она. – Я служила когда-то в местечке у гуменщика Мацея, а он в двенадцатом году ходил с французами. Ох, сколько же он нам про это рассказывал, Мацей-то!.. Верите ли, часто бывало, что у врагов войско как лес, а француз придет, замахнется – и нет уж вражеского войска: все полегли, как снопы, когда воз опрокинется.
– Ох, Иисусе! – шепнула одна из девушек.
– И уже не вставали? – спросила няня Лукашова.
– Как же они могли встать, если все убитые? – возразила кухарка.
– И сколько людей загубили эти войны! – вздохнула няня.
– А на нынешней наверняка еще больше сгинет, – заключила кухарка. – Мацей сказывал, что когда француз идет воевать один, так и то уж беда, а когда идет вместе с нашими, – тут жди беды вдвое.
В гостиной уже были гости. Из-за приоткрытой двери спальни я увидел там пана Добжанского, бургомистра и ксендза, они о чем-то бурно спорили, и как раз в эту минуту бургомистр кричал:
– Глупо рваться в бой с такими силами. Будь у нас хотя бы сто тысяч солдат, я первый пошел бы воевать. Но при нынешних условиях…
– Ну, французы найдут и больше солдат, – вставил ксендз.
– Да, найдут для себя, но не для нас…
Учитель расхохотался.
– Я знал, – сказал он, махнув рукой, – что пан бургомистр – красный… за рюмкой крупника! А если будет война, у вас только воротник будет красный.
– Что за вздор вы мелете! – крикнул бургомистр, стуча кулаками по столу. – Французы захотят нам помогать? Нет, они еще с ума не сошли.
– А вот вы уже, кажется, сошли, – с усмешкой бросил учитель.
С минуту они смотрели друг на друга воинственно, как два петуха. Бургомистр даже побагровел, а учитель с трудом переводил дух.
– Позвольте, позвольте. – Ксендз встал между ними. – Пан Добжанский, успокойтесь! А вы, пан председатель, вспомните – вам ничего не говорит пятьдесят девятый год и Италия?
– Италия лежит рядом с Францией, – возразил бургомистр. – Я знаю географию.
– Она – рядом. А мы лежим на сердце у Франции! – крикнул учитель.
– Вы-то у нее в желудке, – фыркнул бургомистр.
Учитель рванулся к нему.
– Будет тут какой-то… председателишка… оскорблять меня дурацкими остротами!
– Преподобный отец, скажите вы этому учителишке… – пыхтел, отступая, бургомистр.
– На ярмарке вам порядок наводить, а не о политике рассуждать! – вопил учитель.
Бургомистр развел руками.
– Богом клянусь, я вызову этого книжного червя на дуэль!
– Вот и отлично! – подхватил учитель. – Вспомню старину, поупражняюсь в фехтовании на вашей шкуре.
Тут ксендз и молчавшая до сих пор мама бросились их разнимать.
– Полно вам, пан бургомистр!
– Что вы это, пан Добжанский!
– Зарублю! – наскакивая на бургомистра, грозил учитель.
– Увидим! – отвечал тот грозно.
– В такое время раздоры! Опомнитесь, господа, – умоляла их мама.
– Нельзя мириться со скандалистами! – твердил бургомистр, ища свою шапку.
– Таких мы первым делом выметем из наших рядов, – сказал учитель, направляясь к двери.
– Ах вы старые младенцы! – загремел ксендз, потрясая кулаками. – Буяны! Пустые болтуны! Если в каждом доме нашей страны есть хотя бы один такой, как вы, то вас не только французы – вас даже господь бог не спасет, потому что вы сами друг друга поубиваете.
Противники уже искоса поглядывали друг на друга.
– Не моя вина, что пан Добжанский не владеет собой, – проворчал бургомистр.
– С нашим председателем все диспуты кончаются именно так, – отпарировал учитель. – Вместо того чтобы хладнокровно обсудить положение, он кипятится…
Он достал из кармана клетчатый платок, чтобы утереть потное лицо, а затем, машинально, вытащил и табакерку.
– Каждое суждение содержит в себе долю истины, но есть в нем и кое-что неверное, поэтому люди и спорят, – сказал ксендз. – Но чтобы в такое время разница мнений порождала ненависть и мстительность – это неслыханно!
– Я человек не мстительный, это все знают, – сказал бургомистр.
– А я в такой момент не хочу раздоров, – отозвался учитель и взял понюшку табаку.
– Ну, так пожмите же друг другу руки – и будем все заодно! На горе или счастье – вместе!
– Мои дорогие! – воскликнула и мама, насильно подтолкнув руку бургомистра к табакерке учителя.
– Что ж, пусть будет мир, – пробормотал учитель и, подав бургомистру один палец, попотчевал его затем табаком.
– Каждый останется при своем мнении, – сказал и бургомистр, из вежливости взяв щепотку табаку и сунув ее себе под нос.
– А французы все-таки придут! – буркнул учитель.
– Да, в качестве гувернеров, – возразил бургомистр.
В эту минуту я настолько высунулся из-за двери, что мама меня увидела. Она поспешно вошла в спальню и, подталкивая меня к другой двери, зашептала:
– Ты чего тут стоишь? Ступай сейчас же на ту половину.
– Я пойду на войну! – объявил я и большими шагами заходил по комнате.
У меня уже вылетели из головы и санки и каток. Вытащив из-за шкафа мою жестяную саблю, я велел принести себе оселок и принялся ее точить. Настроен я был весьма воинственно и, когда Лукашова осмелилась пошутить над моим вооружением, я так стукнул старушку саблей по руке, что у нее выступил синяк.







