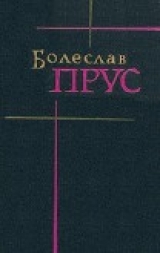
Текст книги "Том 2. Повести и рассказы"
Автор книги: Болеслав Прус
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 43 страниц)
Болеслав Прус
Повести и рассказы
― ЖИЛЕТ ―{1}
Существуют люди, питающие страсть к собиранию редкостей – более или менее ценных, в зависимости от их средств. У меня тоже имеется такая коллекция, но скромная, как это обычно бывает вначале.
В нее входит моя первая драма, написанная в гимназии на уроках латыни… затем несколько засушенных цветочков, которые придется заменить новыми, затем…
Кажется, больше ничего и нет, кроме одного очень старого и ветхого жилета.
Вот он. Перед у него выцвел, а спина протерлась. Он весь в пятнах, на нем недостает пуговиц, а на одной поле у него дырочка – по всем признакам, прожженная папиросой. Но всего любопытнее в нем – хлястики. Тот, к которому прикреплена пряжка, укорочен и пришит к жилету совсем не по-портновски, а второй чуть не по всей длине исколот зубчиками пряжки.
Едва взглянув на них, догадываешься, что владелец этого одеяния день ото дня худел и, наконец, достиг той степени худобы, когда жилет становится ненужен, зато появляется настоятельная необходимость в застегивающемся под самую шею фраке из магазина похоронных принадлежностей.
Признаться, сейчас я охотно уступил бы любому эту суконную тряпку, которая мне даже немножко мешает. Шкафов для коллекции у меня пока еще нет, а держать этот многострадальный жилет вместе со своими вещами мне не хочется. Однако было время, когда я отдал за него значительно больше, чем он стоил, и, пожалуй, заплатил бы еще дороже, если бы со мной поторговались. В жизни человека бывают минуты, когда ему хочется видеть вокруг себя вещи, навевающие печальные воспоминания.
Печаль свила себе гнездо не у меня, а в квартире моих ближайших соседей. Из своего окна я мог изо дня в день наблюдать за тем, что происходило у них в комнате.
Еще в апреле их было трое: муж, жена и девочка-служанка, спавшая, насколько мне известно, на сундуке за шкафом. Шкаф был темно-вишневый. В июле, если мне не изменяет память, их осталось двое: муж и жена, а служанка перешла к другим хозяевам, которые платили ей целых три рубля в год и каждый день варили обед.
В октябре осталась только женщина, совсем одна. Собственно, не совсем одна, потому что в комнате было еще много мебели: две кровати, стол, шкаф… Но в начале ноября распродали с молотка ненужные вещи, а у нее из всего мужнина наследства сохранился только жилет, который теперь принадлежит мне.
Однажды, в конце ноября, она позвала в опустевшую квартиру старьевщика и продала ему за два злотых свой зонтик и за сорок грошей мужнин жилет. Затем она заперла квартиру на ключ, медленно прошла по двору, в воротах отдала дворнику ключ, с минуту глядела на усыпанное мелкими снежинками окно, уже ставшее чужим, и скрылась за воротами.
Старьевщик был еще во дворе. Он поднял большой воротник своего балахона, сунул под мышку только что купленный зонтик и, закутав в жилет покрасневшие от холода руки, забормотал:
– Старье покупаю, старье!..
Я позвал его.
– Желаете что-нибудь продать? – спросил он, входя.
– Нет, я хочу у тебя кое-что купить.
– Вероятно, сударь, вам нужен зонт? – решил еврей.
Он швырнул на пол жилетку, стряхнул с воротника снег и с огромным усилием попытался раскрыть зонт.
– Неплохая штука! – приговаривал он. – Для такого снега нужен только такой зонт… я знаю, сударь, вы можете иметь совсем шелковый зонт, даже два. Но они хороши только в летнюю пору!..
– Сколько ты просишь за жилет? – спросил я.
– Какой жилет? – удивился он, вероятно подумав, что речь идет о его собственном.
Но вдруг он сообразил, о чем я говорю, и быстро поднял валявшуюся на полу тряпку.
– За этот жилет?.. Вы, сударь, имеете в виду этот жилет?..
А потом, видно, в нем проснулось подозрение, и он спросил:
– Зачем вам, сударь, такой жилет?..
– Сколько ты за него просишь?
Желтоватые белки его глаз сверкнули, а кончик длинного носа покраснел еще сильнее.
– Да рублик… сударь! – объявил он, развернув передо мной товар таким образом, чтобы показать все его достоинства.
– Даю полтинник.
– Полтинник?.. За такую одежку?.. Как можно! – тянул старьевщик.
– Ни гроша больше.
– Да вы шутить изволите, сударь!.. – сказал он, похлопывая меня по плечу. – Сами ведь знаете, сколько такая вещь стоит. Ведь это одежка не для малого ребенка, а для взрослого человека…
– Ну, если не уступишь за полтинник, так ступай. Дороже я платить не стану.
– Вы, сударь, не сердитесь! – смягчился старьевщик. – Совесть мне не позволяет отдать за полтинник, но я полагаюсь на ваше разумение… Скажите сами, чего он стоит, и я не буду спорить… Уж коли на то пошло, лучше я потерплю убыток, лишь бы вам угодить.
– Жилет стоит пятьдесят грошей, а я тебе даю полтинник.
– Полтинник?.. Ну, пусть уж будет полтинник!.. – вздохнул он, протягивая мне жилет. – Пусть уж я потерплю убыток, да почин будет… Такой ветер!..
И он указал рукой на окно, за которым клубились тучи снега.
Когда я потянулся за деньгами, старьевщик, видимо о чем-то вспомнив, вырвал у меня жилет и быстро обшарил его карманы.
– Что ты там ищешь?
– Может быть, я что-нибудь оставил в кармане, не помню! – самым естественным тоном ответил он и, возвращая мою покупку, добавил: – Накиньте, ваша милость, хоть гривенник!..
– Ладно, будь здоров! – сказал я, отворяя дверь.
– Низко кланяюсь!.. У меня дома есть еще очень приличная шуба… – И уже с порога, просунув голову в дверь, он спросил: – А может быть, сударь, прикажете принести вам брынзы?..
Через несколько минут он снова выкрикивал во дворе: «Старье покупаю!» – а когда я показался в окне, поклонился мне, дружески улыбаясь.
Повалил снег, до того густой, что стало почти темно. Я положил жилет на стол и предался размышлениям – то я думал о женщине, которая, выйдя из ворот, побрела неведомо куда, то об опустевшей квартире по соседству, то, наконец, о владельце жилета, укрытом толстым, все нарастающим слоем снега…
Всего три месяца назад, в ясный сентябрьский день, я слышал, как они разговаривали. В мае она однажды даже напевала какую-то песенку, он смеялся, просматривая воскресный выпуск «Курьера». А сегодня…
В нашем доме они поселились в начале апреля. Вставали они довольно рано, пили чай из жестяного самовара и вместе уходили в город. Она – давать уроки, он – в канцелярию.
Он был мелкий чиновник и на начальников отделов смотрел снизу вверх, как путешественник – на Татры. Поэтому работал он много, целыми днями. Не раз я видел его и в полночь, когда он сидел при свете лампы, согнувшись над столом.
Обычно жена усаживалась подле него и шила. Время от времени, поглядывая на мужа, она откладывала работу и просила:
– Ну, хватит уже, ложись спать.
– А ты когда ляжешь?..
– Я… вот только сделаю несколько стежков…
– Ну, так и я напишу еще несколько строк.
И они снова склонялись над работой. А немного погодя она снова говорила:
– Ложись!.. Ложись!..
Иногда словам ее вторили мои часы одним коротким ударом: час ночи!
Оба они были молоды, не красивы, но и не безобразны, в общем – тихие люди. Насколько я помню, она казалась гораздо более худой, чем ее муж, который, я бы сказал, был даже чересчур тучен для столь мелкого чиновника.
Каждое воскресенье, в полдень, они под руку отправлялись гулять и возвращались домой поздно вечером. Обедали они, вероятно, в городе. Однажды я встретил их у ворот, отделяющих Лазенковский парк от Ботанического сада. Супруги купили по бокалу великолепного лимонада и по большому прянику; при этом у них был вид самодовольных мещан, привыкших за чаем есть ветчину с хреном…
В сущности бедным людям не так-то много надо для сохранения душевного равновесия: немного пищи, вдоволь работы и побольше здоровья. Остальное приходит само собой.
Соседям моим пищи, кажется, хватало, а уж работы – наверно. Но со здоровьем обстояло не совсем благополучно.
Как-то в июле он простудился, впрочем не очень сильно. Однако, по странному стечению обстоятельств, у него открылось такое сильное кровотечение, что он потерял сознание.
Случилось это ночью. Уложив его поудобнее на кровати, жена привела дворничиху, а сама побежала за врачом. Обошла она пятерых, но с трудом нашла одного – и то случайно, встретив его на улице.
Доктор, взглянув на нее при колеблющемся свете фонаря, счел необходимым прежде всего ее успокоить. Женщина пошатывалась, видимо от усталости, а извозчика поблизости не было, поэтому доктор взял ее под руку и по дороге стал ей объяснять, что кровотечение еще ничего не доказывает.
– Кровотечение бывает горловое, желудочное, наконец из носоглотки – и очень редко легочное. Вообще, если человек всегда был здоров, никогда не кашлял…
– О, лишь изредка! – прошептала женщина, остановившись, чтобы отдышаться.
– Изредка – это ничего. У него может быть небольшой бронхит.
– Да… это бронхит!.. – повторила женщина уже громче.
– Воспалением легких он никогда не болел?
– Болел, но… – ответила женщина и снова остановилась. Ноги у нее подкашивались.
– Но, наверное, уже давно!.. – подхватил врач.
– О, очень… очень давно! – поспешно подтвердила она. – Еще прошлой зимой.
– Полтора года назад?
– Нет… Но все-таки до Нового года… Давно уже!
– Так-с!.. Ну и темная же у вас улица, да вдобавок еще небо заволокло… – говорил врач.
Они подошли к дому. Женщина с тревогой спросила у дворника, что слышно, и узнала, что ничего. Дома дворничиха тоже сказала, что все спокойно, а больной дремал.
Врач осторожно разбудил его, выслушал и тоже сказал, что это пустяки.
– Я ведь сразу сказал, что пустяки! – отозвался больной.
– О, конечно, пустяки!.. – повторила женщина, сжимая его влажные руки. – Я же знаю, что кровотечение может быть из желудка или из носа. У тебя, наверное, из носа. Ты такой полный, тебе нужно много двигаться, а ты все время сидишь… Ведь правда, доктор, ему нужно двигаться?
– Конечно, конечно!.. Вообще двигаться нужно, но несколько дней вашему супругу придется полежать. Может он уехать в деревню?
– Нет… – грустно прошептала женщина.
– Ну, нет так нет. Значит, останется в Варшаве. Я буду его навещать, а пока что пусть он немного полежит и отдохнет. А если кровотечение повторится, то…
– То что, доктор? – перебила его женщина, покрывшись восковой бледностью.
– Да ничего, муж ваш отдохнет, там зарубцуется…
– Там… в носу?.. – проговорила женщина, умоляюще сложив руки.
– Да… в носу! Разумеется. Вы успокойтесь, а в остальном положитесь на волю божию. Спокойной ночи.
Слова врача так успокоили женщину, что после тревоги, пережитой за эти несколько часов, она почти развеселилась.
– Вот видишь, ничего особенного! – сказала она мужу, одновременно смеясь и плача.
Она опустилась на колени возле постели больного и стала целовать его руки.
– Ничего особенного! – тихо повторил он и улыбнулся. – Ведь сколько крови иные теряют на войне, однако потом они совершенно здоровы!
– Ты лучше не разговаривай, – попросила жена.
За окном начинало светать. Летние ночи, как известно, очень коротки.
Болезнь тянулась значительно дольше, чем они предполагали. Муж уже не ходил на службу, что не представляло для него никаких затруднений, потому что числился он сверхштатным и не должен был брать отпуск, а мог вернуться, когда ему вздумается. Конечно, если для него нашлось бы еще место. Между тем, сидя дома, он чувствовал себя лучше, поэтому жена добыла еще несколько уроков и благодаря этому кое-как сводила концы с концами.
Обычно она уходила из дому в восемь утра. К часу она ненадолго возвращалась, варила мужу на керосинке обед и опять убегала.
Зато уж вечера они проводили вместе. Женщина, чтобы не терять времени попусту, брала теперь больше шитья.
Как-то в конце августа она случайно встретила врача. Они долго ходили по улице. Прощаясь, она схватила врача за руку и с мольбой в голосе проговорила:
– А все-таки, доктор, вы к нам заходите. Бог милостив, может быть… Его так успокаивает каждый ваш визит…
Врач обещал, а женщина вернулась домой заплаканная. Между тем вынужденное безделье развило в ее муже раздражительность и мнительность. Он стал упрекать жену, что она надоедает ему своими заботами, что он все равно человек обреченный, и вдруг спросил ее:
– Разве тебе доктор не говорил, что я не протяну и нескольких месяцев?..
Женщина оцепенела.
– Что ты говоришь? – вскричала она. – Откуда у тебя такие мысли?
Больной рассердился.
– Ах, да подойди же ко мне, вот сюда!.. – сказал он резко, хватая ее за руки. – Смотри мне прямо в глаза и отвечай: не говорил тебе этого доктор?
И он устремил на нее пылающий взор.
Под этим взглядом, кажется, стена раскрыла бы свои тайны, если б они у нее были.
В лице женщины появилось какое-то удивительное спокойствие. Она выдержала этот дикий взгляд, мягко улыбаясь. Только глаза ее словно остекленели.
– Доктор сказал, – ответила она, – что это пустяки, только тебе надо немного отдохнуть…
Муж сразу отпустил ее, задрожал, засмеялся, а потом, махнув рукой, сказал:
– Вот видишь, какой я стал нервный!.. Вбил себе в голову, что доктор сомневается в моем выздоровлении! Но… ты убедила меня… Теперь я спокоен!..
Он потешался все веселее над своей мнительностью.
Впрочем, приступы подозрительности никогда больше не повторялись. Ласковое спокойствие жены было для больного верным признаком того, что состояние его не так уж плохо.
Да и почему бы ему быть плохим?
Правда, он кашлял, но это – бронхит. Когда он долго сидел, иногда начиналось кровотечение – разумеется, из носоглотки. Ну, бывало у него что-то вроде лихорадки, но, в сущности, это была не лихорадка, а просто так – нервное состояние.
Вообще же он чувствовал себя все бодрее. У него появилось непреодолимое желание совершить какую-нибудь дальнюю прогулку, только сил на это не хватало. Наступило даже время, когда днем он не хотел лежать в постели и сидел на стуле одетый, готовый выйти на улицу, как только пройдет эта минутная слабость.
Беспокоило его лишь одно пустячное обстоятельство: однажды, надевая жилетку, он почувствовал, что она стала как-то уж очень широка ему.
– Неужели я настолько похудел?.. – прошептал больной.
– Ну конечно, ты немного осунулся, – ответила жена. – Но нельзя же преувеличивать…
Муж пристально посмотрел на нее. Она даже не подняла головы от шитья. Нет, такое спокойствие не может быть притворным! Доктор сказал ей, что он не так уж сильно болен, поэтому у нее нет причин беспокоиться.
В начале сентября нервное состояние, похожее на лихорадку, усилилось и продолжалось едва ли не целые дни.
– Пустяки! – говорил больной. – С наступлением осени всем делается не по себе и даже самые здоровые люди чувствуют какое-то недомогание. Одно меня удивляет: почему жилет становится мне все более широк?.. Я, видимо, страшно исхудал и, понятно, не смогу выздороветь, пока не пополнею, – уж это так.
Жена, внимательно выслушав его, должна была признать, что муж ее прав.
Больной ежедневно вставал с постели и одевался, хотя без помощи жены уже не мог натянуть на себя даже рубашку. Жена добилась лишь того, что вместо сюртука он надевал пальто.
– Чего же удивляться, – не раз говаривал он, глядя в зеркало, – чего же удивляться, что я обессилел. У меня ужасный вид!
– Ну, лицо всегда быстро меняется, – заметила жена.
– Это верно, только я и телом худею…
– А не кажется ли это тебе? – спросила женщина с подчеркнутым сомнением в голосе.
Он задумался.
– Что ж, быть может, ты и права… потому что… с некоторого времени я замечаю, что… что мой жилет…
– Да перестань ты! – перебила его жена. – Не пополнел же ты в самом деле?
– Как знать? Судя по жилету я…
– В таком случае ты должен лучше себя чувствовать.
– Ну вот! Ты хочешь все сразу… Прежде всего мне нужно хоть немного пополнеть. Скажу тебе больше: даже когда я пополнею, то и тогда я еще не сразу почувствую себя лучше. Что ты там делаешь за шкафом?.. – вдруг спросил он.
– Ничего. Ищу в сундуке полотенце, не знаю… есть ли чистое.
– Только не напрягайся так, у тебя даже голос изменился…
– Сундук-то ведь очень тяжелый.
Видимо, сундук был действительно тяжелый, поэтому у нее даже щеки стали гореть. Но она оставалась спокойной.
С этого дня больной уделял жилету все больше внимания. Он часто подзывал к себе жену и говорил:
– Ну… посмотри же. Убедись сама: еще вчера я мог просунуть сюда палец, вот сюда… А сегодня уже не могу. Я действительно начинаю полнеть!
Однажды больной испытал безмерную радость. Когда жена вернулась с уроков, он встретил ее сияющим взглядом.
– Выслушай меня, – взволнованно заговорил он, – я открою тебе один секрет… Видишь ли, с этим жилетом я немножко жульничал. Чтобы тебя успокоить, я ежедневно затягивал хлястик, и потому жилет стал мне тесен… Таким образом, вчера я затянул его до конца и уже боялся, что мой секрет откроется… Как вдруг сегодня… знаешь, что случилось?.. Сегодня мне, я даю тебе честное слово, не только не понадобилось затягивать его, а даже пришлось немного хлястик отпустить! Жилет стал мне форменным образом тесен, хотя еще вчера был широковат. Ну, теперь и я верю, что выздоровею. Я сам… А доктор пусть думает, что ему угодно.
Долгая речь так его утомила, что ему пришлось перейти на кровать. Но человеку, которому не нужно с помощью хлястика доказывать, что он полнеет, не подобает ложиться, поэтому он сел на постели, как в кресле, опершись на плечо жены.
– Ну-ну! – прошептал он. – И кто бы мог подумать? Две недели я обманывал жену, уверяя, будто жилет мне тесен, а сегодня он действительно стал тесен!.. Ну-ну!
Так они просидели, прижавшись друг к другу, весь вечер.
Больной был взволнован, как никогда.
– Боже мой! – говорил он, целуя жене руки. – А мне уже казалось, что так я и буду худеть до… конца… Сегодня впервые за эти два месяца я поверил, что могу выздороветь. Ведь больных все обманывают, а жены тем более. Но жилет – нет, этот не обманет!
Сейчас, рассматривая старый жилет, я вижу, что над его хлястиком трудились двое. Муж ежедневно передвигал пряжку, чтобы успокоить жену, а она ушивала хлястик, чтобы подбодрить мужа.
«Встретятся ли они когда-нибудь снова, чтобы открыть друг другу тайну жилета?..» – думал я, глядя на небо.
Но неба не было видно. Только сыпал снег, такой густой и холодный, что даже прах людской, наверно, замерзал в могилах.
А все же кто решится сказать, что там, за этими тучами, нет солнца?..
― ГРЕХИ ДЕТСТВА ―{2}
Я родился в эпоху, когда все непременно носили какой-нибудь титул или хотя бы прозвище, которыми наделяли иногда без достаточных оснований.
По этой причине нашу помещицу называли графиней, моего отца – ее уполномоченным, а меня – очень редко Казиком или Лесьневским, зато достаточно часто сорванцом, пока я жил дома, и ослом, когда я поступил в школу.
Фамилию нашей помещицы тщетно было бы искать в родословных знати, поэтому мне кажется, что сияние ее графской короны простиралось не дальше полномочий моего блаженной памяти отца. Помнится даже, что возведение ее в графское достоинство было своего рода памятником, которым покойный отец мой ознаменовал счастливейшее событие своей жизни – повышение жалованья на сто злотых в год. Помещица молча приняла присвоенный ей титул, но несколько дней спустя отец мой был произведен из управляющих в уполномоченные. И вместо письменного свидетельства получил невиданных размеров борова, и из выручки от продажи его мне купили первые башмаки.
Отец, я и сестра моя Зося (матери у меня уже не было) жили в каменном флигеле, шагах в пятидесяти от господского дома. В самом же доме обитала графиня с дочкой Лёней, моей сверстницей, с ее гувернанткой и со старой ключницей Салюсей, а также с бесчисленным множеством горничных и других служанок. Девушки эти по целым дням шили, из чего я заключил, что важные барыни для того и существуют, чтобы рвать одежду, а девушки – чтобы ее чинить. Об ином предназначении важных дам, как и бедных девушек, я понятия не имел, что, по мнению отца, было единственным моим достоинством.
Графиня была молодой вдовой, которую муж довольно рано поверг в безутешную печаль. Насколько мне известно по сохранившимся преданиям, ни покойника никто не величал графом, ни он кого-либо уполномоченным. Зато все соседи с редким в наших краях единодушием называли его полоумным. Во всяком случае, это был человек незаурядный. Он загонял верховых лошадей, охотился где вздумается, вытаптывая крестьянские поля, и дрался с соседями на дуэли из-за собак и зайцев. Дома он изводил ревностью жену и отравлял существование прислуге с помощью длинного чубука. После смерти этого оригинала на его скакунах стали возить навоз, а собак раздарили. В наследие он оставил миру маленькую свою дочурку и молодую вдову. Ах, извините, кроме того, после покойного остался написанный маслом портрет, где он был изображен с гербовой печаткой на перстне, да еще длинный чубук, изогнувшийся от ненадлежащего употребления, как турецкая сабля.
Я господского дома почти не знал. Прежде всего и сам я предпочитал бегать по полям, боясь растянуться на скользком паркете; к тому же меня не пускала туда прислуга, потому что при первом же посещении я имел несчастье разбить большую саксонскую вазу.
С маленькой графинюшкой я играл до моего поступления в школу всего лишь раз, когда нам обоим едва исполнилось по десяти лет. Пользуясь случаем, я хотел обучить ее искусству лазанья по деревьям и с этой целью усадил девочку на частокол, но она отчаянно закричала, а гувернантка за это побила меня голубым зонтиком, говоря, что я мог сделать Лёню несчастной на всю жизнь.
С тех пор я терпеть не мог девочек, решив, что ни одна из них не способна ни лазать по деревьям, ни купаться со мной в пруду, ни ездить верхом, ни стрелять из лука или метать камни из рогатки. Когда же начиналось сражение, – а без него что за игра! – почти все они распускали нюни и бежали кому-нибудь жаловаться.
Между тем с дворовыми мальчиками отец не позволял мне знаться, сестра же почти все время проводила в господском доме, и я рос и воспитывался в одиночку, как хищный птенец, брошенный родителями.
Я купался за мельницей или катался на пруду в дырявой лодке. В парке я с кошачьей ловкостью прыгал с ветки на ветку, гоняясь за белками. Однажды лодка моя опрокинулась, и я полдня просидел на плавучем островке, который был не больше лохани для стирки. В другой раз я через слуховое окно взобрался на крышу господского дома, но так неудачно, что пришлось связать две лестницы, чтобы достать меня оттуда. Как-то мне случилось целые сутки проплутать в лесу, а вскоре после этого старый верховой конь покойного помещика, вспомнив былые добрые времена, понес меня и не менее часу мчал по полям, пока наконец, – чего, должно быть, он вовсе не хотел, – я не сломал себе ногу, которая, впрочем, довольно быстро срослась.
У меня не было близких друзей, и я сблизился с природой. Я знал каждый муравейник в парке, каждую хомячью норку в поле, каждую кротовью тропку в саду. Мне были известны все птичьи гнезда и все дупла, в которых вывелись бельчата. Я различал шелест каждой липы возле дома и умел повторить мелодию, которую наигрывал ветер, пробегая по деревьям. Не раз я слышал в лесу какой-то неумолчный топот, только не знал, кто там топочет. Подолгу я смотрел на мерцающие звезды и беседовал с ночной тишиной, и, так как мне некого было целовать, я целовал дворовых собак.
Мать моя давно покоилась на кладбище. Даже земля уже расселась под придавившим ее камнем, и трещина, должно быть, вела в самую глубь могилы. Однажды, когда меня за что-то побили, я пошел туда и стал слушать, не откликнется ли она… Но она так и не откликнулась. Видно, и вправду умерла.
В то время в моем сознании складывались первые представления о людях и об их взаимоотношениях. Например, уполномоченный в моем воображении был непременно несколько тучноват и румян лицом; у него были обвисшие усы, густые брови над серыми глазами, низкий бас и по крайней мере такая же способность кричать, как у моего отца. Особа, именуемая графиней, представлялась мне не иначе, как высокой прекрасной дамой с печальным взором; она молча прогуливалась по парку в белом платье, волочащемся по земле.
Зато о человеке, который носил бы титул графа, я не имел ни малейшего понятия. Такой человек, если он вообще существовал, казался мне лицом гораздо менее важным, чем графиня, просто бесполезным и даже неприличным. На мой взгляд, только в просторном платье с длинным шлейфом могло обитать величие знатного рода, а кургузый, в обтяжку, костюм, да еще состоящий из двух частей, годился лишь для приказчиков в имении, винокуров и в лучшем случае – для уполномоченных.
Таковы были мои верноподданнические чувства, зиждившиеся на внушениях отца, который неустанно твердил мне, что я должен любить и почитать госпожу нашу графиню. Впрочем, если б я когда-нибудь забыл эти наставления, мне достаточно было бы взглянуть на красный шкаф в конторе отца, где над счетами и записями висела на гвозде пятихвостая плетка – воплощение основ существующего порядка. Для меня она была своего рода энциклопедией, так как, глядя на нее, я вспоминал, что нельзя рвать башмаки и дергать жеребят за хвосты, что всякая власть исходит от бога и т. д.
Отец мой был человеком неутомимым в работе, безупречно честным и даже весьма мягкосердечным. Ни мужиков, ни прислугу он никогда и пальцем не тронул, только страшно кричал. Если же он был несколько строг ко мне, то, наверное, не без оснований. Органист наш, которому я однажды подсыпал в табак щепотку чемерицы, вследствие чего он всю обедню чихал и не мог ни петь, ни играть, оттого что все время сбивался с такта, после этого часто говаривал, что, будь у него такой сын, как я, он прострелил бы ему башку.
Я хорошо помню это выражение.
Графиню отец называл ангелом доброты. Действительно, в ее деревне не было ни голодных, ни голых и босых, ни обиженных. Зло ли кому причинили – шли к ней жаловаться; заболел ли кто – графиня давала лекарство; дитя ли у кого народилось – помещицу звали в кумы. Моя сестра училась вместе с дочкой графини, я же избегал соприкосновения с аристократами, однако имел возможность убедиться в необычайном мягкосердечии графини.
У отца моего было несколько видов оружия, причем каждое предназначалось для особой цели. Огромная двустволка должна была служить для охоты на волков, таскавших телят у нашей помещицы; кремневое ружье отец держал для охраны всего прочего имущества графини, а офицерскую шпагу – для защиты ее чести. Собственное имущество и честь отец, вероятно, защищал бы самой обыкновенной палкой, так как все это боевое снаряжение, чуть не ежемесячно смазывавшееся маслом, лежало где-то в углу на чердаке, запрятанное так, что даже я не мог его разыскать.
Между тем о существовании этого оружия я знал, и мне страстно хотелось им завладеть. Я часто мечтал о том, как совершу какой-нибудь героический подвиг и как за это отец позволит мне пострелять из гигантского ружья. А в ожидании этого я бегал к лесникам и учился «палить» из длинных одностволок, обладавших тем свойством, что, стреляя из них, нельзя было ни в кого попасть, и непосредственный вред они причиняли только моим скулам.
Однажды, когда отец смазывал двустволку, предназначенную для охоты на волков, ружье для охраны имущества графини и шпагу для защиты ее чести, мне удалось украсть пригоршню пороху, который, насколько мне известно, еще не имел особого назначения. Как только отец уехал в поле, я отправился на охоту, захватив огромный ключ от амбара, с отверстием, похожим на дуло, и еще одной дыркой сбоку.
Зарядив громадный ключ порохом, я подсыпал сверху щепоть раздробленных пуговиц от «невыразимых», крепко забил пыж, а для запала взял коробок трутяных спичек.
Не успел я выйти из дому, как увидел стайку ворон, охотившихся за господскими утятами. Чуть не на моих глазах одна из них схватила утенка, но не могла его сразу унести и присела на крышу хлева.
При виде злодейки во мне закипела кровь моих предков, сражавшихся под Веной. Я подкрался к хлеву, зажег спичку, нацелился из ключа в левый глаз вороны, подул, трут разгорелся… Раздался грохот, словно гром грянул. С хлева свалился наземь уже задушенный утенок, ворона в смертельном страхе взлетела на самую высокую липу, а я с удивлением увидел, что в руках у меня вместо огромного ключа осталось только его ушко, зато с соломенной крыши хлева потянулась тонкая струйка дыма, будто кто-то курил трубку.
Через несколько минут хлев, стоимость которого исчислялась приблизительно в пятьдесят злотых, был весь охвачен огнем.
Сбежались люди, прискакал верхом мой отец, после чего в присутствии всех этих доблестных и почтенных лиц недвижимость «выгорела до недр земли», как выразился винокур.
В это время со мной происходило нечто неописуемое. Прежде всего я бросился домой и повесил на обычное место ушко от разорвавшегося ключа. Затем побежал в парк, вознамерясь утопиться в пруду. Секунду спустя мой проект в корне изменился: я решил лгать, как приказчик у нас в имении, то есть отпереться от похищения ключа, от выстрела и от хлева. А когда меня схватили, я сразу признался во всем.
Меня повели в господский дом. На террасе уже собрались мой отец, графиня в платье со шлейфом, маленькая графинюшка в довольно куцей юбчонке и моя сестра (вся в слезах, как и ее подруга), затем ключница Салюся, камердинер, лакей, буфетный мальчик, повар, поваренок и целый рой горничных, швей и дворовых девушек. Я повернулся в другую сторону и увидел позади строений зеленые верхушки лип, а чуть подальше – желтовато-коричневый столб дыма, как нарочно подымавшийся над пожарищем.
Вспомнив в эту минуту слова органиста, который предрекал, что мне неизбежно прострелят башку, я пришел к выводу, что если меня когда-нибудь ждет насильственная смерть, то именно сегодня. Я поджег хлев, испортил ключ от амбара, сестра плачет, вся прислуга в полном составе стоит перед домом – что же это означает?.. И я только смотрел, с ружьем ли пришел повар, так как ему вменялось в обязанность пристреливать зайцев и смертельно больных домашних животных.
Меня подвели поближе к графине. Она окинула меня печальным взглядом, а я, заложив руки за спину (как это всегда машинально делал в присутствии отца), задрал голову кверху, потому что графиня была высокого роста.
Так мы несколько мгновений глядели друг на друга. Прислуга молчала, в воздухе пахло гарью.
– Мне кажется, пан Лесьневский, мальчик этот очень живого нрава? – мелодичным голосом проговорила графиня, обращаясь к моему отцу.
– Мерзавец!.. Поджигатель!.. Испортил мне ключ от амбара! – отрубил отец, а затем поспешно добавил: – Кланяйся в ноги графине, негодяй!.. – и легонько толкнул меня вперед.
– Собираетесь меня убить, так убивайте, а в ноги я никому кланяться не стану! – ответил я, не сводя глаз с графини, которая произвела на меня неотразимое впечатление.







