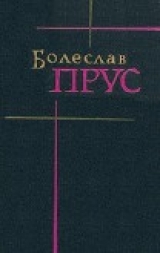
Текст книги "Том 2. Повести и рассказы"
Автор книги: Болеслав Прус
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 43 страниц)
Громадзкий остался в квартире один, как Марий на развалинах Карфагена. По правую его руку стояло лилово-красное кресло, с которого свешивались небрежно брошенные пепельно-серые брюки; по левую – стол, а на нем лежала дырявая монетка в сорок грошей, блеск которой заполнял всю комнату. Несколько дальше, слева, виднелась незаконченная рукопись, за которую, даже если он ее кончит, только завтра можно будет получить деньги; а напротив, за окном, высилась та самая стена флигеля, на которой еще так недавно он читал глазами своей души длинный список блюд – дешевых, жирных, питательных и, главное, горячих. Уже не только от каждого блюда, но даже от каждого названия шел пар и пахло свежим картофелем, салом и поджаренным луком.
Он засунул обе руки в карманы и разразился демоническим смехом:
– А… ха! ха!..
«Званый обед, – думал он, – на котором я должен вспомнить о них, если мне дадут что-нибудь вкусное…»
– А… ха! ха!..
«Вчера я съел, быть может, сто двадцать граммов белков, сто граммов – жиров и четыреста – углеводов… А сегодня… немножко сахару в чае и, может, граммов пятьдесят хлеба, а это значит: четыре грамма белков, один – жиров и свыше двенадцати граммов углеводов… Но, ей-богу, при таком питании даже как следует с голоду не умрешь…»
Он несколько раз прошелся по квартире и снова предался размышлениям:
«Ах, подлый управляющий!.. Почему бы ему не прийти завтра, после обеда?.. Я получил бы за переписку и, посвистывая, отдал бы за квартиру… Сегодня я съел бы порцию колбасы с капустой и свиную котлету с картошкой, да еще сколько хлеба!.. Клянусь богом, набралось бы до ста двадцати граммов белков, до шестидесяти граммов жиров, ну… а углеводов… сколько влезет… А теперь что?.. У меня есть шесть кусков сахару… где же здесь белки, где жиры?.. Пусть холера, бешенство, сап поразят всех управляющих и домохозяев!..»
«И так будет до конца, – говорил он себе, прохаживаясь. – Каждый месяц платить за квартиру, каждые полгода за учение… Уроков нет, чудес тоже не бывает… Учись, сдавай экзамены… Если бы Леськевич дал мне тот урок, ба!.. Но он готов меня утопить в ложке воды… Как только получу деньги за переписку, пойду в лечебницу и взвешусь, а через две недели еще раз… Если вес у меня убавится, пусть все летит к черту… Повеситься я всегда успею…»
Взгляд его упал на продырявленную монетку, которая в этот момент сияла, как солнце. Он остановился возле стола, посмотрел на монету и подумал:
«Если бы я купил два фунта хлеба, а на остальные хотя бы ливерной колбасы и сальцесону, то получил бы почти столько белков, углеводов и жиров, сколько требуется… К этому горячий чай… Ночью я бы закончил переписку… потом в анатомичку и клинику… Да, за сорок грошей можно основательно поддержать равновесие в организме…»
Вдруг у него сверкнули глаза и на лице появился румянец. Во всем его облике видна была решимость.
– Я починю брюки этого, этого за… сопляка!.. – воскликнул он. – А завтра верну им сорок… копеек и скажу: у меня не было ни гроша, вот я и укоротил штаны и взял монету. А сегодня получайте ее с процентами. Не стану ведь я изводить себя, как-никак я еще на что-нибудь пригожусь.
Не слишком быстрым, но решительным шагом он подошел к своему сундуку, достал катушку черных ниток и иголку, смахивавшую на копье… Потом наточил на оселке перочинный ножик и, вернувшись в первую комнату, швырнул пепельно-серые брюки на стол, растянул, отмерил… Запер входную дверь, выбрал тонкую книжку в крепком переплете, приложил ее к штанине в качестве линейки и раз… раз ножичком. После первого прикосновения ножа на сукне образовалась черточка, после второго – углубление, после пятого и шестого кусок штанины отделился. То же самое он проделал со второй штаниной: отмерил, приложил книжку и раз… раз! острым ножичком. Снова отлетел кусок штанины; брюки были укорочены.
Теперь Громадзкий продел двойную нитку в свою гигантскую иглу, сделал узелок, отступил в глубь комнаты, чтобы его не видели соседи из противоположного флигеля, и начал загибать и подшивать укороченные штанины. Он делал это так быстро и точно, что сам профессор Косинский вынужден был бы признать его талант хирурга.
Громадзкий шил и думал:
«Два фунта хлеба… сальцесон и ливерная колбаса… Как раз и составит сто двадцать граммов белков, шестьдесят граммов жиров и четыреста углеводов. А завтра верну сорок копеек и отправлюсь к Врубелю на обед с кофе и пивом. Кружка пива, нет… две кружки!.. Мне ведь это причитается…»
За час он кончил подшивать штанины. Затем отпорол резинки, снова с помощью книжки и ножика вырезал клин в поясе и снова шил со скоростью курьерского поезда и точностью счетной машины. Никакой Нелатон, никакой Амбруаз Паре, отец современной хирургии, не сделал бы такой удачной операции.
Вдруг, когда он пришивал уже вторую резинку, постучали в дверь. У Громадзкого кровь застыла в жилах. Он машинально втолкнул иглу в мундир, пепельно-серые брюки кинул на кровать Квецинского и, побелев как мел, выбежал в переднюю.
Стучала дворничиха.
– Чего вам надо? – нетерпеливо спросил Громадзкий.
– Господа приказали мне прийти… Может, самовар поставить?
– Не надо.
– Так, может, подмести, теперь у меня время есть…
– Я скоро уйду, тогда подметете.
– А может, что зашить? – злорадно спросила дворничиха, глядя на иголку, воткнутую в мундир Громадзкого.
Ее всегда злило то, что такой ученый барин все сам себе чинит, вместо того чтобы дать заработать честной женщине, обремененной мужем и детьми.
– Благодарю вас!.. – ответил он и захлопнул дверь перед самым носом заботливой женщины.
Она ушла, ворча, как медведица, у которой потревожили малышей. Громадзкий вернулся к своей работе, взялся за нее с удвоенным прилежанием, но в душе у него проснулось беспокойство.
«Что тут делать?.. – думал он. – Бабища сейчас же скажет, что не укорачивала брюки, и что я им отвечу, если они спросят про сорок грошей?.. Квецинский и Лукашевский не стали бы издеваться надо мной, но Леськевич?.. Завтра же растрезвонит на весь университет, что я, как свинья, за сорок грошей перешиваю чужие штаны!..»
Он кончил шить, окинул взглядом свое произведение и нашел его великолепным. Но лежавшая на столе дырявая монета показалась ему почему-то более темной и грязной, хотя желудок громким голосом требовал белков, жиров и углеводов.
Громадзкий повесил перешитые брюки на дверь, закурил папиросу и принялся ходить взад-вперед по квартире.
«Сорок грошей, – думал он, – я заработал по чести… Взять монету или не брать?.. Вчера я тоже ел очень мало, на завтра до самого вечера у меня нет еды… организм угасает… чахотка… Но завтра все будут кричать, что я свинья… В конце концов каждый что-то дал этому парнишке: Незабудка – брюки, Селезень – пиджак, а про меня скажут, что я хитрый и наживаюсь на бедняке…»
После того как он выкурил папиросу, муки голода немного утихли. Громадзкий съел один кусок сахару, другой… Потом зашел на кухню, где лежал узелок с вещами мальчика, и развязал его. Там были две совсем грязные ситцевые рубашки, дерюжные кальсоны, тоже грязные, и две пары новых носков (подарок панны Марии Цехонской).
Громадзкий обозрел убогое белье мальчика – каждую вещь он брал двумя пальцами и подносил к свету. И вдруг, при мысли, что он ничего не дал такому горемыке, как этот Валек, сердце у него сжалось сильнее, чем пустой желудок. Все дали, даже Леськевич, а он не только ничего не дал, но еще собирался пообедать за счет нищего, у которого нет чистой рубашки.
– Я подлец!.. – пробормотал он, подошел к открытому окну и стал звать: – Барбария!.. сюда… сюда!..
– Мама, пан зовет, – отозвался тонкий голосок во дворе.
Громадзкий закурил вторую папиросу, надел шапку набекрень и ждал. Лишь немало времени спустя в дверь постучала дворничиха.
– Чего?.. – угрюмо спросила она.
– Возьмите вот, – сказал Громадзкий, указывая на стол, – сорок грошей… А здесь, – добавил он, – грязное белье мальчика… Надо выстирать ко вторнику.
Мрачное лицо Барбары просветлело.
– Вы уходите? – спросила она. – Может, самовар поставить?
– Не надо, – ответил он. – Я иду на званый обед.
И он ушел, гордо задрав голову, держа руки в карманах, где не было ни гроша.
VIIПосле путешествия, продолжавшегося несколько минут, пан Квецинский, пан Леськевич и пан Лукашевский, а также опекаемый ими Валек очутились во дворе ресторана «Chateau de fleurs»[12]12
«Замок цветов» (франц.).
[Закрыть], получившего свое название в честь нескольких чахлых каштанов и очень разнообразных, сильных запахов, которые вырывались из кухни, заполняли дворик, а иногда и улицу.
Для того чтобы укрыть от любопытных глаз погрешности костюма Валека, молодые люди выбрали самый дальний столик, загнали мальчика в угол и уселись таким манером, что его почти не было видно. Так как к ним довольно долго никто не приходил, угрюмый Леськевич крикнул:
– Паненка!.. Что же это, черт возьми! Неужели вы думаете, что к вам пришли нищие?
На этот любезный призыв откликнулась девица довольно зрелого возраста в розовом платье, с лукавой улыбкой, очарование которой несколько ослабляли два ряда гнилых зубов.
– Здравствуйте!.. Мое почтение!.. Ах, и пан Лукашевский приехал? – говорила девица, не переставая хихикать. – Я думала, господа, как всегда, сядут за столик Эльжбетки… Но, видно, она лишилась их милости…
Леськевич глядел на нее исподлобья и, смекнув, что при общем количестве достоинств девицы можно не обращать внимания на зубы, взял ее за руку. Паненка не сопротивлялась, но в виде компенсации оперлась другой рукой на плечо Лукашевского, а бюстом прикоснулась к голове Квецинского, который всегда пользовался у женщин наибольшим успехом.
– А что это за личность? – спросила паненка, указывая подбородком на Валека.
– Наш сын, – ответил Леськевич и нежно стиснул ее руку возле локтя.
– Хи… хи… хи!.. Никогда не поверю, что у пана Квецинского такой некрасивый сын.
Минутная живость Леськевича погасла, как задутая свеча. Он оттолкнул руку неблагодарной, еще больше помрачнел и начал тихо посвистывать, словно издеваясь над Квецинским, который пользуется успехом у женщин с гнилыми зубами.
Но Квецинский, которого звали также Незабудкой, проявил полное безразличие к тому, что его выделили среди товарищей. Он так нетерпеливо заерзал на стуле, что девице в розовом платье пришлось отступить, и сказал твердым голосом:
– Что у вас подают на обед?
– Я посоветую вам, что выбрать: борщ с клецками…
– Борщ, – потребовал Лукашевский. – И для малыша борщ.
– Борщ, – подхватил Квецинский.
– Бульон, – сердито сказал Леськевич, не глядя на изменницу, которая оказала предпочтение Квецинскому.
– Отварное мясо и язык в кисло-сладком соусе, – продолжала паненка.
– Отварное мясо, – ответили все хором, а Лукашевский добавил:
– А для малыша и отварное мясо и язык. Только побольше соусу, пусть полакомится…
Таким образом, заказали полный обед, а когда паненка торопливо ушла, бросив меланхолический взгляд в сторону Квецинского, этот неблагодарный шепнул:
– Ну и кувалда!..
– Заметно, что он обручен, – вздохнул Лукашевский.
– И что, кроме того, у него еще на шее Теклюня и Валерка, – вставил Леськевич.
– Бойся бога, неужели ты еще не порвал с Теклюней? – удивился Лукашевский.
– Ах! – печально ответил Квецинский. – Я-то порвал, но вынужден видеться с нею, пока она не успокоится. Она уверяет, что лишит себя жизни, ну и, стало быть…
– А что еще за Валерка?
– Из магазина, – сказал Квецинский, повесив голову. – Я встретил ее на Новом Святе, она уронила зонтик… я поднял… Мы разговорились… Потом я ее спросил без всякой задней мысли: одна ли она живет? Она ответила, что живет с подругой, а та часто уходит из дому… Черт!.. – заключил Квецинский, ударив рукой по столу.
Девушка в розовом платье принесла три тарелки борща и одну бульона, потом различные мясные блюда и десерт, потом много кофе и пива. Валек, перекрестившись, кое-как съел борщ, но просыпал соль и облился соусом. Его покровители очень быстро заметили, что мальчик не умеет пользоваться ни ножом, ни вилкой, вследствие чего Леськевичу пришлось нарезать ему мясо и показать, как обращаются с вилкой.
Во время этих хлопот Лукашевский заметил:
– Чудесно вы тут себя ведете!.. У Квецинского невеста в деревне, а в Варшаве две ягодки, да и ты, Селезень, должно быть, здорово кутишь?..
– Я?.. – вознегодовал Леськевич.
– Ты никогда не был слишком приятным товарищем, – продолжал Лукашевский, – но сегодня у тебя вид настоящего разбойника.
– Потому что у меня тяжелые душевные переживания.
– Он убивается из-за того, что вскоре рухнет европейская цивилизация, – пояснил Квецинский.
Подали черный кофе (Валеку тоже), потом пиво (Валеку тоже). Леськевич поставил локоть на стол, подпер рукой голову и сказал:
– Послушайте! Если вы хотите, чтобы я вместе с вами жил, так отдайте Лукашу и мне первую комнату, а Квецинский с Громадзким пусть займут вторую. Я не хочу находиться рядом с подлым Громадой!..
– Ты сошел с ума! – удивился Квецинский. – Ведь ты вместе с ним прожил целый год…
– И за это время я узнал, какое это зелье: скряга, эгоист… Грязный эгоист!.. – говорил разгневанный Леськевич.
– Дорогой Селезень, – торжественно произнес Квецинский. – Ты вправе не предлагать Громаде урок, хотя я бы так не поступил. Но срамить человека…
– Какой урок? – поинтересовался Лукашевский.
– Его родным нужен репетитор за пятнадцать рублей, Селезень сказал это в присутствии Громадзкого и не хочет порекомендовать его на это место. Свинство! – с раздражением заключил Квецинский.
Валек вдруг побледнел, вылез из-за стола и стал слоняться по садику.
– Чего ты так взъелся на Громаду? – спросил Лукашевский у Леськевича. – Из-за того, что он назвал тебя ипохондриком?.. Он был прав, ты именно таков.
– Не из-за этого! – крикнул Леськевич, стукнув кулаком по столу. – Но я презираю подлых эгоистов и скряг и не допущу, чтобы у ребенка моих родных был такой учитель… Брр!..
– А почему Громадзкий эгоист?.. Он бедняк, родившийся под несчастливой звездой! – возразил Лукашевский.
– Сейчас тебе скажу, – оглядываясь по сторонам, начал Леськевич. – Хорошо, что мальчик ушел. Вот возьмем хотя бы этот случай… Попель учил паренька, ты его привез, каждый из нас что-то ему дал… А Громадзкий?.. Пожалел даже старые подтяжки, не пошел с нами обедать, лишь бы не платить свою долю за пропитание ребенка… Впрочем… что тут долго говорить? Когда Незабудка подарил Валеку свои брюки, Громадзкий должен был бы дать деньги на их перешивку. Между тем ты дал сорок грошей, а он весьма нахально взял на себя посредничество перед дворничихой… Разве так поступает человек, у которого есть самолюбие?..
– Да, может, у него ни черта нет, – вставил Лукашевский.
– Ни черта нет? А за квартиру тотчас выложил шесть рублей, и за переписку ему завтра несколько рублей заплатят. Ха! Ха!.. – засмеялся Леськевич. – Громадзкий – это такая скотина, что я не удивлюсь, если он сам переделает малому брюки, а монету прикарманит… Барбаре ее не видать…
– Ты скотина, Селезень, – с негодованием возразил Квецинский. – Громада такой порядочный человек, что даже тебе починил бы штаны, если бы у тебя не было денег на портного, и ничего бы с тебя не взял бы… Я ведь его знаю…
– Глядите-ка…
В этот момент чрезвычайное происшествие прервало дальнейший спор товарищей. Валек спрятался за мусорным ящиком и там его сорвало. Покровители мальчика, официантки, даже поваренок, поспешили на помощь бедняге. Ему подали воды…
– Борщ, язык, две порции сладкого, пиво… все пошло к черту!.. – ворчал Леськевич. – У него, очевидно, катар желудка, бедный парень.
И его сердце наполнилось еще большей симпатией к Валеку.
– Мы сглупили, – с огорчением сказал Лукашевский. – Разумеется, мальчик привык к простой пище, а мы его закормили всякими фрикасе…
– Не получилось бы то же самое с его образованием!.. – прошептал перепуганный Квецинский.
Мальчик мало-помалу успокоился, снова порозовел, отдышался. Затем три покровителя окружили его и, под смех одних посетителей ресторана и соболезнования других, вывели на улицу.
Квецинский подозвал извозчика и сказал товарищам.
– Отвезите малыша домой, а мне надо идти…
– К Валерке, – вставил Леськевич, подсаживая в пролетку мальчика.
Квецинский презрительно поглядел на Селезня, но, когда пролетка тронулась, остановил ее и шепнул Лукашевскому:
– Если на вас накинется дома Текля, скажите, что я заболел и пошел к врачу… Так будет лучше всего…
– Уж мы ею займемся, – насмешливо пообещал Леськевич.
Быстро и без приключений они подъехали к дому. Лукашевский хотел взять Валека под руку, но больной взбежал по лестнице, как заяц, и оказался на третьем этаже прежде, чем его покровители поднялись на второй. Несмотря на это, Лукашевский велел мальчику раздеться, уложил его на свою кровать, старательно выстукал и выслушал со всех сторон, чем даже вызвал зависть у Леськевича, которого давно уже не выстукивали.
В результате, убедившись, что мальчику ничего не угрожает, Лукашевский позвал дворничиху и приказал ей поставить самовар. В это время Леськевич заметил висевшие на двери уже переделанные брюки и… внимательно их осмотрел.
– Вы подшили так, как вам показал пан Громадзкий? – обратился Лукашевский к Барбаре.
– Что я подшила? Эти штанишки?.. – с удивлением спросила дворничиха. – Да ведь это не я… Пан Громадзкий что-то мастерил иголкой, может, он и подшил… – добавила она тоном, в котором сквозили ирония и неприязнь.
– Ну что, разве я не говорил!.. – поспешно вмешался Леськевич, с торжеством глядя на Лукашевского. – Интересно только, где сорок грошей?.. – злорадно заметил он.
– Сорок грошей, – отозвалась Барбара, – мне дал пан Громадзкий, чтобы я выстирала белье мальчишки. Но такую монету никто, наверно, не примет, она же дырявая…
И дворничиха извлекла из кармана денежку, ту самую, которую Леськевич, отправляясь на обед, собственноручно положил на стол.
Леськевич, увидев это, в самом деле смутился: вытаращил глаза и разинул рот, ироническое выражение сползло с его лица. Он почти с испугом смотрел на монетку.
– Принесите лимон, – обратился Лукашевский к дворничихе, а когда она ушла, сказал своему растерявшемуся товарищу:
– Ну, а теперь что?
И с упреком поглядел ему в глаза.
– Но зачем он сделал это? – спросил Леськевич, стараясь вернуть себе утраченное спокойствие.
– Затем, что хотел что-нибудь подарить малышу, а раз он гол как сокол, то починил ему брюки и велел выстирать белье, – ответил Лукашевский. – Неужели у тебя настолько башка не варит, Селезень, что ты даже этого не понимаешь?.. Скряга!.. эгоист!.. – продолжал он, смеясь. – А я тебе скажу, что Громада благороднее не только тебя, но и всех нас… Вот это человек…
Леськевич глубоко задумался. Он ходил по комнате, кусал губы, поглядывал в окно. Наконец, взял шапку и вышел, даже не попрощавшись с Лукашевским.
Он был задет до глубины души, и в нём начался процесс брожения; но какая с ним произойдет перемена, в хорошую или в дурную сторону, Лукашевский не мог угадать.
«Может быть, Селезень переедет от нас?..» – подумал он.
VIIIЛеськевич вернулся домой далеко за полночь.
В кухне, свернувшись клубочком, спал на сеннике накрытый пледом Валек. Леськевич зажег спичку и поглядел на мальчика: тот разрумянился, голова у него была холодная, и он нисколько не был похож на больного.
– Ну, значит… – пробормотал Селезень.
Он вошел в первую комнату и снова зажег спичку. Здесь на железной кровати, в необычайной позе растянулся Лукашевский: до пояса он завернулся в одеяло, ноги высунул за пределы кровати, рукой уперся в стену, голова лежала на матрасе, а подушка сбилась высоко к изголовью.
На двери, как живой укор совести, висели пепельно-серые брюки, перешитые руками Громадзкого. От этого зрелища у Леськевича вырвался вздох, и, подойдя к Лукашевскому, он попытался его разбудить.
– Лукаш! Лукаш!.. – ласково позвал он.
– Ступай вон!.. – пробормотал со сна Лукаш.
«Конечно, – думал Ипохондрик, – он презирает меня… Завтра никто мне не подаст руки, а Громадзкий плюнет мне в глаза… Так заподозрить невинного человека!.. Ох, какой я подлец!..»
Во второй комнате чадила керосиновая лампа. Леськевич выкрутил фитиль, сделал огонек поярче. Квецинский еще не вернулся. На столике лежала рукопись, которую переписал Громадзкий, а сам он спал на желтой деревянной кровати, приобретенной в Поцеёве за восемь злотых.
Леськевич наклонился над спящим, которого, должно быть, мучили какие-то тревожные видения, потому что он сбросил с себя одеяло. У Громадзкого было худое лицо, запекшиеся губы и до ужаса впалый живот, видимо пустой уже много дней.
При виде старого одеяла, рваной рубахи, и прежде всего при виде такого пустого, изморенного голодом живота, у Леськевича сжалось сердце. Сам не зная, что он делает и что говорит, он дернул Громадзкого за руку.
– Что? – пробормотал тот сквозь сон.
– Громада, – сказал Леськевич, – ты обедал?
– Когда?.. – спросил спящий, внезапно садясь на кровати.
– Когда!.. Он спрашивает, когда он обедал!.. – повторил Леськевич, которого звали также Ипохондриком.
И так как проснувшийся товарищ с удивлением смотрел на него, Леськевич сказал:
– Ты честный человек, Громада, ты отдал в стирку белье мальчишки.
– Ну и что же?.. – спросил Громадзкий, уже придя в себя. – Ты за этим меня будишь? – добавил он.
– Видишь ли… видишь… – бормотал совершенно смутившийся Леськевич, толком не зная, что он говорит, – видишь ли… того… Может, ты меня осмотрел бы…
И, сказав это, он устыдился собственной глупости.
– Ты болен? – спросил Громадзкий, спуская ноги с кровати.
– Да… болен… нас отравили в ресторане…
– Ну, тогда раздевайся и ложись, – сказал Громадзкий, закутываясь в свое старое одеяло и надевая на босые ноги калоши, такие же неказистые, как и одеяло.
«Какой он порядочный парень! – думал Леськевич. – А я так его обижал…»
В две минуты он разделся и лег на свою кровать. Громадзкий сел подле него и начал осмотр.
– Знаешь, Громада, я был к тебе несправедлив…
– В брюшной полости нет ничего особенного…
– Я думал, что ты скупердяй и эгоист…
– Печень нормальная… селезенка тоже…
– Но сегодня я убедился, что ты благородный человек, Громада…
– На что ты жалуешься? – спросил Громадзкий.
– Так как-то, ох… так… мне вообще нехорошо…
– Субъективные ощущения.
– Но, может быть, это симптом тяжелой болезни?.. – допытывался Леськевич.
– Ну, покажи язык… Ничего особенного… Пульс… Побойся бога, у тебя даже пульс нормальный, чего ты еще хочешь?
Леськевич вдруг поднялся и, схватив Громадзкого за руку, сказал:
– Ты на меня не сердишься за то, что я так подло поступал с тобой?
– Отстань!.. Что ты мне сделал?
– Я говорил, что ты эгоист и скопидом.
– Ба, если бы хоть мне было что копить… – прошептал Громадзкий.
– У тебя будет!.. – воскликнул Леськевич. – Завтра я дам тебе один урок и постараюсь достать другой… Будешь получать двадцать пять рублей!..
– Что с тобой стряслось? – недоумевал Громадзкий.
– Сегодня выяснилось, что я несправедливый олух… а тебе, несчастному бедняку, нечего есть!.. Ты не сердишься на меня? – говорил очень взволнованный Леськевич.
В этот момент с шумом отворилась дверь кухни и вошел Квецинский.
– Вы сошли с ума! – крикнул он, увидев Леськевича в обнимку с Громадзким, раздетых почти догола, ибо Громадзкий уронил свое одеяло, а Леськевич, которого только что выстукивали, тоже был в весьма легкомысленном туалете.
– Мы помирились с Громадой, – сказал Леськевич.
– Да я ведь даже не сердился на тебя, – заметил Громадзкий.
– Если так, значит ты должен занять у меня три рубля, – заключил Леськевич. – Ни на что не похоже, чтобы человек не обедал.
– Я натренировался, – прошептал Громадзкий.
– Чтоб вас черти взяли, негодяи!.. – крикнул из первой комнаты Лукаш.
– Не мешай, они мирятся, – сказал Квецинский.
– Так пусть бы они мирились во дворе, а не здесь, где люди спят. А ты откуда вернулся? – спросил Лукашевский у Квецинского.
– От Теклюни.
– Значит, у Валерки ты не был?
– Разумеется, – тихо сказал Квецинский.







