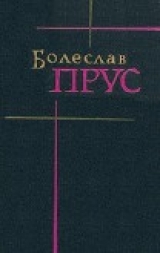
Текст книги "Том 2. Повести и рассказы"
Автор книги: Болеслав Прус
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 43 страниц)
– Резвый малый! Этот за девками полезет хоть в огонь. Как и мы в молодые годы, пан Лесьневский.
Я догадался, что вся усадьба знает о моем любезничании с Лёней, и был страшно сконфужен.
Под вечер пришла графиня с Лёней и гувернанткой, и у каждой – о чудо! – на платье была приколота… кувшинка! Я готов был провалиться сквозь землю, хотел бежать, но меня позвали, и я предстал перед дамами.
Тотчас я заметил, что гувернантка смотрит на меня очень сочувственно. Графиня же погладила меня по раскрасневшимся щекам и дала конфет.
– Милый мальчик, – сказала она, – очень похвально, что ты так любезен, но, пожалуйста, никогда не катай девочек на лодке. Хорошо?..
Я поцеловал ей руку и что-то буркнул.
– Да и сам тоже не катайся. Обещаешь мне?
– Я не буду кататься.
Тогда она обернулась к гувернантке и заговорила с ней о чем-то по-французски. Я услышал, как они несколько раз повторяли слово «эро». К несчастью, услышал его и отец и вскричал:
– Ох, ваша правда, графиня: ирод, как есть ирод!..
Дамы улыбнулись, а после их ухода Зося пыталась растолковать отцу, что «эро» пишется «heros» и по-французски значит не ирод, а герой.
– Герой? – повторил отец. – Уж точно герой! Промочил мундир и порвал штаны, а я теперь выкладывай Шулиму двадцать злотых. Черт бы побрал такое геройство, за которое платить приходится другим!
Прозаические взгляды отца были мне крайне неприятны. Однако я благодарил бога, что дело не кончилось хуже.
С того дня я виделся с Лёней не только в парке, но и у них в доме. Несколько раз я там обедал, что приводило меня в величайшее смущение, и почти ежедневно оставался к полднику, за которым подавали кофе, или землянику, или малину с сахаром и со сливками.
Я часто беседовал с обеими дамами. Графиня удивлялась моей начитанности, которой я был обязан библиотеке горбунка, а гувернантка, панна Клементина, была просто в восторге от меня. Ее симпатии я завоевал не столько своей эрудицией, сколько рассказами о приказчике, так как я всегда знал, где именно он присматривает за работами и что думает о панне Клементине. В конце концов эта просвещенная личность призналась мне, что вовсе не собирается выходить замуж за приказчика, а жаждет лишь поднять его морально. Она заявила мне, что, по ее понятиям, роль женщины в жизни состоит в том, чтобы возвышать мужчин, и что я сам, когда вырасту, непременно должен найти такую женщину, которая меня возвысит.
Беседы эти мне чрезвычайно нравились. Оттого я все усерднее передавал панне Клементине сведения о приказчике, а ему о панне Клементине, чем и снискал благосклонность обоих.
Насколько я сейчас помню, жизнь в господском доме протекала своеобразно. К графине каждые два-три дня приезжал ее жених, а панна Клементина по нескольку раз в день посещала те уголки парка, где могла увидеть приказчика или хотя бы, как она выражалась, услышать звук его голоса, – очевидно, в то время, когда он ругал батраков. В свою очередь, горничная лила слезы по том же приказчике, высматривая его то из одного, то из другого окна, а остальные девушки, следуя обычаям дома, делили свои чувства между лакеем, буфетным мальчиком, поваром, поваренком и кучером. Даже сердце старой Салюси не было свободно. Им владели индюки, селезни, гусаки, каплуны и петухи вместе со своими подругами, столь различными по оперению и виду, и в этом пестром обществе ключница проводила целые дни.
Естественно, что в кругу таких занятых людей нам, детям, жилось очень привольно. С утра до вечера мы играли и старших видели тогда лишь, когда нас звали обедать, полдничать или спать.
Вследствие этой свободы у меня сложились довольно оригинальные отношения с Лёней. Она уже через несколько дней звала меня Казик, обращалась ко мне на «ты», распоряжалась мной и даже кричала на меня, а я по-прежнему называл ее на «вы», все реже говорил, но все чаще слушал. Порой во мне пробуждалась гордость человека, которому через год предстояло перейти в третий класс. Тогда я проклинал ту минуту, когда впервые повиновался Лёне, отправившись по ее приказанию за сестрой. Я говорил себе:
«Уж не думает ли она, что я у нее нахожусь в услужении, как мой отец у ее матери?..»
Так я разжигал себя и решал, что это должно измениться. Но при виде Лёни мужество покидало меня, а если мне и удавалось сохранить хоть какие-нибудь остатки его, Лёня снова давала мне приказания с такой нетерпеливой настойчивостью и так при этом топала ножкой, что я не мог ослушаться. А когда я однажды поймал воробья и не сразу отдал его Лёне, она закричала:
– Не хочешь, не надо!.. Обойдусь и без твоего воробья!..
Но она сгорала от любопытства и была так обижена, что я бросился к ней, заклиная взять воробья. Она – нет и нет!.. Насилу я ее умолил, конечно с помощью Зоси, но, несмотря на это, в течение нескольких дней мне пришлось выслушивать упреки:
– Я никогда в жизни не сделала бы тебе такой неприятности. Теперь я знаю, чего стоит твое постоянство! В первый день ты бросился в воду, чтобы нарвать мне кувшинок, а вчера ты мне даже не дал немножко поиграть с птичкой. О, я уже все знаю… Ни один мальчик не поступил бы так со мной.
А когда после всевозможных объяснений я наконец стал ее просить, чтоб она хоть не сердилась на меня, Лёня ответила:
– Да разве я сержусь?.. Ты отлично знаешь, что я на тебя не сержусь. Мне просто было неприятно. Но как мне было неприятно, этого даже вообразить нельзя… Вот пусть Зося тебе скажет, как мне было неприятно.
Тогда Зося с торжественным видом заявила мне, что Лёне было ужасно, просто ужасно неприятно.
– Впрочем, пусть Лёня сама тебе скажет, как ей было неприятно, – закончила моя дорогая сестричка.
Так я метался между Анной и Кайафой, которые отсылали меня друг к другу, дабы точно определить степень этой неприятности, пока я окончательно не потерял голову.
Я стал машиной, с которой девочки делали все, что им вздумается, потому что малейшая моя попытка проявить самостоятельность причиняла неприятность или Лёне, или Зосе, а переживали ее обе барышни вместе.
Если бы бедный Юзик встал из гроба, он не узнал бы своего друга в этом тихом, покорном, забитом мальчике, который вечно куда-то ходил, что-то приносил, что-то искал, чего-то не знал, в чем-то не разбирался и то и дело получал выговоры. А если бы это видели мои товарищи!..
Однажды панна Клементина была занята больше обычного. Объяснялось это тем, что приказчик в этот день следил за какими-то работами в конюшне, расположенной неподалеку от ее излюбленной беседки. Пользуясь этим, мы втроем потихоньку убежали из парка в лесок, где росла ежевика.
Ужас, сколько ее там было! Что ни шаг – куст, а на каждом – множество черных ягод, крупных, как слива. Сначала мы собирали их вместе, поминутно вскрикивая от удивления и восторга. Вскоре, однако, мы замолкли и разбрелись в разные стороны. Не знаю, как девочки, а я, утопая в густых зарослях, забыл обо всем на свете. Но что это была за ежевика! Сейчас даже ананасы и то хуже.
Устав стоять, я сел, устав сидеть, я лег на кустарник, как на пружинный диван. Мне было так тепло, так мягко и такое тут было изобилие, что не знаю, откуда у меня явилась мысль: «Вот так, наверно, чувствовал себя Адам в раю. Господи! Господи! Почему не я был Адамом? Поныне на проклятом дереве росли бы яблоки, ибо я поленился бы даже руку протянуть, чтобы сорвать их…»
Я растянулся на упругом кустарнике, как уж на солнцепеке, и ощущал неописуемое блаженство – главным образом оттого, что мог ни о чем не думать. Время от времени я поворачивался навзничь, и тогда голова моя приходилась ниже всего тела. Колеблемые ветром листья ласково касались моего лица, а я смотрел в огромное небо и с неизъяснимым наслаждением воображал, что меня нет. Лёня, Зося, парк, обед, наконец школа и инспектор казались мне сном, как будто все это когда-то было, но давно-давно, может быть, сто лет тому назад, а может быть, тысячу. Покойный Юзик в небесах, вероятно, все время испытывает это чувство. Какой счастливец!..
Наконец мне уже расхотелось ежевики. Я ощущал легкое покачивание кустарника, на котором лежал, видел каждое облачко, скользившее по лазури, слышал шелест каждого листика, но не думал ни о чем.
Вдруг словно что-то ударило меня. Я вскочил, не понимая, что происходит. Вокруг было тихо по-прежнему, но в ту же минуту я услышал плач и крик Лёни:
– Зося!.. Панна Клементина!.. Помогите!
Есть что-то страшное в крике ребенка: «Помогите!» В голове у меня пронеслось: «Змея!» Колючие кусты цеплялись за одежду, опутывали ноги, рвали, толкали – нет!.. они боролись со мной, как живое чудовище, а тем временем Лёня кричала: «Помогите!.. Боже мой, боже!..» – и я понимал одно, но это было для меня ясно, как солнце: я должен ей помочь или сам погибнуть.
Измученный, исцарапанный, а главное – потрясенный, я наконец продрался к тому месту, откуда слышался плач Лёни.
Она сидела под кустом, дрожа и ломая руки.
– Лёня!.. Что с тобой? – вскрикнул я, впервые назвав ее по имени.
– Оса!.. Оса!..
– Оса?.. – повторил я, бросаясь к ней. – Ужалила тебя?..
– Еще нет, но…
– Так что же?
– Она ходит по мне…
– Где?..
Из глаз ее лились слезы. Она очень сконфузилась, но страх превозмог смущение.
– Залезла мне в чулочек… Боже мой, боже… Зося!..
Я опустился перед ней наземь, но еще не осмеливался искать осу.
– Так вынь ее, – сказал я.
– Да я же боюсь. Ах, боже!..
Бедняжка дрожала, как в лихорадке. Тогда я проявил верх мужества.
– Где она?
– Теперь ползет по коленке…
– Нет ее ни там, ни тут.
– Она уже выше… Ах! Зося, Зося!
– Но ее нет и здесь…
Лёня закрыла лицо руками.
– Наверно, где-нибудь в платье… – едва выговорила она, плача навзрыд.
– Поймал! – вскричал я. – Это муха.
– Где?.. Муха? – спросила Лёня. – И правда, муха! Ох, какая большая… А ведь я была уверена, что оса. Думала, я умру… Боже! Какая я глупая!..
Она утерла слезы и сразу начала смеяться.
– Убить ее или отпустить? – спросил я, показывая Лёне злосчастное насекомое.
– Как хочешь, – ответила она уже совершенно спокойно.
Я решил было убить, но у меня не хватило духу. И сама муха, и особенно крылышки ее были сильно помяты, и я осторожно положил ее на листик.
Между тем Лёня смотрела на меня как-то очень пристально.
– Что с тобой? – вдруг спросила она.
– Ничего, – ответил я, пытаясь улыбнуться.
Силы вдруг покинули меня. Сердце билось, как колокол, в глазах потемнело, холодный пот выступил на лбу, и, стоя на коленях, я пошатнулся.
– Да что с тобой, Казик?
– Ничего… просто я думал, что с тобой случилось какое-нибудь несчастье…
Если бы Лёня не подхватила меня и не положила мою голову к себе на колени, я бы расквасил нос.
Теплая волна ударила мне в голову, я услышал шум в ушах и снова голос Лёни:
– Казик!.. Казик, дорогой… что с тобой?.. Зося!.. Ах, боже, он в обмороке… Что я буду делать, несчастная…
Она обхватила мою голову руками и стала целовать. Я чувствовал, что все лицо у меня мокрое от Лёниных слез. Мне стало так ее жалко, что я собрал остатки сил и с трудом приподнялся.
– Ничего, ничего!.. Ты не беспокойся! – вырвалось у меня из глубины души.
Действительно, дурнота моя прошла так же быстро и неожиданно, как и наступила. В ушах перестало шуметь, вокруг посветлело, я поднял голову с колен Лёни и, глядя ей в глаза, засмеялся.
Тогда и она расхохоталась.
– Ах ты негодник! Ах ты злючка!.. – говорила она. – Ведь надо же было задать мне такого страху. И как это ты мог упасть в обморок из-за подобного пустяка?.. Ну, если бы даже это была оса, так она ведь не съела бы меня… А что я бы тут делала с тобой?.. Ни воды, ни людей, Зося куда-то ушла, и мне пришлось бы одной спасать такого большого мальчика. Стыдись!
Конечно, мне было стыдно. Ну можно ли было так ее пугать?
– Что? Как тебе? – спрашивала Лёня. – Видно, лучше, ты уже не такой бледный. А раньше был белый как полотно. Но хороша я буду, – снова заговорила она, – если об этом узнает мама! Ах, боже! Я даже боюсь теперь идти домой…
– О чем узнает мама? – спросил я.
– Обо всем, а главное – об этой осе…
– А ты никому не говори.
– Что толку, если я не скажу… – вздохнула она, отвернувшись.
– Может, ты думаешь, я скажу? – успокаивал я Лёню. – Ей-богу, никому ни словечка.
– А Зосе?.. Она ведь умеет держать секреты.
– Даже Зосе. Никому.
– Все равно все узнают. Ты весь исцарапался, ободрался… Постой-ка… – прибавила она, помолчав, и утерла мне лицо платочком. – Ах, боже! Знаешь, ведь я со страху даже поцеловала тебя, но я уже не знала, что делать. А вдруг кто-нибудь об этом узнает? Я просто сгорю со стыда! Правда, окажись это оса, тоже было бы очень неприятно. Ох! Сколько у меня огорчений из-за тебя…
– Но тебе нечего беспокоиться, – пытался я ее утешить.
– Ну да, нечего! Все откроется, потому что у тебя в голове полно листьев. Впрочем, погоди, я тебя причешу. Лишь бы из-за какого-нибудь куста за нами не подсматривала Зося. Она умеет держать секреты, но все-таки…
Лёня вынула из волос полукруглый гребень и принялась меня причесывать.
– И всегда ты ходишь растрепанный, – говорила она. – Ты должен причесываться, как все мужчины. Вот так!.. Пробор нужно делать с правой стороны, а не с левой. Будь у тебя черные волосы, ты был бы такой же красавец, как жених моей мамы. Но ты ведь блондин, так я причешу тебя иначе. Теперь ты похож на того ангелочка, который – знаешь? – под божьей матерью… Как жалко, что у меня нет зеркальца.
– Казик!.. Лёня!.. – донесся в эту минуту голос Зоси из парка.
Мы оба вскочили, Лёня была по-настоящему испугана.
– Все откроется! – прошептала она. – Ох, эта оса!.. А хуже всего, что ты упал в обморок…
– Ничего не откроется! – заявил я решительно. – Я ведь ничего не скажу.
– Я тоже. И ты даже не скажешь, что упал в обморок?
– Конечно.
– Ну-у!.. – удивилась Лёня. – А я, если бы упала в обморок, ни за что бы не утерпела…
– Казик! Лёня!.. – звала нас сестра где-то совсем близко.
– Казик! – шепнула Лёня и приложила палец к губам.
– Да ты не беспокойся!
В кустах послышался шорох, и показалась Зося в фартучке.
– Где ты была, Зося? – спросили мы оба.
– Ходила за фартуками для себя и для тебя. Возьми, Лёня, а то испачкаешься ежевикой.
– Что, пора возвращаться домой?
– Незачем, – ответила Зося. – К маме приехал этот господин, а панна Клементина и не думает уходить из беседки. Мы можем тут сидеть хоть до вечера. Ну, я принимаюсь за ежевику, вы ведь больше съели, чем я.
Лёня тоже стала рвать ягоды, да и у меня снова явилась охота полакомиться.
Заметив, что я удаляюсь, Лёня крикнула мне вслед:
– Казик! Ты знаешь, о чем я думаю!.. – и погрозила мне пальцем.
В эту минуту – не знаю уже, в который раз! – я дал себе клятву ни при ком даже звука не проронить ни о моем обмороке, ни об этой мухе. Но не успел я отойти на несколько шагов, как услышал голос Лёни:
– Если бы ты знала, Зося, что тут творилось!.. Нет, нет, я не могу тебе сказать ни одного словечка. Хотя если ты мне обещаешь не выдать секрет…
Я убежал подальше в чащу, так мне было стыдно. Правда, Зося…
Эту злосчастную ежевику мы собирали еще добрый час. Когда мы возвращались домой, я заметил, что положение резко изменилось. Зося смотрела на меня с ужасом и любопытством, Лёня совсем не смотрела, а я был в таком смятении, словно совершил убийство.
Прощаясь с нами, Лёня крепко поцеловала Зосю, а мне – кивнула головой. Я снял перед ней фуражку, чувствуя себя величайшим негодяем.
После ухода Лёни Зося взяла меня в оборот.
– Хорошие же вещи я узнала, – сказала она важно.
– А что я сделал? – спросил я, порядком струхнув.
– Как это – что? Прежде всего, ты упал в обморок (ах, господи, и меня при этом не было!..), ну, а потом – эта оса или муха… Ужасно… Бедная Лёня! Я бы умерла со стыда.
– Но чем же я виноват? – осмелился я спросить.
– Дорогой Казик, передо мной тебе незачем оправдываться, раз я тебя ни в чем не упрекаю. Но все-таки…
«Но все-таки…» – вот уж ответ!.. Из этого «но все-таки» следовало, что во всем виноват я один. Муха – это ничего. Лёня, которая орала благим матом, – тоже ничего, плох только я, оттого что прибежал на помощь.
Все это верно, но почему я упал в обморок?..
Я был безутешен. На другой день я вовсе не ходил в парк, лишь бы не показываться Лёне, а на третий – она велела мне прийти. Когда же я пришел, она издали кивнула мне головой, но разговаривала только с Зосей, время от времени окидывая меня презрительным и грустным взглядом, словно преступника.
Минутами мне казалось, что все же тут есть какая-то несправедливость по отношению ко мне. Но я тотчас подавлял подобные сомнения, внушая себе, что я действительно совершил нечто ужасное. В ту пору я еще не знал, что этот метод является характерной чертой женской логики.
Между тем девочки, о чем-то перешептываясь, степенно прохаживались по саду и не думали прыгать через веревочку. Вдруг Лёня остановилась и сказала жалобным голоском:
– Знаешь, Зося, мне до того захотелось черники… Я даже слышу ее запах…
– Так я сейчас принесу, – поспешно предложил я свои услуги. – Я знаю в лесу одно местечко, где ее очень много.
– Стоит ли тебе утруждать себя? – проговорила Лёня, бросая на меня томный взгляд.
– Что тут такого? – вмешалась Зося. – Пускай идет, если хочет.
Я поспешил уйти, тем более что мне уже становилось душно в саду из-за этого кривляния. Обогнув кухню, я услышал, как барышни смеются, а заглянув ненароком через забор, заметил, что они как ни в чем не бывало прыгают через веревку. Очевидно, только при мне они напускали на себя такую важность.
В кухне стоял адский шум. Мать Валека плакала и кляла всех и всё, а старая Салюся бранила ее за то, что Валек разбил тарелку.
– Дала я ему, – причитала судомойка, – прохвосту этакому, тарелку, чтоб он ее вылизал, а он, подлец, бух ее на пол да еще удрал. Ох, если я сегодня его не убью, так, верно, у меня руки-ноги отсохнут… – А потом крикнула. – Валек!.. Живо поди сюда, паршивец! Сейчас же иди, не то я всю шкуру тебе исполосую!
Мне стало жаль мальчика, и я хотел было вмешаться. Однако рассудил, что могу это сделать, вернувшись из лесу, так как до ночи Валек, наверное, не покажется на кухне, – и я пошел своей дорогой.
До леса от усадьбы было примерно полчаса ходьбы, а может, и больше. Росли у нас в лесу дуб, сосна и орешник, а земляники и черники было такое множество, что, сколько ни собирай, на всех хватало. На опушке ягод было поменьше: их здесь пообщипали пастухи, зато в глубине леса они сплошь покрывали целые поляны величиной с наш двор.
Разыскав эти места, я набрал полную фуражку да еще насыпал в платок, но сам почти не ел, так как торопился к Лёне. И все же лишь через час, если не больше, я, нагруженный добычей, отправился в обратный путь. Пошел я не прямо, а немножко в обход, потому что мне хотелось прогуляться по лесу.
Когда входишь в чащу, деревья явственно расступаются, словно дают тебе дорогу. Но попробуй-ка, углубившись в лес, оглянуться назад! Они протягивают друг другу ветви, точно руки, стволы сдвигаются, а потом даже сталкиваются – и внезапно за тобой вырастает разноцветная, плотная, непроницаемая стена…
Тогда ничего не стоит заблудиться. Куда ни двинешься, всюду все одинаково, всюду деревья разбегаются перед тобой и смыкаются за тобой. Бросаешься бежать – они тоже бегут тебе вслед, отрезая дорогу назад. Остановишься – и они станут, устало обмахиваясь ветвями, как веером. Оглядываешься направо-налево, пытаясь найти дорогу, и вдруг замечаешь, что многие деревья прячутся за другими, как бы желая тебя уверить, что их тут меньше, чем ты думаешь.
О, лес – это опасное место! Тут каждая птица выслеживает, куда ты идешь, каждая былинка старается опутать тебе ноги, а если не может, так хоть шелестом доносит другим о твоем появлении. Видно, сильно тоскует лес по человеку, если, увидев его, пускается на любые уловки, чтобы оставить у себя навсегда.
Солнце уже клонилось к западу, когда я выбрался из лесу. Навстречу мне попался Валек. Он быстро шел, опираясь на длинную палку.
– Куда ты идешь? – спросил я мальчика.
Валек не побежал от меня. Он остановился и, показывая желтой ручонкой на лес, тихо ответил:
– Вон туда!..
– Скоро ночь, возвращайся домой.
– Да мама сулила меня до смерти избить.
– Идем со мной, тогда она тебя не побьет.
– Ох, побьет!..
– Ну пойдем. Вот увидишь, ничего она тебе не сделает, – сказал я, подвигаясь к нему.
Мальчик шарахнулся, но не убежал; казалось, он колебался.
– Ну идем же!..
– Да боюсь я…
Снова я подвинулся к нему, и снова он шарахнулся. Наконец эти колебания и шарахания маленького оборванца вывели меня из себя. Там Лёня дожидается ягод, а он тут торгуется со мной, не желая возвращаться…
Нет у меня на это времени.
Я быстро зашагал к усадьбе. Примерно на половине дороги я обернулся и увидел Валека на пригорке у опушки леса. Он стоял со своей палкой в руке и смотрел на меня. Ветер развевал серую рубашонку, а дырявая шляпа в лучах заходящего солнца сверкала на голове его, как огненный венец.
У меня сжалось сердце. Я вспомнил, как батраки подбивали его взять палку и идти куда глаза глядят. Неужели?.. Ну нет! Не настолько же он глуп. Да и некогда мне возвращаться к нему, еще ягоды помнутся, а там Лёня ждет…
Я опрометью помчался домой, чтобы пересыпать ягоды в корзинку. На пороге меня встретила Зося горькими слезами.
– Что случилось?
– Беда, – прошептала сестра. – Все открылось. Графиня уволила отца…
Ягоды посыпались у меня из фуражки и платка. Я схватил сестру за руку.
– Что ты говоришь, Зося?.. Что с тобой?..
– Да, да. Отец остался без места. Лёня по секрету рассказала об этой осе гувернантке, а гувернантка графине… Когда отец пришел, графиня велела ему сейчас же отвезти тебя в Седлец. Но отец сказал, что раз так, то мы уедем всей семьей.
Зося разрыдалась.
В эту минуту я увидел во дворе отца. Я бросился к нему и, задыхаясь, повалился ему в ноги.
– Отец, дорогой, что я наделал… – лепетал я, обнимая его колени.
Отец поднял меня, покачал головой и строго сказал:
– Глуп ты еще; ну, иди домой.
А потом прибавил словно про себя:
– Тут кое-кто другой орудует, он-то и гонит нас отсюда. Почуял, что старый уполномоченный не дал бы ему проиграть имение сиротки. И не ошибся!
Я догадался, что речь идет о женихе помещицы. Мне стало полегче на душе. Поцеловав шершавую руку отца, я заговорил немного смелее:
– Понимаете, отец, мы ходили за ежевикой… И Лёню ужалила оса.
– Сам ты глуп, как оса. Не братайся с барчуками, вот и не будешь охотиться на ос да штаны портить в пруду. Теперь ступай и не смей вылезать из дому, пока все не уедут отсюда.
– Они уезжают? – едва прошептал я.
– На днях уезжают в Варшаву, а когда вернутся, нас уже здесь не будет.
Тоскливо тянулся этот вечер. К ужину были прекрасные клецки с молоком, но никто их не ел. Зося утирала покрасневшие глаза, а я составлял всевозможные планы – один отчаяннее другого.
Перед сном я тихонько зашел в комнатку к сестре.
– Зося, – заявил я решительным тоном, – я… я должен жениться на Лёне!..
Сестра посмотрела на меня в ужасе.
– Когда? – только спросила она.
– Все равно.
– Но сейчас ксендз не станет вас венчать, а потом – она будет в Варшаве, а ты в Седлеце… И, наконец, – что скажут отец и графиня?..
– Ну, я вижу, ты не хочешь мне помочь, – ответил я сестре и, не поцеловав ее на прощание, ушел к себе.
С этой минуты я уже не помню ничего. Проходили дни и ночи, а я все лежал в постели, и у моего изголовья сидели то сестра, то Войцехова, а иногда и фельдшер. Не знаю, говорил ли кто-нибудь у нас или мне почудилось в жару, что Лёня уехала и что пропал Валек. Однажды мне даже примерещилось заплаканное лицо судомойки; склонившись надо мной, она спрашивала сквозь слезы:
– Панич, а где вы видели Валека?
– Я?.. Валека?.. – Я ничего не понимал. Но потом в бреду я собирал ягоды в лесу, и из-за каждого дерева на меня смотрел Валек. Я зову его – он убегает, бегу за ним, но не могу догнать. Колючие кусты то хватают меня, то отталкивают, ежевика опутывает ноги, деревья кружатся, а между стволами, поросшими мхом, мелькает серая рубашонка мальчика.
Порой мне казалось, что я-то и есть Валек или что Валек, Лёня и я – это одно лицо. При этом я всегда видел лес или густой кустарник, и всегда кто-то звал меня на помощь, а я не мог двинуться с места.
Страшно вспомнить, как я тогда страдал…
Когда я поднялся с постели, каникулы кончились и пора было ехать в школу. Несколько дней еще я просидел дома и лишь накануне отъезда, под вечер, вышел во двор.
В господском доме окна были завешены шторами. Значит, они на самом деле уехали?.. Я поплелся к кухне, надеясь увидеть Валека. Валека не было. Я спросил про него у какой-то девушки.
– Ох, панич, – ответила она, – нет уже Валека…
Я боялся продолжать расспросы. Меня потянуло в парк.
Боже, как тут было грустно!.. В унынии я бродил по дорожкам, мокрым от недавнего дождя. Трава пожелтела, пруд совсем зарос, лодка была полна воды. В главной аллее стояли большие лужи, и в них отражались густые сумерки. Земля почернела, стволы почернели, ветви обвисли, увяли листья. Тоска терзала меня, а из глубины души поднималась одна за другой чья-нибудь тень. То Юзика, то Лёни, то Валека…
Вдруг подул ветер, зашелестели верхушки деревьев, и с колышущихся ветвей стали падать крупные капли, словно слезы. Видит бог, что деревья плакали. Не знаю, надо мной или над моими друзьями, но только – вместе со мной…
Уже совсем стемнело, когда я ушел из парка. В кухне ужинали батраки. За кухней, в поле я увидел женскую фигуру. В неверном свете, струившемся из алой полоски облаков, я разглядел судомойку. Обернувшись к лесу, она бормотала:
– Валек!.. Валек!.. Да иди же домой… Ох, горе мое, что ж ты наделал со мной! Негодник ты, негодник…
Я бросился бежать домой, чувствуя, что у меня разрывается сердце.







