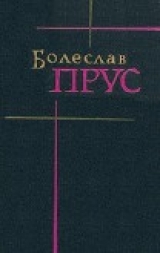
Текст книги "Том 2. Повести и рассказы"
Автор книги: Болеслав Прус
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 43 страниц)
Двери передней стремительно распахнулись, и на пороге появился юноша оригинальной наружности, в студенческой шинели и шапке набекрень. Высокий, рослый шатен с огромными руками и размашистой походкой, он производил впечатление человека, который, наметив себе какую-то отдаленную цель, устремляется к ней с грубой энергией и расталкивает всех на пути.
Пан Квецинский, пан Леськевич и пан Громадзкий построились в шеренгу.
– Лукаш явился! – крикнул Квецинский.
В ту же минуту все четверо запели:
– Да здравствует, – да здравствует!.. Да здравствует, – да здравствует на славу нам!.. Ура!..
По справедливости следует признать, что громче всех пропел здравицу в свою честь новоприбывший медик, сам пан Лукашевский.
– Ну, как поживаете? – сказал он, широко раскрывая объятия, в которых сразу же очутился тощий Громадзкий.
Квецинский и Леськевич кинулись на шею приятелю, причем первый поцеловал его в левое ухо, а второй – в правую лопатку.
После обмена приветствиями Лукашевский швырнул шапку на стол между стаканами, а шинель на кровать Леськевича и, подбоченясь, вскричал:
– Вы сошли с ума!.. Что это такое?..
И он толкнул ногой лилово-красное кресло.
– Кресло… – обиженно ответил Леськевич. – А это что?..
И он указал пальцем на переднюю, куда в этот момент вошла дворничиха с чемоданом, а следом за ней маленький мальчик с испуганным веснушчатым лицом; одет он был в кафтан, свисавший до самого пола, и с такими длинными рукавами, что совершенно не видно было рук.
– Это? – повторил Лукашевский, оглядываясь через плечо. – Ничего, это наш Валек…
– Какой наш Валек? – удивился Квецинский, которого звали также «Незабудкой».
Дворничиха Барбара, особа крепкого сложения, с прекрасно развитым бюстом, швырнула в угол чемодан и, засунув руки под фартук, обошла Лукашевского с правой стороны.
– Что же? – сказала она, склонив голову и щуря глаз. – Что же, может, он теперь будет прислуживать господам?..
– А вам что до этого, черт возьми!.. – дерзко ответил Лукашевский.
– Черт?.. – подхватила баба повышая голос. – Вы мне платите за услуги рубль в месяц, тринадцать дней вас нет дома, и еще вы будете приводить лакеев?.. Неужели вы думаете, что этакий сопляк прилично почистит вам башмаки или подметет комнаты?..
– Молчи, Барбария! – прикрикнул на нее Лукашевский.
– Подкинь уголь в самовар, раба!.. – добавил Квецинский.
– Отличный лакей!.. – вмешался Леськевич. – Да он же пошевелиться не может в своем кафтане.
– Зачем ты его привез, Лукаш?.. – спросил Громадзкий.
– А чтоб вас в анатомичку сволокли!.. – рассердился Лукашевский, хватаясь за голову своими огромными ручищами.
Потом он взял Барбару за локоть и сказал:
– Баба… бери самовар и марш на кухню…
Барбара стала покорной, как голубица, и в один миг исчезла с самоваром в передней.
– Ладно, но что это такое?.. – спросил неустрашимый Квецинский, постучав пальцем по голове мальчика.
– Валек, ступай на кухню… Скинь лапсердак и погляди, как ставят настоящий самовар… – распорядился Лукашевский.
– Зачем ты привез этого свинопаса?.. – недоумевал Леськевич.
– Для вашей же пользы, – ответил Лукашевский.
– Нам он не нужен, – возразил Ипохондрик, – а ни за тобой, ни за Громадзким не уследит…
– Ай, какой остряк, – проворчал Громадзкий. – В самый раз на колбасный фарш!
Лукашевский пожал плечами.
– Сейчас я вам все объясню. Но поскольку я привык знать, с кем разговариваю, так, может, вы мне скажете, что это за колокольчик и для чего?
Теперь на середину комнаты вышел Квецинский.
– Это, видишь ли, бронзовый колокольчик, купленный за четырнадцать грошей у торговца, чтобы звонить прислуге.
– Да ведь она не услышит его внизу.
– Ну, если Барбара не услышит, так ты услышишь или твой Валек, – не растерялся Квецинский.
– Ага! А эта гнусная мебель, которую выкинули из публичного…
При этих словах Леськевич помрачнел. Засунув руки в карманы и отвернувшись от коллеги, прозванного Лукашем, он заметил:
– Надо быть ослом, чтобы не различить стиль Людовика…
– Какой Людовик? – удивился Лукашевский.
– Маркер у Лурса, – быстро вставил Громадзкий.
Леськевич в знак презрения сложил губы трубочкой и невольно схватился за пульс, – ему показалось, что пульс бьется слишком часто, и он решил больше не принимать участия в разговоре.
– Расскажи же наконец про Валека, – сказал Громадзкий, которого очень забавлял расстроенный вид Леськевича.
Лукашевский задумался, как бы составляя план речи; потом сел на стул, опустил голову и начал:
– Вы знаете, что «Попель» служит гувернером в Ментушине.
(«Попелем», в честь великого балетмейстера, прозвали одного кандидата математики, который на протяжении тридцати практических занятий не смог научиться контрадансу и в результате был вынужден отказаться от уроков танцев.)
– Так вот, Попель, – продолжал Лукашевский, – встретил там мальчика, а именно Валека, которого все нещадно били, поскольку он оказался непригоден для деревенских работ…
– Пасти скотину… – пробормотал Леськевич.
– Да… Но зато у него обнаружились большие способности к скульптуре и механике…
– Например, к открыванию чужих замков, – вполголоса вставил Леськевич.
– Тогда Попель, – рассказывал далее Лукашевский, – занялся мальчиком, научил его читать, писать и считать… И теперь вот, во время каникул, когда он при нас проэкзаменовал Валека, панна Мария Цехонская пришла в такой восторг от его успехов, что… я решил взять парнишку в Варшаву и продолжить его образование…
– Что еще за панна Мария?.. – удивленно спросил Квецинский.
– А нам-то что за дело до какой-то панны Цехонской? – добавил Леськевич.
Лукашевский некоторое время сидел опустив голову, явно смущенный. Вдруг он вскочил со стула и воскликнул громовым голосом:
– Эх!.. с какой стати я буду с вами говорить о предметах, в которых вы не разбираетесь…
– В паннах Мариях мы разбираемся, – перебил его Квецинский. У Лукашевского сверкнули глаза.
– Ну, ну… Незабудка, только без насмешек… Панну Марию можем не трогать…
– Даже, если хотели бы, не можем… – прошептал Громадзкий.
– А вопрос, подлежащий рассмотрению, ставится так, – продолжал Лукашевский. – Есть бедный, но способный паренек, который в деревне погибнет, а в городе может стать человеком. Так вот, мы должны позаботиться об этом пареньке.
– То есть… каким образом?.. – иронически спросил Квецинский. – Пожалуй, не дожидаясь, пока его поймают на улице, сдадим его в Земледельческие колонии [11]11
Земледельческие колонии – исправительные заведения для малолетних преступников.
[Закрыть], как только он нас обворует.
– Или в больницу при первых признаках сыпи… – добавил Леськевич.
– Ах, скоты! – заорал Лукашевский, срываясь с места и так отчаянно размахивая руками, словно он намеревался расколотить стены, а товарищей выбросить за окно. – Ах, скоты! – повторил он. – Я вам оказываю милость, а вы издеваетесь?.. Теперь я знаю, что вы собой представляете, и сейчас же, сегодня же, уезжаю отсюда вместе с Валеком, чтобы не дышать одним воздухом с такими подлецами…
– Ах, змеи подколодные!.. – бушевал он, бегая по комнате. – Три года я вожусь с таким сбродом, голову дал бы на отсечение, что вы порядочные ребята, и на тебе!.. Едва представился повод, и вот уже из этой благородной молодежи вылезают ростовщики, мошенники, торгаши и всякого рода эксплуататоры… Дайте мне раствор сулемы, я смою заразу с моих рук, пожимавших ваши грязные лапы!
– Ну, чего тебе надо, Лукаш?.. – прервал его удивленный таким взрывом Громадзкий.
– Ты у меня спрашиваешь, голодранец?.. – крикнул Лукаш, в ярости топнув ногой. – Ведь ты сам не раз мне говорил, что если бы не помощь добрых людей, то стал бы ты сапожником или органистом, а так… будешь врачом. Позволь же и более молодому голодранцу не пасти скот, раз у него к тому нет охоты, и тоже добиваться права выписывать рецепты.
Пристыженный Громадзкий отступил к столику и снова взялся за переписку неразборчивой рукописи, а Квецинский заметил:
– Ну, не каждый плохой пастух обязательно должен стать хорошим врачом…
– В таком случае он сможет стать хорошим адвокатом или химиком, – возразил Лукашевский.
– Чтобы искусно подделывать водку или минеральные воды, – добавил Леськевич.
– Или стать подпольным юристом и сманивать у нас клиентов! – дополнил Квецинский.
– Не бойтесь! – раздраженно бросил Лукашевский, – прежде чем он начнет соперничать с вами в подделывании водки или подпольных консультациях, не только вас уже не будет на свете, но и кости ваши истлеют.
При упоминании о столь печальном финале Леськевич принялся растирать себе грудь, словно у него закололо в легких.
Квецинский пожал плечами и сказал примирительным тоном:
– Чего ты дуешься? Чего ты кипятишься?.. Лучше ясно скажи, чего ты хочешь?
– Я хочу, чтобы мы помогли парнишке получить образование.
– Стать врачом или юристом, – пробормотал Леськевич.
– Даже химиком по производству маргарина, мне все равно, – заявил Лукашевский.
– Значит, он сперва должен окончить гимназию, – рассудил Квецинский. – А если он слишком велик и его не примут?
– Тогда пойдет в обучение к скульптору.
– Скульпторы сами ходят босые.
– Ну, так отдадим его столяру, – решил Лукашевский, которого нисколько не затрудняли внезапные переходы от университетских вершин к низинам ремесла.
– Да… столяру… если речь о ремесле, то даже я могу подыскать ему место, – отозвался Леськевич.
– Вот видишь, – сказал Лукашевский. – Только он должен где-то жить и что-то есть.
– Жить он может у нас, – вмешался из своей комнаты Громадзкий.
– С голоду возле нас не сдохнет, – проворчал Квецинский.
– Ну, видите, видите… – говорил уже смягчившийся Лукаш. – Мне только это и нужно было… В конце концов каждый из вас в состоянии его чему-нибудь научить…
– Я буду ему преподавать немецкий, чистописание и рисование, – сказал Громадзкий, не поднимая головы от стола.
– Я могу взять на себя географию и еще что-нибудь… – добавил Квецинский.
– Ну, тогда я буду учить его арифметике, – мрачно сказал Леськевич. – Только пусть старается, иначе я ему морду обдеру и люди подумают, будто ее моль изъела.
– Отлично! – засмеялся Лукашевский. – Вот видите, какие вы славные ребята… Валек!.. Валек, сукин сын (он иначе не понимает), вылезай из кухни и поблагодари господ.
Из кухни вынырнул мальчик со встрепанными вихрами и в одежде, которую правильнее было бы назвать грязно-серыми лохмотьями. Он плохо понимал, о чем идет речь, но поскольку пан Лукашевский велел ему за что-то благодарить панов, обошел всех по очереди и у каждого поцеловал руку. При этой церемонии Квецинский расчувствовался, угрюмый Леськевич высунул руку для поцелуя на самую середину комнаты, а Громадзкий так перепугался, что отбежал от столика к противоположной стене и закричал Валеку:
– Оставь меня в покое!.. Ты ошалел?
– Ну и оборванный чертенок! – пробормотал Леськевич. – Не припомню, чтобы я когда-нибудь видел такого оборванца.
– Дырявые локти… на куртке ни одной пуговицы… А штаны, тю, тю!.. Он потеряет их здесь на лестнице, – говорил Квецинский, поворачивая мальчика во все стороны.
– Ничего ты не высмотришь, – заметил Леськевич. – Надо нам сразу же сложиться, соберем несколько рублей и купим ему костюмишко в Поцеёве.
– Понятно, – поддержал его Лукашевский.
– И не откладывая, сейчас же, – добавил Квецинский.
Услышав это, Громадзкий вскочил из-за столика, подбежал к сундуку и вскоре вернулся обратно. Покрасневший, взволнованный, он встал на пороге своей комнаты, собираясь обратиться к товарищам со следующими словами:
«Дорогие мои, все мое состояние – пять рублей с небольшим… А поскольку завтра я получу за переписку около восьми рублей, то, стало быть, дам сегодня на мальчишку… два рубля… Даже три рубля».
Так он хотел сказать, но не решался заговорить первым, тем более что от волнения у него дрожали руки и ком подступил к горлу.
– Чего тебе?.. – спросил Лукашевский, видя, что его товарищ ведет себя как-то необычно.
– Я… я… – начал Громадзкий.
– Нет у тебя денег? – спросил Квецинский.
– Напротив… я…
– Только ему жаль их, – проворчал Леськевич.
– Я… я… – давился Громадзкий.
В этот момент в передней постучали.
– Просим! – воскликнул Лукашевский. – Верно, кто-нибудь из наших…
V– Конечно!.. Милостивый пан доктор даже через стену узнает доброго человека.
С этим веселым приветствием к ним обратился некто в светлом пальто, державший в руке блестящий цилиндр. Гость был толстенький, бело-розовый, бритый, улыбающийся; и не последнее украшение его лица составляла гигантская борода, начинавшаяся на кончике подбородка и раскинувшаяся на его выпуклой груди наподобие павлиньего хвоста. Всей своей фигурой он производил впечатление херувима, которого творец слишком долго продержал в инкубаторе и позволил ему разрастись до двух центнеров живого веса.
Тот факт, что появление такого красавчика в квартире студентов не вызвало у них энтузиазма, следует приписать недостаткам человеческой натуры. Громадзкий отступил вместе со своим кошельком и побледнел так, словно увидел привидение; Квецинский смутился; Лукашевский нахмурился, и только Леськевич окинул гостя желчным взглядом и спросил:
– Откуда вы взялись?
– Ведь вы же сами, господа, назвали дату приезда доктора Лукашевского как последний срок…
– Я пока еще не доктор, – холодно заметил Лукашевский.
– Но сегодня тринадцатое сентября, опоздание на пять дней! – засмеялся гость, лаская тонкими пальцами свою фантастическую бороду.
– У вас хорошая полиция, – вставил Квецинский, по прозвищу Незабудка, – ведь Лукаш только что вылез из вагона.
– Боже упаси! При чем тут полиция? – возразил гость. – Вы так сердечно здоровались с коллегой, господа, что полгорода уже оповещено о его приезде… Что это за мальчик?.. Красивый паренек, – добавил он, потрепал мальчика по подбородку и брезгливо отряхнул пальцы.
– Просто-напросто обыкновенный Валек, – объяснил Лукашевский.
– А паспорт у него есть?
– Странный вопрос! – вмешался Квецинский. – Все равно что спросить у вас: умеют ли писать управляющие домами.
Гость широко развел свои белые руки, словно собираясь взлететь, и сказал менее сладким, зато более решительным голосом:
– В таком случае пусть этот молодой человек пришлет сегодня с дворником паспорт, а вы, господа, будьте любезны немедленно вручить мне двадцать четыре рубля. Я как раз иду к хозяину, он вызвал меня, и не сомневаюсь, что он устроит скандал из-за опоздания на пять дней… Собственно говоря, даже на двенадцать дней, потому что обычно он собирает квартирную плату по первым числам.
Лукашевский извлек кошелек, то же самое намеревался сделать Квецинский, а Громадзкий с очень озабоченным видом носился по своей комнате и, казалось, в разных ее углах искал деньги. Только Леськевич, видимо обеспеченный большими капиталами, сел верхом на лилово-красное кресло и, опершись на поручни, насмешливо спросил:
– Почему же ваш хозяин такой педант? Неужели он не может еще с недельку подождать денег за квартиру?..
Громадзкий насторожился; мысль о недельной отсрочке взноса показалась ему необычайно удачной, невзирая даже на то, что сформулировал это предложение его враг, Леськевич.
Красавец управляющий стал пунцовым, как кресло.
– Побойтесь бога, господа! – воскликнул он. – Не навлекайте на меня гнев хозяина! Клянусь…
– Да на что ему столько денег?.. – допытывался Леськевич.
– Неужели вы не понимаете?.. Во-первых, налоги, во-вторых, ремонт дома…
– Когда? Где? – раздались голоса.
– А газ, а водопровод, и опять же канализация… Господа, – продолжал управляющий, – сколько пожирают у нас денег проклятые земляные работы… Ну, хотя бы эта старая история – когда на Крулевской ураган (именно из-за канализационных труб) прорыл такую воронку, что, клянусь богом, в нее можно было вогнать пол-Варшавы…
– Ого!
– Пол-Маршалковской улицы…
– Ну, ну!..
– Ладно, пусть только пол-Крулевской, все равно чудовищный расход… миллионы! – продолжал красавец управляющий, сверкая глазами.
– Сдается мне, что вы немножечко тарарабумбияните, – вставил Квецинский.
– Как? – удивился управляющий.
– Ну, немножко привираете. – объяснил Леськевич.
Гость так энергично взмахнул руками, что едва не выронил блестящий цилиндр.
– Эге!.. – с негодованием воскликнул он. – У вас, господа, в голове шуточки, а у меня неприятности…
– Ну, давай уж, давай, Селезень, шесть рублей, – прервал управляющего Лукашевский. – Громада, не потерял ли ты, случайно, ключ от своей кассы?
– Сейчас!.. Сейчас!.. – ответил Громадзкий. Чувствовалось, что он очень удручен.
И, подойдя к окну, он так широко раскрыл свой потрепанный кошелек, словно собирался исследовать под микроскопом его содержимое. Сперва он достал три рубля, потом рубль, опять рубль, и, наконец, из разных тайничков выбрал мелочь, бормоча:
– Шестьдесят копеек, семьдесят копеек, семьдесят пять копеек, вот и целый рубль!.. – заключил он, и в голосе его было больше грусти, чем ликования.
Теперь нужно было собрать все кредитки в одну кучку, обменять мелочь на рубль и вручить управляющему, – эту миссию взял на себя Лукашевский. Свою задачу он выполнил быстро и точно, хотя без свойственного ему размаха; возможно, это объяснялось тем, что состояние духа товарищей в тот момент было удивительно торжественным.
– Ну, кажется, вы удовлетворены, – сказал Квецинский.
– Ах, господа! – вздохнул управляющий, поспешно пряча деньги. – Всякий раз я отправляюсь к вам за квартирной платой с таким чувством, как будто мне предстоит рвать зуб… Мое почтение… А что касается мальчугана, то попрошу сегодня…
И он стремительно кинулся к двери, а потом с громким топотом сбежал по лестнице.
– Я думаю, – сказал Леськевич, кивнув в сторону Валека, – что наш молодой ученый нескоро получит костюм, даже из Поцеёва.
– Может, пойдем перекусим? – предложил Лукашевский. – Половина первого… мы ничего не ели… Ты тоже голоден?.. – спросил он у Валека.
– Голоден, сударь, – ответил Валек.
– Сообразительный парень и смелый, – заметил Квецинский.
– И сверх всего оборванный, – проворчал Леськевич, сурово глядя на мальчика, который, впрочем, уже начинал ему нравиться.
– Ну, Селезень, одевайся… Громада, пойдешь с нами? – спросил Лукашевский.
– Я сегодня обедаю у знакомых, – с неестественным оживлением ответил Громадзкий и снова взялся за переписку.
А Леськевич тем временем снял пиджак, с минутку подержал его за воротник и неожиданно сказал, обращаясь к мальчику:
– Ну-ка, надень… Не так, осел, не в тот рукав… Правильно… Фу ты, какой у этой бестии вид!.. Если бы не рваные штаны, его можно было бы принять за юного графа…
Хотя пиджак Леськевича сидел на Валеке как мешок, мальчик гордо поглядывал на длинные рукава и сильно топорщившийся перед.
– На штанах следы моровой язвы, – задумчиво произнес Лукашевский.
– Погодите-ка! – вскричал Квецинский. Он с грохотом открыл шкаф, залез в него и немного погодя извлек на свет божий ту часть костюма, которая составляла гордость мужского племени и предмет никогда не угасавшей зависти женщин.
– Попробуй… примерь!.. – потребовал он от мальчика, на веснушчатом лице которого засияла улыбка.
Примерка пепельно-серых брюк с высокого мужчины маленьким мужчиной привлекла всеобщее внимание. Даже Громадзкий оторвался от переписки и с видом знатока стал отпускать меткие замечания.
– Слишком длинны, – говорил он, – на четверть локтя… О!.. Широки на ладонь…
– Надо показать портному, – вмешался Лукашевский.
– При чем тут портной?.. – возмутился Громадзкий. – Штанины надо подрезать настолько… О!.. Сзади вырезать клин, вот такой!.. о!.. Хлястики переставить, один конец сюда, другой туда… и всюду сшивать двойной ниткой. Ведь он молодой парень; железо на нем лопнет, не то что одинарная нитка… Но Барбария может это сделать лучше всякого портного.
– Барбария!.. – заорал Квецинский, хватая колокольчик и подбегая к окну. – Барбария!..
– Мама ушла в город, – как из колодца, ответил за окном тонкий голосок.
– Послушай, Громада, ты еще долго здесь пробудешь? – спросил Лукашевский.
– До трех… У меня званый обед в три… в частном доме.
– Вот напасется вволю, – сказал Квецинский.
– Как на картофельном поле, – проворчал Леськевич.
– Значит, мы поступим так, – сказал Лукашевский, – я оставлю тебе, Громада, сорок грошей, а ты позови Барбару, дай ей тем временем брюки и расскажи, что надо с ними сделать. Можешь также упомянуть насчет двойной нитки, это хорошая мысль; но прежде всего сунь рабыне в зубы сорок грошей, чтобы она сейчас же взялась за работу. Вероятно, сегодня мы с малым поедем в театр, стало быть, его надо снарядить, как для выпускного экзамена. Вот тебе брюки, вот сорок грошей, и заставь Барбару кончить до вечера.
– Позвольте!.. – сказал угрюмый Леськевич. Заметив, что монета новенькая, он взял ее со стола и положил на ее место монету с дыркой. – Для задатка и такая хороша, – добавил он.
– А теперь в путь, – заторопился Лукашевский, видя, что оба товарища стоят уже в шапках. – Знаешь, куда мы идем? – спросил он у мальчика. – Обедать в ресторан… Будь здоров, Громада; и если тебя угостят чем-нибудь вкусным, думай о нас за едой.
И они ушли, а с ними паренек, в непросвещенном сознании которого слово «ресторан» превратилось в «рестант» и вызвало воспоминание о гминной тюрьме, где взрослые в наказание отсиживали по нескольку суток, а с малолетними войт справлялся в течение десяти минут, но тоже при закрытых дверях.
Во дворе студенты столкнулись с посыльным; увидев их, он достал из сумки письмо и протянул Лукашевскому со словами:
– Пан Квецинский…
Лукашевский в первое мгновение испытал такое сладостное чувство, словно его окатили теплой водой. Но когда он услышал фамилию товарища, и особенно после того, как прочел на конверте адрес, сделал кислую гримасу и, небрежно передавая письмо, сказал:
– Это тебе, Незабудка…
Квецинский, казалось, испугался. Широко раскрытыми глазами он пробежал письмо, смял его и пробормотал:
– А чтоб этих баб холе…
– Что же это?.. Теклюня?.. – спросил Леськевич, не удержался и невольно подмигнул.
– Валерка! – проворчал Квецинский.
– Ты слышал?.. – удивился Лукашевский, глядя на Леськевича. – Ему так везет, и он еще злится…
– Чересчур везет!.. – возразил Квецинский, с отчаянием махнув рукой.
Леськевич потер себе бок, а шагавший рядом со студентами мальчик, видимо, был в полной растерянности, ибо он не знал, на что глядеть, – то ли на многолюдную и шумную улицу, то ли на прекрасный пиджак, который заменил ему пальто.







