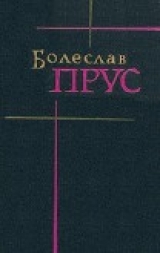
Текст книги "Том 2. Повести и рассказы"
Автор книги: Болеслав Прус
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 43 страниц)
– Ни за что не угадаете, пани, что со мной было нынче ночью! Еще немного – и вы бы меня больше никогда не увидели… Но… Доброе утро! Извините, я так взволнован, что забыл даже поздороваться.
Он поцеловал у мамы руку, меня погладил по голове и сел.
– Ну, так что же такое с вами приключилось? – спросила мама, с недоумением глядя на него.
– Самый необыкновенный случай, какой только можно себе представить, – отвечал кассир.
И вдруг заискивающе улыбнулся и перебил сам себя:
– Можно попросить стакан воды?
– А не хотите ли чаю?
– С превеликим удовольствием.
– Может, подлить араку?
– Вы так любезны… Тысяча благодарностей!
Кассиру тотчас принесли чаю с сахаром и араком, он отпил из чашки, долил араку, сделал еще несколько глотков, снова долил раз и другой, и наконец приступил к рассказу:
– Вы слышали, пани, что сегодня ночью здесь проходили войска?
Мама утвердительно кивнула.
– Масса войска, масса!.. Пехота, кавалерия, пушки!.. – Он понизил голос. – Пушки такие большие, что их лошади едва тащили.
Я вспомнил тот шум – как от движения чего-то очень тяжелого, – который слышал этой ночью.
– Да, множество солдат и пушек, – продолжал кассир, запивая каждую фразу чаем. – Я уже спал. И снилась мне, – прибавил он небрежно, – та битва, в которой я особенно отличился. Вдруг просыпаюсь, слышу: идут войска! Я вскочил. Хладнокровия не теряю, но говорю себе: «Ну, моя песенка спета!» Вы же знаете, пани, – добавил он тише, – какой я занимаю пост. Если бы меня схватили…
Последние слова кассира были полны скорби. Было ясно, что он очень себя жалеет.
– Разумеется, первым делом следовало уничтожить все следы… Хватаюсь за бумажник, где храню свое удостоверение, в потемках нахожу его и… проглатываю эту бумажку!
Ну, думаю, теперь – никаких доказательств! И спокойно засыпаю. Да, верите ли, пани, преспокойно спал до утра.
Кассир потряс головой и опять долил в чашку араку.
– И можете себе представить, – он понизил голос, – встаю утром, хочу достать деньги, чтобы послать слугу в булочную, раскрываю бумажник и в первом же отделении нахожу – знаете что? Мое удостоверение! Да, это самое!
Он действительно держал сейчас в руках памятную мне голубую бумажку.
– Я так и обмер, пот меня прошиб. Боже, что, если бы ночью пришли с обыском! И знаете, что я проглотил вместо этого злосчастного документа?
Он посмотрел на маму, потом на меня.
– Трехрублевку! Да, проглотил последнюю трехрублевку, которая мне была очень нужна, а осталось удостоверение, которое могло меня погубить!.. Приди они с обыском – конец! Да, опасность таилась под окном, подошла вплотную… Целых полчаса жизнь моя висела на волоске!
Пан кассир, кажется, был близок к обмороку при одной мысли о грозившей ему беде. А я почему-то сожалел, что он не проглотил своего удостоверения.
– Да, любопытный случай! – отозвалась мама.
– И вы, пани, говорите об этом так спокойно? – удивился кассир.
– Да вы же ничуть не пострадали.
– Но мог… мог пострадать!
Он хотел еще что-то сказать, но только потряс головой. Потом отвел маму к печке и там заговорил шепотом. Кажется, речь шла о проглоченных трех рублях. Дело было, видимо, настолько секретное, что кассир даже вышел с мамой в другую комнату.
В полдень появился пан Добжанский. Мама выбежала к нему навстречу.
– Слышали… сегодня ночью?
Учитель кивнул головой.
– Множество солдат… уйма! – говорила мама. – Шли с трех сторон.
Пан Добжанский усмехнулся.
– Все в порядке, – сказал он, и его веселый тон подействовал на маму.
– Ну, Антось, за работу! Отвечай, что задано.
Я начал читать выученное мною стихотворение:
В лунную ночь по равнине цецорской,
Где Жолкевского тяжкий постиг удел,
Ехал храбрый Сенявский, хмур и печален.
Голубыми глазами жестоко он…[10]10
В лунную ночь по равнине цецорской… – отрывок из «Думы о Жолкевском» польского поэта Юлиана Урсына Немцевича (1757–1841) (Цикл «Исторические песни»). Станислав Жолкевский (1547–1620) – выдающийся польский полководец, во время польско-турецкой войны 1620 года был командующим польскими войсками. В Молдавии под Цецорой польские войска под его командованием и запорожские казаки столкнулись с численно превосходившей их турецкой армией. Началось отступление польских войск. В октябре большая часть польского войска и сам Ст. Жолкевский погибли в сражении близ Могилева. Сенявский – великий коронный гетман, один из претендентов на польский престол после отречения (в 1706 г.) Августа II.
[Закрыть]
В эту минуту стекла в окнах задребезжали.
– «Голубыми глазами, – продолжал за меня учитель, – жестоко он ранен и навеки лишился покоя». Отчего же ты не кончаешь?
Стекла снова задрожали.
– Ну, куда ты смотришь? Опять на что-то зазевался! – сказал учитель, он, видимо, ничего не заметил.
– Кто-то ходит по крыше, – сказал я ему, смущенный не его вопросом, а новыми, не слышанными прежде звуками.
– Ходит по крыше? – Учитель поднял голову.
Стекла снова сильно задребезжали.
– Нет, это не на крыше, – решил я. – Это что-то сбрасывают…
– Что? Где? Бредишь!
– Да вы смотрите – окна дрожат…
Учитель в ужасе вскочил со стула.
– Что ты говоришь, мальчик? – Он схватил меня за руку. – Ну, где же они дрожат?
– Дрожат, пан.
– Выдумываешь!
– Нет, пан, слышу…
Он взял меня за другую руку.
– Ну, сознайся, – сказал он. – Ты не выучил стихотворения и теперь пугаешь старого учителя… Это гадко!
Я смотрел на него удивленно, решив, что он с ума спятил. Ну, трясутся стекла – что тут особенного?
В эту минуту вошла мама.
– Беда, пан Добжанский! – сказала она встревоженно.
Теперь задрожали уже и стены, а стекла дребезжали вовсю.
Учитель отошел от меня.
– Бой идет, – промолвил он глухо. И сел на мой стул, упираясь руками в колени.
На дворе поднялся галдеж. Мы побежали туда. Наш работник и служанки разговаривали с каким-то евреем, который ехал на своей таратайке из города. Он указал кнутом в сторону одинокой хаты, крикнул: «Там, там!» И погнал дальше худую лошаденку, которая была вся в мыле.
– Там! Там! – повторил за ним работник, указывая на лес, темневший на краю горизонта.
– Господи Иисусе! – причитала нянька.
Я полез на чердак и выглянул наружу. Ничего необычного. Несколько белых облаков на краю неба, а ниже – синий лес, выгон, на котором бродят черные и рыжие коровы. Над ольховой рощей летит аист, возвращаясь к себе в гнездо, – и больше нигде ничего не видно. Солнце светило, как всегда, воздух был неподвижен, только порой с юга дул теплый ветерок. День стоял тихий, даже птицы молчали, не нарушая безмолвия.
Но вот опять дрогнули стены, раз, другой, третий. Я посмотрел в сторону местечка. Там люди вышли из домов и, стоя на пороге, прислушивались.
«Значит, это и есть война? – подумал я. – Ну, и ничего страшного, я бы тоже мог воевать».
Вниз я не сходил, рассчитывая, что учитель забудет про меня и от урока сегодня удастся отвертеться. Но пан Добжанский неожиданно кликнул меня.
– Ну-с, – сказал он, силясь овладеть собой. – Каждый делает то, что ему полагается. И мы с тобой вернемся к нашим занятиям.
Он сел и приказал мне читать стихи с начала, но вдруг передумал и стал линовать тетрадь. Он хотел написать мне первую строку, но перо не держалось в его трясущейся руке. И он сказал, чтобы я сам переписал стихи из книжки.
Я принялся за работу, а учитель шагал из угла в угол. Каждую минуту он подходил к окну и прислушивался, а порой бормотал:
– Это арьергард… Убрались… Их уже и не слыхать… Правда, ничего больше не слышно? – спросил он меня.
Я подумал, что учитель мой, видимо, совсем оглох: ведь не только оконные стекла по-прежнему то и дело дребезжали, – теперь в комнате был отчетливо слышен еще отдаленный гул, как будто сбрасывали бревна с воза.
Наконец, эти отголоски стали настолько громкими, что их услышал и учитель. Схватив свою трость и шляпу, он сказал мне:
– Урока не будет, можешь убрать книги в ящик.
На дворе стояли моя мать, почтмейстер и кассир. Почтмейстер вооружился длинной подзорной трубой. Кассир имел очень довольный вид.
– Вот теперь все могут убедиться, что я чертовски хладнокровен, – говорил он, беспокойно переминаясь с ноги на ногу. – Ничуть меня все это не волнует. И таков я всегда перед лицом опасности.
– Да вам, кажется, никакая опасность и не грозит, – сухо отрезала моя мама.
– Кто знает? Всем нам, может быть, грозит…
Не договорив, он закашлялся и умолк.
– Ничего отсюда не видно, – сказал почтмейстер, приставив к глазам свою подзорную трубу. – Придется лезть на чердак…
– Я вас туда провожу! – воскликнул я.
Мы поднялись наверх и почтмейстер тотчас поднял к глазам трубу. Однако он очень скоро опустил ее, протер платком стекла изнутри и снаружи и только тогда стал смотреть вдаль.
– Вы что-нибудь видите? – спросил я, сгорая от любопытства.
– Вижу… Пшеницу… Лес, а за лесом… нет, отсюда дальше леса ничего не видно.
– А с колокольни вы бы наверняка увидели.
– Правильно! – воскликнул почтмейстер, – блестящая мысль, мой милый!
И побежал вниз.
А внизу кассир говорил моей маме:
– Верьте слову, в мыслях у меня сейчас такая легкость, хоть пляши. Все, что творится, мне даже интересно и, пожалуй, немного забавляет. Вот когда я убедился, что опасность – моя стихия… Бац!.. Бац!.. Ах, что за музыка!
В эту минуту во двор к нам вбежала жена почтмейстера.
– Ах, какое несчастье! – сказала она маме, поцеловав ее дважды. – Страшный день… Я и жена бургомистра уже укладываемся, а майорша легла и велела, чтобы ей закрыли голову подушками. Слышите стрельбу? Боже, да я бы умерла от ужаса, если бы к нам влетела пуля!..
– А где же мой муж? – спохватилась она вдруг. – Верите ли, он хотел туда ехать, чтобы все увидеть! Бессердечный! Я заклинала его нашим семейным счастьем и объявила, что только через мой труп он туда поедет – вот он и остался. Да что толку? Схватил подзорную трубу и смотрит! А я бы умерла, если бы в нее хоть разок заглянула! Экий грохот! Сердце замирает, когда подумаю, что там сейчас гибнут люди… Какое счастье, что это так далеко…
Гибнут люди? От этих слов у меня мороз пробежал по коже. До этой минуты мне и в голову не приходило, что доходившие до нас глухие отголоски могут означать смерть.
Я однажды видел утопленника, паренька немногим старше меня, – и несколько дней он стоял у меня перед глазами, заслоняя все. Теперь я вспомнил его, и мне показалось, будто я вижу двух… трех… десять… сто таких мальчиков в раскрытых на груди рубахах, вылинявших куртках, с опухшими лицами.
Воздух наполнили новые звуки. Слышен был немолчный шум, словно сыпали горох на железный лист, а по временам – как бы отрывистый сердитый лай гигантских псов: гав, гав, гав! И все чаще проходили у меня перед глазами образы мертвых мальчиков. Глубоко опечаленный, я невольно стал под окном на колени и зашептал молитву.
Во дворе снова послышались голоса. Разговаривали бургомистр, мой учитель и мама.
– Роковой день! – говорил бургомистр. – Но мы все же не падаем духом.
– Ох, лучше бы я не дожила до него! – отозвалась мама. – Брожу как очумелая, места себе не нахожу. Мне кажется, что это длится не два часа, а целые годы, что этому не будет конца…
– Мне тоже, – пробормотал учитель. – Да, состарился я, видно, если при громе пушек теряюсь, как баба.
– А странно! – бургомистр приложил ладони к ушам, – бой как будто идет теперь ближе…
– Это скверно! – сказал учитель.
Примчался кассир. Он уже издали кричал:
– Ну, пан председатель, я уезжаю с женщинами… Здесь может разыграться трагедия… Почтмейстер говорит, что они подходят…
– Что ж, уезжайте, – в сердцах сказал бургомистр. – А я с места не двинусь.
– Но вы должны ехать с нами… Едет ваша супруга и дочки…
– Нет, моя семья останется здесь со мной. Негоже бургомистру удирать в такой момент.
– Пан председатель…
– Ах, оставь меня в покое! Тебе, пан, можно спасать свою шкуру, – ведь ты большой человек. А я…
Я выглянул в окно. Бургомистр был красен и так размахивал руками, что у него фуражка съехала набок. А кассир имел весьма жалкий вид, даже ноги его казались тоньше обычного.
Отголоски битвы слышались все ближе, но я уже привык к ним, и мне казалось, будто это было всегда и так быть должно.
К двум часам я проголодался, и, так как сегодня обеда не готовили, нянька вскипятила воду, положила в нее соли, масла, накрошила туда хлеба… Я ел этот «суп» и думал, что сегодняшний день даже хуже страстной пятницы, – тогда к обеду бывает по крайней мере подогретое пиво и селедка с картофелем, а не эта вода с хлебом!
Я как раз подносил ложку ко рту, когда дом вдруг затрясся от грохота, несравненно более страшного, чем прежний. Должно быть, в бой вступили какие-то новые силы. Я от испуга даже пригнулся к столу, а нянька с воплями заметалась по комнате. Казалось несомненным, что уже очень близко, тут же за нашим садом, идет частая и оглушительная стрельба.
Моя няня окончательно потеряла голову. Торопливо вынув из комода несколько серебряных ложек, она завернула их в свой передник, затем потащила меня к двери, крича:
– Пойдем в погреб, здесь смерть! Убьют нас с тобой… всех убьют… слышишь?
Но я вырвался, и старуха убежала одна, громко молясь.
Грохот был такой, как будто валились все дома в местечке. Голова у меня горела. Но через минуту волнение сменилось каким-то каменным спокойствием. Без страха всматривался я теперь вдаль, за луга. Но там ничего не было видно.
Прибежала заплаканная Стахурская, спрашивая, где моя мама.
– Пойдите-ка, пани, поглядите, что творится в городе! – закричала она, увидев маму. – Люди с ума сходят… Ох, пропадем мы все из-за них!
Я тоже хотел идти с мамой, но она велела мне остаться дома и ушла на площадь.
В доме не было ни души. Работник Валек и самая молодая из служанок полезли на крышу амбара, надеясь увидеть бой, а кухарка и няня Лукашова укрылись в леднике.
– Горит! Прощайте, уходим! – кричали на улице.
Не помню, как и когда я очутился опять на чердаке. Со стороны леса мощной волной плыл к нам какой-то непрерывный треск, и каждый миг в него врывались как бы раскаты грома – казалось, в этот ясный летний день где-то бушует гроза. Один удар, потом два… опять один… три… Пауза… опять два.
Из-за леса поднимался к небу столб дыма. Он постоял высоко над деревьями, потом начал расходиться направо и налево и стал похож на огромный гриб с черной ножкой и красной шляпкой. С перелогов, спасаясь бегством, мчалось стадо. Во дворах лаяли и выли собаки. От костела несся колокольный звон, прерывистый, тревожный, как набат, когда язык колокола бьет все время по одному месту. Несколько минут звонили без передышки, но вдруг колокол утих, потом прозвонил еще раз-другой – и все. Казалось, кто-то мешал звонарю, силой вырывая у него веревку.
Сверху я видел улицы нашего местечка. На многих крышах сидели люди, из домов выносили постель, сундуки. На рыночной площади евреи толпились у магистрата, несколько женщин стояли на коленях перед статуей святого Иоанна, а посреди площади происходило что-то непонятное: там толпа горожан (среди них был и сапожник Стахурский, и колбасник Владзинский) спорила о чем-то с бургомистром, паном Добжанским и моей матерью. Толпа двинулась было к тракту, но там ксендз загородил им дорогу. Несколько человек вскочили в телегу, и телега тронулась. Но мой учитель уцепился за вожжи, повис на них и с такой силой повернул лошадей, что телега опрокинулась.
Тогда вся толпа бросилась вперед. Она отшвырнула в сторону ксендза, сбила с ног бургомистра и с криками побежала по дороге. Их крики мешались с грохотом и треском со стороны леса, и от сотрясения лопались стекла в окнах.
Внезапно шум утих. Через минуту еще донесся гул, сначала близкий, потом уже отдаленный, – и наступила такая тишина, как будто все на свете замерло, онемело…
Толпа бегущих остановилась на дороге, прислушиваясь. Тут с крыши что-то крикнули – я не расслышал, что именно, – и вся толпа, только что такая буйная, стала в испуге разбегаться. Через несколько минут не осталось никого, опустела площадь, улица, все крыши.
К вечеру часть неба заволокли тучи, полил дождь. У нас в нескольких окнах были выбиты стекла, и мать распорядилась закрыть ставни. Слуги, собравшись на кухне, толковали о событиях этого дня, а мы с мамой сидели в комнате на диване. Здесь было темно, и только сквозь щели в ставнях проникали багряные лучи заходящего солнца.
Мы оба молчали. Мама была очень утомлена. Она сидела, закрыв глаза и прислонясь головой к спинке дивана. Я тоже впал в какое-то оцепенение. Вслушиваясь в тишину, я тщетно пытался оживить в памяти то, что видел и слышал совсем недавно.
Иногда я готов был поверить, что все это мне только померещилось. Но уже через минуту-другую красные блики заката на стенах напоминали о крови, пролитой где-то неподалеку от нас.
На улице послышался конский топот и лязг, – можно было подумать, что несколько всадников галопом проскакали по направлению к городу. Я поднял голову и… снова услышал те же звуки, что накануне ночью: шарканье ног, тарахтенье тяжело нагруженных возов, стук бесчисленных копыт. И весь этот шум покрывало жужжанье голосов, словно говор тысяч людей, а в него порой врывался смех или гневный окрик.
Эта волна звуков постепенно приближалась к местечку. Вот она докатилась до наших огородов, миновала гумно… Она уже под самым домом! Раздалась громкая команда, многократно повторенная эхом, и все утихло. Но через минуту дом снова затрясся весь от крыши до основания. Засвистели дудки, загудели барабаны, из тысяч грудей рванулась песня… Казалось, будто неведомые силы природы вырвались на волю, сметая все преграды, будто плачут все осенние ветры, будто небо обрушило на землю грозу и она бушует, мощная и стремительная.
По временам хор замолкал, и тогда слышен был резкий дискант запевалы и сердитая чечетка барабана. Но сейчас же взрывался новый ураган звуков, колотился в двери и окна, издеваясь над людскими страданиями, терзал землю и разбивался о небо. В кроваво-красном полумраке комнаты мне чудилось, что святые на образах, висевших на стенах, дрожат и оторопело смотрят на меня.
Видеть их глаза, слышать все эти звуки за стеной было невыносимо. Я спрятал голову под передник матери, заткнул уши и, сам не зная отчего, заплакал слезами горькими, как полынь, лившимися словно из глубины сердца.
Поздно вечером пришел пан Добжанский. У него был очень скверный вид – впрочем это, может быть, только казалось в тусклом свете сальной свечки. За последние несколько часов он как будто осунулся, похудел, волосы у него были взъерошены. Он вначале сидел молча, свесив голову на грудь, но потом, видя, как мама печальна, стал рассказывать новости. Голос его звучал хрипло и как-то вяло.
Мы узнали, что войска еще час назад ушли из города, что майорша захворала, а почтмейстер, так ничего и не увидев в свою подзорную трубу даже с колокольни, поссорился с женой из-за того, что она не дала ему поехать и на месте наблюдать битву.
Любопытные подробности услышали мы о кассире. Под конец он совсем уже потерял голову и решил переодеться евреем или женщиной. Когда же Стахурский и Владзинский бросились бить в набат (впрочем, их очень скоро прогнали с колокольни ксендз и органист), кассир спрятался в подвале магистрата. И только после того как все стихло, он вышел из своего убежища с самым невинным видом и стал уверять всех, что только в шутку притворился испуганным.
Однако его безоблачное настроение продолжалось недолго. Кто-то из горожан прибежал с вестью, что подходят новые войска. Это привело кассира в такое смятение, что он убежал из местечка и до сей поры не вернулся.
– Куда он мог деваться? – недоумевала мама.
– Люди видели, что он бежал куда-то за ваш сад. Наверное, засел в овраге, там и проспит до утра.
– Сумасшедший! – сказала мама, пожимая плечами.
Учитель махнул рукой.
– Осел и трус, а при этом непременно хочет прослыть героем. Боится и тех и других. Чтобы себя обезопасить с одной стороны, выклянчил справку о каком-то назначении, а теперь и она ему спать не дает. Воображает, что он – знаменитость и что только за ним и гонятся, потому он и прячется все время в подвалах и оврагах. У этого субъекта слабая голова, заячья душонка, а спеси хоть отбавляй. Самый опасный тип людей! – добавил учитель словно про себя.
Последние слова учителя меня встревожили. В них слышалась угроза, предсказание новых бед, страшнее всего того, что пережили мы до сих пор.
Час был поздний, и пан Добжанский несколько раз уже порывался уйти, но мама его удерживала.
– Побудьте с нами еще немного, – говорила она. – Днем я кое-как крепилась, а сейчас так расстроена, что всего боюсь. Посидите у нас!..
И учитель оставался. Кукушка на часах прокуковала одиннадцать, и свеча уже догорала, когда на крыльце послышались шаги.
– Наверно, пан кассир вернулся с прогулки! – буркнул учитель.
Дверь отворилась и вошел… человек из одинокой хаты. Когда он, переступив порог, поднял седую голову, он показался мне великаном.
– Слава Иисусу, – сказал он, здороваясь.
Никто ему не ответил. Его приход в такой день и час был очень уж неожиданным.
Вошедший долгую минуту смотрел в упор на учителя, пока тот не опустил глаза. Затем обратился к моей матери:
– Я привел к вам гостя, – сказал он приветливо.
Я подумал: «Уж не отец ли покойный встал из могилы и пришел к нам с этим страшным человеком?»
А мама хотела что-то ответить, но только рот открыла и поглядела на него с удивлением.
В темных сенях за спиной старика стоял еще кто-то.
– Гость ваш немного… того… нездоров, да это пустяки, – продолжал старик. – Он ранен, но…
– Владек! – вскрикнула мама и, широко раскинув руки, выбежала в сени.
– Да, мама, это я, – отозвался мой брат.
Он вошел в комнату, и я увидел, что голова и левая рука у него обмотаны тряпками.
Мама хотела его обнять, но вдруг упала на колени и прильнула к его ногам.
– Сыночек мой… дитятко! – зашептала она. – Ты жив!.. Ты ранен… Ох, как я тут настрадалась, как тосковала по тебе… Жив, жив! Теперь уж не отпущу тебя из дому, будь что будет… Ненавижу проклятую войну! Сегодняшний день вымотал мне всю душу.
– Что ты делаешь, мама! – говорил брат, тщетно пытаясь здоровой рукой поднять ее с колен.
Его седой спутник дотронулся до плеча мамы.
– Дайте ему отдохнуть, пани. Он устал.
Мама сразу выпрямилась, как натянутая струна.
– Да, да, правда!
Но тут же схватила здоровую руку брата и стала ее целовать.
– Мама! Мама! – твердил Владек, пытаясь отнять руку. Но видно было, что он совсем без сил.
Наконец старик бережно отстранил маму, обнял брата за талию и довел его до дивана.
– Дайте ему рюмку водки, – сказал он маме. – Ему надо подкрепиться, а у меня в хате водки не нашлось.
Учитель бросился к буфету, налил рюмку водки и принес ее брату. Владек выпил залпом.
– Ух, сразу полегчало, – сказал он. – Вы обо мне ничуть не беспокойтесь. Я ведь медик и в ранах хорошо разбираюсь. Через месяц буду здоров…
– Но больше никуда не пойдешь! – воскликнула мама.
– Разумеется, – отозвался он с легкой усмешкой, глядя на свою руку. Потом добавил, указывая на старика:
– Вот кого благодари, мама! Я бежал, спасаясь от погони, и около оврагов упал без сил, а он меня поднял, привел к себе в хату, и – не знаю уж, как ему удалось спасти меня. Его собственная жизнь висела на волоске – солдаты стояли у двери и кричали: «Он, наверное, тут спрятался!..» Это чудо какое-то, что они ушли…
Все мы посмотрели на седого, а он промолвил:
– Чудо это объяснить нетрудно. Я сказал офицеру: у меня никто не станет искать убежища, потому что меня называют шпионом… Офицер проворчал: «Подлец!» – и сразу увел своих солдат. Боялся, видно, как бы кто из них не ступил на мой порог… Вот как я сотворил это чудо, – заключил старик, тряхнув головой.
– Господь зачтет тебе это и простит старые грехи, – глухо отозвался учитель.
Старик вдруг резко выпрямился.
– Грехи? – переспросил он, пристально глядя в глаза пану Добжанскому. – Пятнадцать лет я несу бремя какой-то неизвестной вины. Может, ты, мой бывший товарищ, хоть сейчас наконец скажешь мне: перед кем я виновен и в чем?
Мы служили вместе, помнишь? И отличались оба в одинаковой степени… А когда пришлось покинуть родину, я натерпелся в десять раз больше, чем ты и тебе подобные… Так отвечай же мне: с какой стати ты берешь на себя роль моего духовника и обещаешь отпущение грехов? Каких? Назови мне хоть одного человека среди ныне живых или уже умерших, кто пролил хоть одну слезу из сочувствия ко мне?.. Ничего, что здесь есть свидетели, – добавил он, указывая на мою мать и брата. – Напротив, это даже хорошо, – пусть они знают, что им обо мне думать.
Мой учитель сделал шаг вперед.
– Да, это правда, мы служили вместе, – сказал он. – И ты показал себя человеком одаренным и храбрым. Но позднее, в эмиграции, в тебя словно бес вселился…
– Ну-с, и что же этот бес со мной сделал?
– Ты сеял среди нас смуту… Ослаблял дух…
– Ага, вот оно что! – сказал старик со вздохом. – Я ослаблял дух, зато вы его укрепляли! Вы заверяли людей, что французы придут к нам на помощь, – я же твердил, что не придут. Ну, и кто был прав? Помогли нам французы? Вы верили, что восстанут все пятнадцать миллионов польских крестьян, а я в это не верил. Где теперь эти миллионы? Вы кричали, что победите, даже если с голыми руками пойдете против ружей, с ружьями – против пушек. Я же убеждал вас, что сотня ружей – это большая сила, чем тысяча голых рук. Вы меня перекричали, заткнули мне рот. Ну, вот вам теперь доказательства!..
Он указал на окровавленный платок, которым была повязана голова Владека.
Учитель потупил глаза. Мама, прижавшись к брату, вся дрожала, а у меня было такое чувство, словно я присутствую на Страшном суде, где судятся эти два старца.
– Так это вы называете изменой? – продолжал наш гость запальчиво. – Честно высказывать свои убеждения – обязанность каждого гражданина, и только вы объявили это преступлением. Знаю, ты скажешь, что несогласие с волей большинства разрушает общественную дисциплину. Да разве вы – большинство? Вы были только партией. Вы представляли одну точку зрения, я – другую, однако я же вас не называл изменниками!
– Ну, твое несогласие с нашей точкой зрения – это пустяк, – пробормотал учитель. – Хотя, надо сказать, оно оттолкнуло людей от тебя…
– Пустяк? – повторил гость. – Однако из-за этого «пустяка» вы все отшатнулись от меня в эмиграции, а когда я вернулся в Польшу, объявили меня шпионом…
– Не из-за этого…
– Не из-за этого? – сжав кулаки, закричал старик. – А из-за чего же? Как ты смеешь еще и сейчас пинать меня, несчастного, в котором уже убили душу? Ведь я тебя раненого вынес когда-то из боя… В Париже делился с тобой последним куском хлеба. И вот чем ты мне платишь!
– Да, ты нас поддерживал, это верно, – сказал учитель. – Помогал нам даже очень щедро. Но… – Голос учителя упал до шепота. – Откуда у тебя были эти деньги?
Старик неожиданно стал спокойнее. Он потер лоб, словно что-то припоминая.
– От воинского жалованья ты отказался, – продолжал учитель.
– И сторонился всех, никого к себе не звал. Так? – подсказал старик с язвительной усмешкой.
– Да, ты нас избегал. И, кроме того… мы знали, что живешь ты на разных квартирах, дома не ночуешь. Тебя встречали переодетым, в одежде чернорабочего…
Старик горько рассмеялся.
– Значит, вы следили за мной? А я и не знал! И ни один из вас меня не предостерег, ни один не спросил, чем я занимаюсь! Даже те, кто пользовался моими «подозрительными» деньгами…
– Но ты же знаешь – мы в конце концов перестали брать их у тебя.
– Да. И, перестав, не замедлили объявить меня предателем!
Он подошел к учителю и хлопнул его по плечу.
– А знаешь, почему у меня водились деньги, хотя я не брал положенного мне жалованья солдата? Я зарабатывал эти деньги тяжелым трудом, работая по ночам… Ведь меня учили только воевать, я ничего не умел делать… И, чтобы не умереть с голоду, пришлось стать… тряпичником.
Учитель смотрел на него чуть не в ужасе.
– Да, да, и от вас это нужно было скрывать, – говорил старик. – Воображаю, что было бы, если бы вы узнали, что ваш товарищ по оружию, капитан, по ночам роется в мусорных ящиках!.. Не веришь? Так зайди как-нибудь в мою лачугу, я покажу тебе то, что храню, как память о Париже: выданное на год разрешение на сбор тряпок. Сохранилось у меня и доказательство, что когда-то я нашел в мусорном ящике бриллиантовую сережку и получил за нее тысячу франков. Может быть, ты и сейчас скажешь, что я заслужил имя предателя, – ведь я осрамил свое воинское звание? – язвительно добавил старик. – Конечно, я сохранил бы свое достоинство, если бы, живя в эмиграции, брал жалованье и вместе с вами голосовал за войну!
– Какая страшная ошибка! – шепотом сказал мой брат…
Учитель переменился в лице.
– Меня возмущали твои взгляды, – сказал он. – Но, богом клянусь, не я распускал о тебе эти слухи! – Он ударил себя в грудь. – Напротив, я всегда тебя защищал и спорил с другими…
Владек протянул своему спасителю руку.
– Друг, я, со своей стороны, сделаю все, чтобы загладить нанесенную тебе обиду, – сказал он стремительно, захлебываясь словами. – Люди узнают, что ты столько лет страдал безвинно.
Старик грустно покачал головой.
– Знаю, другие – да и ты тоже – не простят мне того, что я, как сказал тут Добжанский, «ослаблял дух» в наших людях. У меня было достаточно времени обдумать все, что пережито. Трезвый голос, предсказывающий поражение, всегда ненавистен людям. Он – как зловещий крик совы на кладбище, который словно твердит: «Не встанешь!» И чем точнее исполнилось предсказание, тем больше ненавидят пророка… Поэтому, – добавил он, помолчав, – я уже не жду от людей добрых чувств ко мне. Перестанут называть изменником, так начнут кричать: «Глядите, это тот пророк, что видел опасность, но не помог ее предотвратить!» Народ не спрашивает, что мы говорили, он хочет знать, что мы сделали, чтобы предотвратить беду. А я ничего не мог для этого сделать.
Он замолчал – к нашему облегчению, ибо каждое его слово камнем ложилось на душу.
Вдруг учитель Добжанский подошел к старику, обнял его и, рыдая, припал головой к его груди. Мама стала снова целовать брата, шепча: «Сыночек!.. Сыночек милый!» – а я – я уже ничего не видел, потому что слезы застилали мне глаза.
Через минуту седой гость сказал:
– Ну, мне пора домой. Прощайте.
– Пойдем ко мне, – попросил пан Добжанский, беря его за руку.
– Хорошую я бы тебе оказал услугу! – возразил старик с улыбкой. – О тебе тогда стали бы, пожалуй, говорить то же, что обо мне… Ну, будьте здоровы, – обратился он к брату, протягивая ему руку.
– Благослови тебя бог, пан, – сказала мама. – Навещай нас и помни, что мы отныне тебе верные друзья… Если что понадобится, обращайся к нам… Мы каждое утро и каждый вечер будем молиться за тебя…
Он низко поклонился ей и отозвался уже с порога:
– Если будет милость ваша, просите бога, чтобы он поскорее послал мне смерть. Только этого я и хочу.
И медленно вышел из комнаты.
Теперь все занялись Владеком. Няня привела фельдшера, и тот перевязал ему раны. В гостиную перенесли кровать для брата и кушетку для учителя, который объявил, что будет за ним ходить, пока Владек не поправится.
Ночь прошла тревожно. Владек спал плохо, учитель даже не раздевался, а у меня был жар, и мама всю ночь ходила от меня к брату и от него ко мне. Солнце уже взошло, когда нас всех наконец сморил сон, – и потому мы встали только около десяти.







