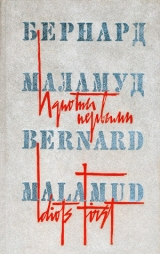
Текст книги "Идиоты первыми"
Автор книги: Бернард Маламуд
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 23 страниц)
– Просто удивительное совпадение!
В свое время он, как оказалось, был рамочником, позже совладельцем небольшой галереи на виа Строцци и, естественно, знал толк в живописи и в сбыте картин. Однако из-за махинаций его жуликоватого партнера галерея разорилась. А открыть ее снова у него недостало средств. К тому же ему вскоре удалили легкое.
– Вот почему я не докурил сигарету.
Лудовико раскашлялся, и Фидельман поверил ему.
– С таким здоровьем, естественно, трудно заработать на жизнь. Даже рамы вязать мне и то не по силам. Вот почему работа с Эсмеральдой обладает для меня рядом преимуществ.
– Так ли, сяк ли, а наглости у вас не отнимешь, – ответил художник. – Не говоря уж о том, что вы заявились сюда и учите, как мне следует вести себя vis-à-vis [67]67
По отношению ( фр.).
[Закрыть]к особе, которую я приютил по ее собственной просьбе, и, главное, живете на доходы от торговли ее телом. При всем при том это довольно-таки безнравственно. Эсмеральда, вероятно, чем-то и обязана вам, но души своей она вам не запродала.
Сводник осанисто оперся о трость.
– Раз уж вы, синьор, употребили это слово, сами-то вы разве можете считаться нравственным человеком?
– Что касается искусства, да.
Лудовико вздохнул.
– Ах, маэстро, кто нам дал право разговаривать о предмете, в котором мы так мало понимаем? Нравственность питают тысячи источников, способам ее проявления несть числа. Касательно же души, кто способен понять ее устройство? Вспомните распятого разбойника, лишь он вознесся на небеса вместе с Господом. – Лудовико раскашлялся. – Не упустите из виду, девочка по собственной воле выбрала себе такое призвание; я тут ни при чем. Но ни умелостью, ни лоском не обладала, хотя нельзя отрицать, что она достаточно сведуща. У нее есть и преимущества: юность, известная непосредственность, но ей необходим советчик и руководитель. Видели, в какой шляпке она ходит? Я дважды пытался сжечь эту шляпку. Эсмеральде явно недостает вкуса. И в одежде ее также сказывается отсутствие вкуса, но она ужасно упрямая – с ней не сладить. И все равно, я посвятил себя Эсмеральде, и мне удается улучшить ее положение, за что я и получал скромные, но обязательные комиссионные. Учитывая все обстоятельства, что в том плохого? Нравственность основывается на признании взаимных нужд и взаимопомощи. Взаимное великодушие осуждать нельзя. В конце концов, чему учил нас Иисус?
Лудовико снял шляпу. Он был совершенно лыс, если не считать нескольких седых волосков, разделенных посредине пробором.
Он явно сник.
– А вы, маэстро, не влюбились ли в Эсмеральду? Если влюбились, так прямо и скажите, и я удалюсь. Любовь есть любовь, тут ничего не попишешь. Я итальянец и не забываю об этом.
Прежде чем ответить, Фидельман подумал.
– Пожалуй, пока еще нет.
– Смею надеяться, в таком случае, вы не станете влиять на ее решение?
– Какое решение?
– Решение, которое она примет после нашего разговора.
– Если она решит уйти, вы это хотели сказать?
– Совершенно верно.
– Ей выбирать.
Сводник с облегчением вытер покрытую испариной лысину и водрузил шляпу.
– Возможно, эти отношения вам на сегодняшний день удобны, но вы художник, поглощены работой, и без Эсмеральды вам будет лучше.
– Мне не хочется, чтобы она ушла, этого я не говорил, – сказал Фидельман. – Я сказал только, что не стану влиять на ее решение.
Лудовико склонил голову.
– Да, вам свойственна непредвзятость истинного художника.
Уходя, он откинул тросточкой занавеску и увидел на кухонном столе картину Фидельмана.
Поначалу он, похоже, не мог поверить своим глазам. Отступил на шаг, – разглядывал картину.
– Straodinario [68]68
Потрясающе! ( итал.)
[Закрыть],– пробормотал он, целуя кончики пальцев.
Фидельман схватил холст, сдул с него пыль, бережно спрятал за комод.
– Эта работа не закончена, – объяснил он. – И пока мне не хочется ее показывать.
– Ясно, что картина замечательная, – достаточно лишь раз на нее взглянуть. Как она называется?
– Мать и сын.
– Строго в духе Пикассо.
– Правда?
– Я имею в виду его высказывание: «Пишешь не то, что видишь, а то, что должен видеть».
– Верно, – сказал Фидельман, и голос у него сел.
– Всем нам следует учиться у мастеров. Пытаться улучшить то, что лучше всего удается мастерам, – тут нет ничего дурного. Так и рождаются новые мастера.
– Спасибо.
– Когда закончите картину, поставьте меня в известность. Я знаком с людьми, которые хотели бы купить хорошие работы серьезных современных художников. Я мог бы выхлопотать вам отличную цену, естественно за обычные комиссионные. Как бы там ни было, похоже, вы вот-вот произведете на свет картину исключительных достоинств. Разрешите мне поздравить вас с таким талантом.
Фидельман вспыхнул, рассиялся.
Вернулась Эсмеральда.
Лудовико бухнулся ей в ноги.
– Шел бы ты на… – сказала Эсмеральда.
– Ах, синьорина, мне горе, тебе счастье. Твой друг – замечательный художник. Верь моему слову.
Как изобразить каддиш [69]69
Молитва, читаемая по умершим ( идиш.).
[Закрыть]?
Вот мама сидит на крыльце в ситцевом халате – конфузится, что ее снимают, но губы ее на рассыпающемся от старости пожелтевшем снимке, который Бесси прислала лет сто назад, тем не менее растягивает смутная улыбка. Вот карточка, вот картина примерно в том же духе, почему же я не могу, так сказать, слить их воедино? Как добиться, чтобы старый снимок стал искусством? Объединить двойной образ, внутренний с внешним.
Картина – 127 на 95 – была местами заляпана (ее руки и ноги), (его лицо) сгустками краски чуть не в сантиметр толщиной, краска слой за слоем рассказывала историю картины, иными словами, воплощала собой сгусток прошлого. Власть картины над ним была такова, что за те пять лет, которые он над ней бился – начинал, бросал: временами с ней становилось невмочь, и тогда он прятал ее с глаз долой, – он почему-то так и не смог ее закончить, хотя в основном она была готова, если не считать маминого лица. Пять лет трудов ухлопано на нее, а написано все было с ходу, хотя он часто подмалевывал там-сям, подправлял подсохнувшую краску кистью или мастихином. Перепробовал все – писал маму одну, сидя и стоя, с ним и без него, и с Бесси и без Бесси, но никогда с папой, этим живым призраком; писал ее то старой, то молодой, порой она походила на Анну-Марию Олиовино или на Терезу, миланскую горничную; а порой, когда воспоминания путались, самую малость на Зускинда – он был первый, с кем я познакомился в Риме. Отдельно мама, отдельно – он, потом он старался соединить их взаимопроникающими мазками, дабы они пребывали в вечности матерью и сыном и одновременно – неповторимыми образами на холсте. И такими прекрасно завершенными будут они вместе, что зритель волей-неволей подумает: никому не стоит брать эту тему, лучше Фидельмана все равно никому не написать; вот уж воистину шедевр. Он писал маму грустной и счастливой, рослой и низенькой – на реалистический, экспрессионистический, кубистический и даже на абстракционистский манер, лилово-коричневым пятнами. А также в черно-белой гамме, без украшательств, наподобие Клайна [70]70
Франц Иозеф Клайн (1910–1962) – американский художник.
[Закрыть]или Мазеруэлла [71]71
Роберт Мазеруэлл (1915 г. р.) – американский художник и писатель.
[Закрыть]. А как-то раз вылепил по старой фотокарточке фигурку из глины, попытался написать ее, но и тут у него ничего не получилось.
Их лица чуть не каждый день, когда он писал – себя, каким он был в детстве, маму, какой она была (ее давным-давно не стало), – менялись, но и сейчас, хоть он вот уже год не прикасался к мальчишке, ни к его лицу, ни вообще к чему-либо, он был недоволен ее лицом – чего-то в нем недоставало; недовольство не оставляло его – и ежедневно, а то и ежевечерне он счищал ее лицо (еще одно пропащее лицо) заржавленным мастихином, а на следующий день писал снова; потом счищал и это лицо тем же вечером или на следующее утро; или же, дав ему подсохнуть, через два дня снова прощался с надеждой и, прежде чем краска загустеет, счищал и это лицо. В итоге он уничтожил и создал больше тысячи лиц женщине, которая вряд ли могла себе позволить иметь свое лицо; и все не мог решить, какое ее истинное лицо, во всяком случае истинное как произведение искусства. На старом снимке, присланном Бесси, оно было истинным, еще бы не истинным – кто сравнится с «кодаком», но на холсте оно измельчилось: слишком многого в нем недоставало. Иногда Фидельмана подмывало разорвать старый снимок и дальше отталкиваться лишь от памяти (о снимке?), но он не мог заставить себя уничтожить последнее мамино изображение. Боялся разорвать снимок и создавал лицо за лицом для мешковатой фигуры, сидящей на крыльце в кресле, обок с которой благонравно стоит маленький Фидельман – он знает, что она умерла, но прикидывается, во всяком случае на снимке, будто не знает, затем счищал лицо, и толстый слой краски вокруг него постепенно застывал наподобие фриза.
Мальчишку мне более или менее удалось передать, а порой – пусть ненадолго – передать и ее, но только если глядеть на них по отдельности. Я не могу написать ее лицо так, чтобы на нем отражалось его присутствие. В лучшем случае получаются два портрета – в пространстве и во времени. А что, если поставить мальчишку не справа, а слева? Как-то раз я уже пытался так его поставить, и ничего из этого не получилось; нынче они служат твердым-как-кремень-с ноготок-величиной-вкладом в их нынешний вид, а счисти я сейчас хоть одного из них (чем – зубилом? взрывчаткой?), я могу с тем же успехом выбросить картину. Могу с тем же успехом счистить и ошметки своей жизни, если мне суждено начать сначала.
Как вообразить ее, какой бы она ни была? Я мало что помню, пожалуй, только ее смерть, даже не то, как она умирала, а всего лишь кончину после болезни, от которой ее теперь в два счета вылечили бы пенициллином. Мне было лет шесть-семь, а может, десять, и, насколько помню, на похоронах я не плакал. Долгие годы ее смерть меня мало трогала, но когда Бесси прислала карточку и я стал писать маму, тут-то меня и проняло. Наверное, я не мог ей простить этого, то есть того, что она умерла; причина если не в этом, так в том, что мне не дано скорбеть – хочу не хочу, таким я уродился. А если правду говорить, я боюсь писать ее: вдруг да мне откроется что-нибудь о себе.
Я не читал по ней каддиш, хотя узнать его слова сложности не составляло.
А что, если она все еще скитается меж звезд и не может найти Алмазные врата?
Спрятал холст, взялся за статуэтку мадонны без младенца. Эсмеральде нравилось смотреть, как разлетается стружка и из дерева выступает фигура Богоматери.
Девчонка поутру пила кофе с молоком, спала в алькове, на занятой у соседей раскладушке, и не путалась под ногами, пока он писал. Оборотная сторона картины – вот что видела она, когда заходила поутру в мастерскую взять несколько лир и отправиться за покупками. Подразумевалось, что она не должна смотреть, как он работает. «Malocchio» [72]72
Здесь: сглазишь ( итал.).
[Закрыть]– говорил он, она кивала и выходила на цыпочках из комнаты. Когда он работал, чужое присутствие его стесняло, поэтому по прошествии нескольких дней он стал подумывать: надо бы попросить ее уйти, но потом вспомнил, какая она молодая, ее и взрослой-то нельзя считать, она могла бы прийтись старшей сестрой мальчишке, и отступился. Она лишь раз обиняками завела речь о его картине, спросила, что это за снимок и почему он вечно на него смотрит.
«Не твое дело», – сказал Фидельман, она передернула плечами и ретировалась. Почитывала без особого увлечения любовный роман с продолжением в киножурнале. Ходила за покупками, стряпала, прибиралась в мастерской, однако ванну принимала куда реже него. Пока он работал, она чинила на кухне его носки, исподнее и переделывала свои платья. Нарядов у нее было немного: свитер с юбкой и два проституточьих платьишка, с одного она отпорола две серебряные розы, с другого – ряды малиновых блесток. Она уменьшила в них вырезы, удлинила юбки. Имелся у нее и облегающий черный свитерок; он удачно подчеркивал ее крепкие груди, длинную шею, темные глаза; а также кое-какое заштопанное бельишко, ничего особенно завлекательного; но все же красная комбинация недурная, но чересчур уж красная, и кое-какие украшения – безделушки, которые она купила на Понте Веккио, и непритязательные домашние туфли. Золотые лодочки на высоких каблуках она, завернув в газету, убрала подальше. Интересно, надолго ли, что она сама на этот счет думает? – думал Фидельман. Стряпуха она была отменная. Кормила его хорошо, в основном макаронами, овощами, тушенными на оливковом масле, и время от времени покупала требуху, а то и кролика. Его жалкие деньги она тратила с толком, и в целом на них двоих у него уходило меньше, чем на одного. Она не жаловалась, хотя, когда он, поглощенный работой ли, заботами ли, по нескольку дней кряду не замечал ее, ей случалось и дуться. В постели она никогда ему не отказывала: бывала нежной и вовсю старалась помочь, чем могла. Как-то раз Эсмеральда предложила позировать ему голой, но Фидельман и слышать об этом не хотел. Толстыми ручищами, большими ножищами она порой напоминала ему Бесси в ее девичьи годы, хотя на самом деле в них не было ничего общего.
Однажды утром в октябре Фидельман в порыве вдохновения сорвался с кровати. Не дожидаясь завтрака, вытащил картину из укромного места, решив закончить ее раз навсегда, совсем, и тут обнаружил, что снимка, приколотого к мольберту, нет на месте. Растолкал Эсмеральду, но она понятия не имела, куда подевался снимок. Фидельман помчался вниз, вывалил мусор из мешка на тротуар, лихорадочно разгребал бечевки застывших спагетти и подгнившие дынные корки, а домовладелец махал руками и грозил подать на него в суд. Наверху он прочесал мастерскую сверху донизу. Эсмеральда прилежно помогала ему, но снимок не нашелся. Утро выдалось – хуже не придумаешь, к картине он не прикоснулся.
– Ты что, не можешь писать без этого снимка, это же курам на смех?
– А ты точно не брала его?
– На кой мне он? На нем же не я снята.
– Чтобы досадить мне, да мало ли на кой.
– Не валяй дурака, – сказала она.
От ярости и горя его трясло.
Она в его присутствии обыскала комод – сам он перерыл его раз десять, если не больше – и наверху, под книгой об Учелло, которую он читал, нашла пропавший снимок.
Фидельман вспыхнул.
– Я прощаю тебе твои гнусные подозрения, – сказала она, и ее глаза затуманились.
– Я не заслужил твоего прощения, – признал он.
После обеда она примерила обвисшую шляпку, ту самую, в которой была, когда они познакомились, – прикидывала, как ее переделать.
Вид Эсмеральды в бархатной шляпке задел Фидельмана за живое. На него снова накатил порыв вдохновения.
– Я напишу тебя в этой шляпке, – во всяком случае, сделаю эскиз.
– Зачем? Ты же сказал, что она мне не идет.
– Второй такой не найти, вот зачем. В прошлом не один художник так пленялся шляпкой, что писал и лицо под ней. К примеру, Рембрандт.
– Ну ладно, – сказала Эсмеральда. – Мне-то что. Я думала, ты снова примешься за картину.
– Для картины день загублен.
Она согласилась позировать. Для разминки он мигом набросал ее портрет углем – вышло потрясающе, особенно шляпка. Тогда он сделал ее портрет карандашом, потом он может послужить эскизом к картине.
Рисуя, Фидельман задал ей вопрос:
– Почему ты стала прости… профессионалкой? Я что хочу сказать, тебя на это Лудовико подбил?
– Прости… профессионалкой, – передразнила она его. – Прокудахтал – валяй, неси яйцо.
– Я старался проявить деликатность.
– Плохо старался! О некоторых вещах лучше вообще не упоминать – так будет куда деликатнее; и все равно, даже если ты спрашиваешь только из чистого любопытства, я тебе скажу почему. Лудовико тут ни при чем, хоть он и был одним из моих первых клиентов. И до сих пор не отдал мне деньги за кое-какие услуги, не говоря уж о деньгах, которые в открытую украл у меня. Второго такого мерзавца, как он, свет Божий не видывал, у всех остальных есть хоть какие-то остатки порядочности, правда, мне от этого ни тепло, ни холодно. Но так или иначе, если тебя разбирает любопытство, знай: я сама на это пошла. Не иначе как надеялась выбиться в любовницы художнику.
Фидельман пропустил издевку мимо ушей, продолжал писать эскиз.
– Одно тебе скажу – умирающий с голода отец тут ни при чем, если Лудовико тебе наплел про него. У моего отца небольшая ферма во Фьезоле, от него разит навозом, а уж скряга он такой, что не приведи Господи. Если он с чем и расстался по доброй воле, так разве что со своей невинностью. Мать и сестра пашут на него, он злющий, как легченый бык, вот я от него и удрала. И сбежала потому, что мне опостылело горбатиться на него. А он ко всему прочему еще от нечего делать норовил меня полапать – вот какой он подлюга! Я и читаю и пишу с грехом пополам из-за него, не из-за кого другого. И в проститутки я подалась, потому что не хотела быть прислугой, а никакого ремесла не знаю. Шофер на автостраде присоветовал мне заняться этим делом. Только, несмотря на мою профессию, я ужасно застенчивая, вот мне и приходится терпеть Лудовико – он сводит меня с клиентами.
Она спросила, можно ли посмотреть эскиз, а посмотрев, сказала:
– Как ты его назовешь?
Он собирался назвать его «Портрет молодой проститутки», но вместо этого сказал:
– «Портрет молодой женщины». Я, может, еще напишу портрет маслом по этому эскизу.
– Мне-то что, – сказала Эсмеральда, но была явно польщена. – Я почему у тебя осталась: думала отогреться. Потом, и такое соображение у меня имелось: художник должен понимать про жизнь. И раз сам понимает, не ровен час и меня чему-нибудь научит. А пока что я узнала одно: ты тот еще трус, ничем не лучше прочих. Так оно обычно и случается: думаешь, тебе хуже всех, а всегда найдется кто-то, кому еще хуже.
Фидельман набросал еще три ее портрета на бумаге, в шляпке и без шляпки, один – в черной шляпке с астрой.
Утром ему удалось за несколько часов наполовину вырезать очередную мадонну, и, чтобы отметить это событие, он после обеда повел Эсмеральду в Уффици и рассказал ей про кое-какие великие творения мастеров.
Она не все поняла в его объяснениях, но была ему благодарна.
– Не такой уж ты тупой, – сказала она.
– Малость поднахватался.
Вечером они пошли в кино, а по дороге домой заглянули в кафе на пьяцца Синьория – полакомиться мороженым. Мужчины обшаривали Эсмеральду глазами. Фидельман так на них зыркал, что они тупились. Она нежно улыбнулась ему.
– Когда ты режешь мадонн, ты не такой взвинченный. А когда пишешь этот снимок, ты злющий как собака.
Он признал, что она права.
Она открылась ему, что тайком успела хорошенько разглядеть картину, пока он бегал вниз искать в мусоре снимок.
Фидельман не напустился на нее с руганью и сам этому удивился.
– Ну и что ты думаешь о картине?
– Кто она, ну, та, без лица?
– Моя мать, она умерла молодой.
– А что с мальчиком?
– В каком смысле?
– У него грустный вид.
– Так он и должен выглядеть. Но мне не хочется о нем говорить. Такие разговоры могут помешать картине.
– А мне сдается, ты пытался написать себя самого на руках у матери.
Он чуть не онемел.
– Ты так думаешь?
– Тут и думать нечего. Мать она мать и есть, а сын и есть сын.
– Верно. А что, если я пытался таким образом вырвать ее из рук смерти? Впрочем, подобные соображения ничего не значат. Прежде всего это картина, и не исключено, что первоклассная, если мне суждено ее дописать. Закончи я ее так, как мне порой представляется, ручаюсь, это было бы нечто из ряда вон выходящее. Если художник за всю жизнь напишет хоть одну такую картину, можно считать, ему повезло. Мне порой кажется: напиши я такую картину, то дурное, что было в моей жизни, воспринималось бы иначе, укрупнилось бы, что ли.
– Каким образом?
– Тогда я мог бы простить себе былые проступки.
– А я нет, – сказала Эсмеральда. – Напиши я хоть десяток шедевров.
Мысль эта ее насмешила.
Когда они шли по мосту, Эсмеральда сказала:
– Ты и впрямь чокнутый. Не понимаю, с какой стати ты угрохал пять лет жизни на одну картину. На твоем месте я оставила бы ее и написала картину на продажу.
– Время от времени я так и поступаю – пишу картину вроде твоего портрета, но потом неизменно возвращаюсь к «Матери и сыну».
– И почему все вечно толкуют об искусстве? – спросила она. – Даже Лудовико, когда не занимается подсчетами, толкует об искусстве.
– Искусство есть то, чем ему следует быть, а именно красота, но и кое-что сверх того, а именно – и по преимуществу – тайна. Вот об этом-то люди и толкуют.
– А в моем портрете, ну где в нем тайна?
– Тайна в том, что я передал сходство с тобой – и сверх того – ты стала искусством.
– Ты хочешь сказать, что это уже не я?
– Это и была не ты. Искусство и жизнь – вещи разные.
– Раз так, ну его, твое искусство, знаешь куда… Будь у меня выбор, я выбрала бы жизнь. Не будь жизни, не было бы и искусства.
– А не будь искусства, жизнь ничего не стоила бы, для меня во всяком случае. Не будь я художником, я – никто.
– Господи, ты что ж, не человек, что ли?
– По правде говоря, без искусства – нет.
– Я так думаю, тебе еще многому надо научиться.
– Я и учусь, – вздохнул Фидельман.
– Чего такого уж хорошего в тайне? – спросила она. – Мне тайны не нравятся. Их и так полным-полно, зачем заводить новые?
– Причастность к тайне – это уже хорошо.
– Объясни.
– Тут все не просто, но я тебе скажу одно: человек вроде меня, понимаешь ли, работает в искусстве, работает без дураков. Я поздно собрался заняться живописью, потратил впустую чуть не всю молодость. В чем тайна искусства: оно больше того, что ты написал, и каждый мазок что-то к нему добавляет. Глядишь на свою картину и видишь: ты попал в самую точку, хоть и написал всего-навсего старое дерево. И вот что еще для меня тайна: почему я, хоть ничего в жизни так не хочу, не в состоянии закончить свою лучшую картину.
– А для меня тайна, – сказала Эсмеральда, – почему я в тебя влюблена, хотя ты меня ни в грош не ставишь.
И залилась слезами.
Неделей позже Лудовико, наведавшийся к ним поутру в новехоньких желтых перчатках, увидел законченный Эсмеральдин портрет размером 123 на 75 – черная шляпка, длинная шея, астра – все при ней.
Он едва устоял на ногах.
– Это что-то невероятное! Заплатите мне половину, и я не я, если вы не получите за это произведение искусства миллион лир.
Фидельман согласился, и сводник, осенив себя крестным знамением, унес картину.
Как-то днем, когда Эсмеральды не было дома, Лудовико, отдуваясь – как-никак пришлось одолеть четыре пролета – приволок в мастерскую магнитофон: он занял его, чтобы взять интервью у Фидельмана.
– Зачем это нужно?
– Сохранить запись для будущего. Я устрою ваше интервью в «Интернешнл Артс». Мой родственник работает там коммерческим директором. Подыщу галерею для вашей первой персональной выставки.
– На кой мне галерея, что я в ней буду показывать – незаконченные работы?
– Надо работать результативнее. Сядьте, говорите в микрофон. Вот я его включил. Забудьте о нем, он вас не укусит. Расслабьтесь, отвечайте на вопросы откровенно. И еще: не тратьте время на оправдания. Готовы?
– Да.
Луд.Отлично. Говорит Лудовико Бельведере. Я беру интервью у художника Фидельмана. Скажите, Артуро, что для вас, как для американца, означает живопись?
Ф.В живописи для меня вся жизнь.
Луд.Кем вам представляется художник, когда он пишет картину? Королем, императором, провидцем, пророком – кем?
Ф.Точно не скажу. Что касается меня, я чувствую, как если б я был знахарь, а мне вдруг заколодило, меня заперло…
Луд.Прошу вас, говорите осмысленно. Избегайте анальных терминов, иначе я выключу магнитофон.
Ф.Я не имел в виду ничего плохого.
Луд.Что вы, американские художники, думаете о Джексоне Поллоке? Вы согласны, что живопись под его влиянием раскрепостилась?
Ф.Вроде бы да. Но по правде говоря, раскрепоститься можно лишь самому.
Луд.Мы говорим о живописи, не о вашей личной психологии. Джексон Поллок – и это вам скажет любой образованный человек – произвел переворот в современной живописи. Не думайте, что в этой стране о нем не знают, не такие мы отсталые. Все мы можем многому у него научиться, и вы в том числе. Вы согласны, что всякий, кто работает в старой манере, довольствуется жалкими остатками?
Ф.Не вполне, прошлое не так легко исчерпать.
Луд.Тогда перейду к следующему вопросу. Кто ваш любимый художник?
Ф.Гм… да у меня, пожалуй, нет любимого художника, я многих художников люблю.
Луд.Если вы считаете это своим преимуществом, вы ошибаетесь. Кичливость здесь неуместна. Задай мне интервьюер такой вопрос, я ответил бы: «Леонардо, Рафаэль, Микеланджело» – или назвал бы каких-нибудь других художников, но не весь пантеон.
Ф.Я ответил как есть.
Луд.Так или иначе, какую цель вы ставите перед собой в искусстве?
Ф.Делать все, что могу. Делать больше, чем могу. Сейчас моя задача – завершить мой незавершенный шедевр.
Луд.Тот, с вашей матерью?
Ф.Совершенно верно, «Мать и сына».
Луд.Но в чем заключается ваша оригинальность? Почему вы придаете такое значение теме?
Ф.Я отрицаю оригинальность.
Луд.Что это значит? Объяснитесь.
Ф.Может быть, я еще не готов, пока еще не готов.
Луд.Господи ты Боже мой! Сколько же вам лет?
Ф.Около сорока. Чуть больше.
Луд.Но почему вы так осторожны, так консервативны? Мне пятьдесят два, и у меня ум юноши. Скажите, что вы думаете о поп-живописи [73]73
Стиль в живописи, возникший в США. Для него характерны преувеличенность форм и образов, заимствованных из коммерческих жанров, таких, как комиксы и рекламные плакаты.
[Закрыть]? Соберитесь с мыслями, не говорите сразу.
Ф.Она меня не трогает, и я ее не трону.
Луд. (передергивается).
Ф.Что вы сказали?
Луд.Пожалуйста, сосредоточьтесь на заданном вопросе. Я попросил бы четко объяснить, что понуждает вас заниматься живописью.
Ф.Мои картины – это попытка остановить течение времени.
Луд.Заявление нелепое, но так уж и быть, продолжайте.
Ф.Я все сказал.
Луд.Скажите более внятно. Ваше интервью предназначено для читателей.
Ф.Так вот, искусство для меня способ понять жизнь и проверить некоторые возникшие у меня предположения. Я творю искусство, искусство творит меня.
Луд.У нас есть пословица: «Крик осла неба не достигнет».
Ф.По правде говоря, вы себе много позволяете.
Луд.Вы говорите, что холст – это alter ego [74]74
Второе «я», двойник ( лат.).
[Закрыть]жалкого «я» художника?
Ф.Я не то сказал, а то, что сказали вы, мне не нравится.
Луд.Постараюсь говорить уважительнее. Как-то в разговоре со мной, маэстро, вы назвали свою живопись нравственной? Что вы хотели этим сказать?
Ф.Такая у меня промелькнула мысль, то есть, как бы это, вроде бы от живописи, если она человека потрясает, он лучше, что ли, становится. Она, можно сказать, делает его восприимчивее. Если его потрясает красота, он становится крупнее, в нем, можно сказать, прибавляется человечности.
Луд.Что вы имели в виду под «потрясает»? Человека потрясает и насилие, разве нет? Ну а оно что, не делает его, если заимствовать ваше выражение, восприимчивее?
Ф.Такие потрясения совсем иного рода. Насилие – не искусство.
Луд.Чувства они и есть чувства, и какая разница, чем они порождены. В них самих нет ничего нравственного или безнравственного. Предположим, кого-то потряс закат над Арно. А другого – смрад от тела утопленника, это что, хуже или менее нравственно? И как насчет плохой живописи? Что, если ей случилось потрясти сильнее великой живописи – доказывает ли это, что плохое искусство, употребляя ваше выражение, нравственнее?
Ф.Вроде бы нет. Ладно, пожалуй, живописи самой по себе нравственность и не присуща, но, иначе говоря, художнику, пожалуй, нравственность присуща; вернее, присуща, когда он пишет – творит систему, порядок. Порядок несет спасение всем нам, верно?
Луд.Ну да, так же, как тюрьма. Не забывайте, что самыми большими, извините за выражение, блядунами были великие художники. Что же, мы теперь будем считать их столпами нравственности? Разумеется, нет. И что, если художник убьет отца, а потом напишет прекрасное Вознесение?
Ф.Я, пожалуй, путано говорю. Пожалуй, я хочу сказать вот что: нравственнее всего я себя чувствую, когда пишу, тогда я вроде бы как сопричастен истине.
Луд.Что вы все о своих чувствах. Не сочтите за грубость, маэстро, но вы мне засираете мозги, только и всего.
Ф.Послушайте, Лудовико, я вот чего не могу понять, не сердитесь на меня, но зачем вы тащили сюда эту махину, если вы только и делаете, что оскорбляете меня? Уберите-ка ее, не отнимайте у меня времени, мне надо работать.
Луд.Я, маэстро, вам в слуги не нанимался. Пусть обстоятельства и вынудили меня заняться физическим трудом, но Лудовико Бельведере никогда не терял достоинства. Раз вы американец, вы что думаете, вам позволительно попирать права европейцев? Вы вмешались в деловые отношения между этой бедной девушкой и мной, и в результате я терплю совершенно излишние неудобства в личной жизни и огорчения, вы серьезно испортили жизнь четверым людям. И судя по всему, даже не сознаете, сколько вреда причинили…
Конец интервью
Ф.Крушит магнитофон.
С каждым утром он просыпался все раньше, чтобы приступить к картине, ждал, когда развиднеется, хотя свет был рваный, никуда не годный. Последнее время надобности повседневной жизни – умыться, поесть, одеться, даже сходить в уборную – раздражали его сильнее и сильнее, и, что хуже всего, это нервическое раздражение уже сказывалось на работе. Обременительно стало вытаскивать холст из укромного места за шкафом, устанавливать на мольберте, выбирать, смешивать краски, прикалывать старый снимок (это труднее всего) и приступать к работе. Можно было бы закрыть холст на мольберте на ночь, а снимок вовсе не откалывать, но что-то понуждало его всякий раз после того, как он прятал краски, отмачивал кисти в скипидаре и наводил порядок, убирать снимок. Прежде, стоило ему взять в руки кисть и постоять, задумавшись, замечтавшись, а порой и забывшись, перед картиной, его отпускало – и он работал с наслаждением, а как-то даже писал чуть не целый час, и хотя нередко ограничивался всего одним-двумя мазками, самочувствие его улучшалось настолько, что он разрешал себе съесть полбулочки и выпить приготовленный Эсмеральдой эспрессо, а потом взять сигарету, журнал и удалиться в gabineto [75]75
Кабинет ( итал.).
[Закрыть]. Но теперь нередко выпадали дни, когда он в ужасе стоял перед «Матерью и сыном», и стоило ему дотронуться до холста, как его начинала бить дрожь.
Обуреваемый тревогой, он писал в темном колорите. Картина почти не изменилась, мальчик каким был, таким и остался, непостоянное материнское лицо каждый день менялось, и каждый день он счищал его под доносящиеся из кухни Эсмеральдины стенания: она различала шуршанье мастихина по холсту. Тогда-то Фидельмана и осенило: попробовать написать маму с девчонки. Пусть ей всего восемнадцать, ну а вдруг, если написать маму в молодости с живой натуры, ему это поможет, хотя мама, когда Бесси сфотографировала ее, была уже в годах, ну и по характеру нисколько не походила на Эсмеральду, а вот поди ж ты, в искусстве такие парадоксы не редкость. Эсмеральда согласилась, разделась догола, но художник-сурово велел ей одеться: он собирается писать ее лицо. Она повиновалась и позировала ему терпеливо, покорно, с отсутствующим видом, безропотно, часами, и он перебарывал себя, потому что привык писать в одиночестве, и сызнова пытался вообразить лицо матери. Я выжал из воображения все, что можно, а уж из снимка и подавно. И хотя в конце дня Фидельман под причитания натурщицы счистил лицо, ему удалось ее успокоить, сказав, что его осенила новая мысль: писать не себя с мамой, а «Брата и сестру», заменив маму на Бесси. Эсмеральда рассмеялась: «Тогда ты перестанешь таращиться на снимок». Но Фидельман ответил: «Не совсем так», он по-прежнему не может обойтись без снимка – иначе ему не определить их соотношения, «как пространственно, так и психологически».








