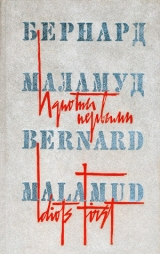
Текст книги "Идиоты первыми"
Автор книги: Бернард Маламуд
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 23 страниц)
– Главное – будь спокоен, – умолял его Анджело, обливаясь потом. – Только не испорть. Помни – ты делаешь только копию картины. Оригинал уже давно написан. Дай нам приличную копию, а мы уж доделаем остальное – химия поможет.
– Меня беспокоит характер мазка.
– Да никто его не заметит. Помни только, что Тициан писал смело, широкими мазками, насыщенной кистью. А под конец растирал краску пальцем. Но ты об этом не заботься. Никто с тебя не спрашивает совершенства, дай только приличную копию.
И Анджело нервно потер жирные руки.
Но Фидельман писал так, будто пишет оригинальную работу. Он работал один до поздней ночи, когда заговорщики уже храпели, и вкладывал в эту картину все, что осталось в его сердце. Он уловил линии Венеры, но, когда пришлось писать ее тело – ее бедра и грудь, он подумал, что это ему никогда не удастся. И когда он писал Венеру, ему вспоминались картины всех художников, изображавшие нагих натурщиц, и он, Фидельман, козлоногим сатиром с бородкой Силена плясал между ними, играя на свирели и любуясь и спереди и сзади на «Венеру Роукби», «Вирсавию», «Сусанну», «Венеру Анадиомену», «Олимпию», на одетых и неодетых участниц завтраков на траве и на купальщиц в таком же виде, на Легкомыслие или Истину, Ниобею и Леду, в любви или бегстве, на домашних хозяек или потаскушек, на влюбленных дев, скромных или дерзновенных, на одиночек или на группы в турецких банях, перед ним мелькали всевозможные формы и позы, и он радовался и веселился, и тут три менады стали дергать его за кудрявую бородку, и он галопом помчался за ними по темным лесам. И в то же время его душило воспоминание о любви ко всем женщинам, которых он когда-либо возжелал, – от Бесси до Анны-Марии Олиовино, воспоминание об их подвязках, рубашках, штанишках, лифчиках и чулках. Но как ни мучили его все эти видения, он чувствовал, что влюбляется в ту, которую он писал, в каждую клеточку ее тела, каждую складочку ее розовой кожи, в браслет на руке, в цветок, которого она касалась пальцем, в ярко-зеленую серьгу, спускавшуюся с ее лакомого ушка. Он молил бы ее – оживи, если бы не был уверен, что она влюбится не в своего изголодавшегося творца, а в первого попавшегося ей на глаза Аполлона Бельведерского. Да есть ли такой мир, спрашивал себя Фидельман, где любовь живет вечно и всегда приносит блаженство? – и сам себе отвечал: нету. Но она, та, которую он писал красками, принадлежала ему, и он все писал, писал, мечтая никогда не кончить картину, всегда испытывать счастье своей любви к ней, вечное, нескончаемое счастье.
Но в субботу вечером ему пришлось закончить картину. Анджело держал револьвер у его виска. Потом у него отняли Венеру, и Скарпио с Анджело закалили ее в печи, закоптили, исчеркали, покрыли лаком, натянули холст на подрамник и вставили фидельмановский шедевр в раму, а сам мастер в это время лежал на кровати в своей каморке в полуобморочном состоянии.
– Венера Урбинская – c’est moi [60]60
Перифраза слов Флобера: «Мадам Бовари – это я!»
[Закрыть].
3
– А где мои триста пятьдесят долларов? – спросил Фидельман у Анджело, когда они играли в карты в конторе у Анджело несколько дней спустя. Закончив картину, художник опять стал уборщиком.
– Получишь, когда вывезем Тициана.
– Я свое уже сделал.
– Не возражай – я так решил.
– А где мой паспорт?
– Отдай ему паспорт, Скарпио.
Скарпио отдал паспорт. Фидельман перелистал его – листки были целы.
– Только попробуй смыться, – сказал Анджело, – приколем.
– А кто собирается смываться?
– В общем, план такой. Вы со Скарпио пойдете на лодке к острову после полуночи. Сторож там старик, почти глухой. Повесите эту картину и удерете с той, другой.
– Как хотите, – сказал Фидельман. – Но я охотно все сделаю сам. То есть в одиночку.
– Почему это в одиночку? – подозрительно спросил Скарпио.
– Не валяй дурака, – сказал Анджело. – Картина с рамой весит чуть ли не полтонны. Ты слушай, что приказывают, и сам помалкивай. За что я еще ненавижу американцев, так это за то, что они своего места не знают.
Фидельман извинился.
– Я пойду за вами следом, в моторке, буду ждать вас на полпути между Изола Белла и Стрезой в случае, если вам понадобится в последнюю минуту поднажать.
– А вы думаете – возможны осложнения?
– Нет, не думаю. А если будут осложнения, так только по твоей вине. Так что гляди в оба.
– Голову долой! – сказал Скарпио. Он пошел с козыря и забрал всю ставку.
Фидельман вежливо посмеялся.
На следующую ночь Скарпио вышел на озеро в огромной старой гребной лодке с обмотанными веслами. Ночь была безлунная, только изредка в Альпах вспыхивали зарницы. Фидельман сидел на корме и обеими руками держал, прислонив к коленям, большую картину в раме, тщательно завернутую в толстое монастырское сукно и целлофан и обвязанную веревкой.
У острова Скарпио причалил лодку и закрепил трос. Озираясь в темноте, Фидельман старался запомнить, где они находятся. Они понесли картину по лестнице – двести ступеней – и, задыхаясь, дошли до верхнего парка.
В замке было темно, только высоко в башенке желтым квадратом светилось окошко сторожа. Когда Скарпио открыл защелку тяжелой резной двери полоской целлулоида, желтеющее окно наверху приоткрылось и оттуда высунулся старик. Они застыли, прижавшись к стене, пока окошко не захлопнулось.
– Быстро! – прошипел Скарпио. – Увидят – весь остров перебудоражат.
Открыв скрипучие двери, они торопливо понесли картину наверх – казалось, она становится все тяжелее от спешки, почти бегом пересекли огромный зал, забитый дешевыми скульптурами, и при свете карманного фонарика Скарпио поднялись по узкой винтовой лесенке. Осторожно ступая, они прошли в глубокой тьме увешанный гобеленами переход в картинную галерею, и Фидельман остановился как вкопанный, увидев Венеру – подлинный и прекрасный образ, который он подделал.
– Давай, давай за работу! – Скарпио быстро развязал веревку и развернул картину Фидельмана, прислонил ее к стене. Они уже снимали Тициана, как вдруг внизу в галерее послышались отчетливые шаги.
Скарпио погасил фонарик.
– Тсс! Это сторож! Если войдет – придется его стукнуть по башке.
– Тогда весь план лопнет: Анджело хотел взять обманом, а не силой.
– Дай отсюда выбраться, тогда будем думать.
Они прижались к стене, у Фидельмана вся спина вспотела, когда шаги старика стали приближаться. В страхе он подумал, что его картина пропадет, в голове мелькали путаные мысли – как бы ее спасти. Но тут шаги замедлились, остановились, минута прошла в напряженной тишине – и шаги послышались уже в другом направлении. Хлопнула дверь, и все стихло.
Лишь через несколько секунд Фидельман с трудом перевел дыхание. Не шевелясь, они ждали в темноте, пока не вспыхнул фонарик Скарпио. Обе Венеры стояли у стены. Скарпио, прищурив здоровый глаз, пристально рассматривал их обеих, потом показал на картину слева: «Вот она. Давай заворачивай ее!»
Фидельмана прошиб холодный пот.
– С ума ты сошел, что ли? Это же моя. Неужели ты не можешь отличить настоящее произведение искусства? – Он показал на другую картину.
– Искусства? – Скарпио побледнел и снял шляпу. – А ты уверен? – Он вглядывался в картину.
– Никакого сомнения.
– Только не пробуй сбить меня. – Он звякнул кинжалом под курткой.
– Та, что посветлее, и есть Тициан, – у Фидельмана пересохло горло. – Вы мою слишком подкурили.
– А я готов был поклясться, что твоя светлее.
– Нет, Тициан светлей. Он любил светлые лаки. Это исторический факт.
– Да, конечно. – Скарпио вытер мокрый лоб замусоленным платком. – Беда моя – глаза плохи. Один ни черта не видит, другой слишком напрягается.
– Пст, пст, – сочувственно причмокнул Фидельман.
– Ладно, давай скорее. Анджело ждет на озере. Помни – выйдет ошибка, он тебе глотку перервет.
Они повесили более темную картину на место, быстро завернули ту, что посветлее, и торопливо пронесли ее через длинную галерею, вниз по лестнице. Фидельман освещал дорогу фонарем Скарпио.
У причала Скарпио взбудораженно спросил Фидельмана:
– А ты уверен, что мы взяли ту, настоящую?
– Слово даю!
– Ладно, верю, только мне все-таки придется еще раз взглянуть. Посвети-ка фонарем, только прикрой ладонью.
Скарпио присел, чтобы развязать веревки, и Фидельман, весь трясясь, изо всех сил ударил фонарем по соломенной шляпе Скарпио так, что стекло брызнуло в стороны. Скарпио схватился за кинжал и потерял сознание.
Фидельман с трудом подтащил картину к лодке, но наконец поставил ее, закрепил и отчалил от берега. Через десять минут он уже был далеко от темного острова, увенчанного замком. Вскоре ему показалось, что за ним гонится моторка Анджело, и сердце у него заколотилось, но хозяин так и не появился. Он греб, а волны вздымались все выше.
Локарно. Шестьдесят километров.
Дрожащая молния изломом пронзила небо, осветив помутневшее озеро до самых Альп, и вдруг страшная мысль мелькнула у Фидельмана: ту ли картину он увозит? Подумав с минуту, он поднял весла, еще раз прислушался – не гонится ли за ним Анджело, и, ничего не услышав, пробрался на корму лодки, колыхавшейся на волнах, и лихорадочно стал разворачивать Венеру.
И в густой тьме, посреди неспокойного озера, он увидел, что это была именно его картина, и, зажигая одну спичку за другой, он с обожанием смотрел на свое произведение.
Месть сводника
Пер. Л.Беспалова

Фидельман – Флоренция его доконала – с горя проткнул ногой холст, очередной вариант картины, над которой бился не один год, пропорол рот бедной матери, уничтожил маловыразительную мордашку десятилетнего сына. Раз в них нет жизни, пусть принимают смерть – поделом им! Топтал обоих, но фотографии – ее давным-давно прислала сестра Бесси вместе с последним скудным чеком – от мольберта, естественно, не отколол, не тронул. «Я нашла старую фотографию, где ты с мамой, ты там совсем еще мальчик. И подумала: тебе, наверное, захочется ее иметь, мама ведь так давно умерла». Сантиметр за приводящим в бешенство сантиметром – рвал картину в клочья, хотя дешевый холст был ему не по карману, и охотно предал бы огню останки, найдись подходящее место. Сгреб клочья обеими руками, похватал запачканные рисунки, кубарем слетел с четырех пролетов шаткой лестницы и вывалил всю охапку в недра огромного мусорного мешка, стоявшего перед облупленным изжелта-коричневого цвета домом на виа Св. Агостино. Фабио, изуверившийся отечный домовладелец, – он вечно спал на ходу, – проснулся и попросил хоть сколько-то лир в счет квартплаты, но Фидельман оставил его слова без внимания. Пьяцца Сан-Спирито, удивительно благородных пропорций, смотрела ему прямо в усатое лицо, но он не удостоил ее взглядом. Его одолевало желание добежать до ближайшего моста и прыгнуть в Арно – после засушливого лета река снова катила, полноводная, зеленая; вместо этого Фидельман неспешно поднялся по лестнице, сопровождаемый смачными проклятиями домохозяина. Наверху, в своей запущенной мастерской, он опустился на кровать – и плакал. Потом уткнулся головой в изножье кровати – и плакал.
Художник сморкнулся в открытое окно и, поглощенный мыслями, битый час глядел на тосканские холмы, подернутые сентябрьской дымкой. А то на освещенные солнцем серебристые стволы олив, растущих по уступам террас, на проблескивающую вдали церковь Сан-Миниато в обрамлении черных кипарисов. А что – вышла бы недурная картинка в духе импрессионистов, зелено-золотая мозаика и черные траурные деревья, но сколько раз это было писано-переписано. Не говоря уж о ван-гоговских потрепанных непогодами кипарисах. Вот в чем моя беда – все уже было написано до меня, а нет, так устарело – кубизм, сюрреализм, экспрессионизм. Эх, угадать бы, что дальше. Внизу, в тесном хозяйском дворе над покосившимся курятником, – вонь от него вздымалась к небесам, хоть и слегка смягченная запахом красной черепицы, которой он был крыт, – раскинулась чахлая зонтичная пихта, ее наподобие шапки накрыла стайка черных и белых щебечущих ласточек. Грязно-белый петушок пронзительно кукарекал, мелкие буроперые куры, кудахча, кружили в клубах пыли около трех лимонов в кадках. Мастерская Фидельмана помещалась в небольшой комнатенке, альков за занавеской служил кухней – несколько полок, плита, раковина, стены кухни покрывала поблекшая роспись в старинном вкусе – танцующие пейзане, нимфы и пастушки, а на потолке, из огромного, в фестонах рога изобилия, сыпались потрескавшиеся, поблекшие плоды.
Он все смотрел и смотрел, утро тем временем кончилось, и тогда он решительно расчесал густые усы, сел за стол, съел черствое анисовое печенье, блуждая глазами по изречениям, которые когда-то вывел по трафарету на стене.
Констебль: «Живопись для меня синоним чувства».
Уистлер: «Шедевр бывает закончен изначально».
Поллок: «Что ускользает от меня? Человеческое? То, что человечность выше искусства?»
Ницше: «Искусство не подражает природе, но метафизически дополняет ее, встает рядом, с тем чтобы превзойти ее».
Пикассо: «Люди хватаются за живопись, чтобы прикрыть свою наготу».
Эх, быть бы мне гением!
И тем не менее ему полегчало – он взял вырезанную из дерева мадонну и ревностно принялся ее шлифовать. Потом нарисовал ей зеленые глаза, черные волосы, розовый рот, небесно-голубой плащ, покуривая, ожидал, пока высохнет краска. Завернул мадонну в газету, бросил в авоську, снова спустился вниз в сандалиях на босу ногу, тесных брюках, черном берете. Иногда он надевал еще темные очки.
На углу Фидельман выбежал на мостовую, чтобы не проходить мимо двери старой карги гадалки, – послушать ее, можно подумать, она восьмая из семи сестер, ни больше ни меньше; из бородавки на ее подбородке торчали шесть колючих волосков, – услышишь ее голос и тогда уж точно не удержишься, юркнешь к ней в дверь и спросишь, а это в сто лир встанет: «Скажите, синьора, напишу ли я ее хоть когда-нибудь? Завершу ли картину „Мать и сын“, ведь я бьюсь над ней уже пять лет, она – чует мое сердце – станет шедевром, закончить бы только ее».
В ответ пророчица вполне разумно проверещала:
– Хорошая кухарка вчерашнего супа не выплеснет.
– Но удастся ли мне эта картина, вот что я хочу знать? По-настоящему удастся, синьора, станет ли она гениальным творением?
– Гениальные творения творят гении.
– Меня преследует невезенье. Переменится ли моя судьба?
– Когда ты сам переменишься. Искусство долго, вдохновение недолговечно. Хорошо, когда тебе везет, но и сам шевелиться не забывай.
– Минует ли меня несчастный удел?
– Это много от чего зависит.
И за такой или примерно такой ответ изволь выложить сто лир: овчинка выделки не стоит.
Фидельман вздохнул. И все равно, и такие разговоры почему-то взбадривают.
Стукнул поднятый ставень, в него полетел кулек с мусором. Он увернулся, и промасленный пакет шмякнулся на булыжники за его спиной.
ОСТЕРЕГАЙСЯ ОБВАЛА КЛАДКИ!
Он завернул за угол и едва не угодил под машину – три «веспы» с ревом неслись друг за другом.
Vita pericolosa [61]61
Здесь: жить опасно ( итал.).
[Закрыть]. Летняя духота мало-помалу спала, обернулась осенней прохладой. Он спешил – не дай Бог разбудить голод – мимо прилавков на площади, заваленных фруктами и овощами, мчался зигзагами по улочкам Ольтрарно, к Понте Веккио. Ох уж этот взгляд художника! Его радовали узкие, шумные, кишащие людьми улочки, завешанные свисающим из окон бельем. Чуть не все туристы поразъехались, но мастерские уже начали готовиться к новому нашествию: ремесленники вязали рамы для картин, кроили кожу, набирали мозаику; женщины плели какие-то изделия из соломы. Проходя мимо сыромятни, Фидельман расчихался – здесь на шибающую в нос вонь от кож накладывался распаренный дух конюшни. Шум уличного движения перекрывал грохот старой кузни. Фидельман проскочил мимо мелкой галерейки, где висела вниз головой одна из его абстракций. Он не возражал – искусство живет такими случайностями.
Небольшую площадь – перед войной тут стояли дома – уставили каменными скамьями, на них посиживали старики и калеки со всего квартала вперемежку с попрошайками и размалеванными шлюхами на возрасте, одна из них, ближайшая к Фидельману, расчесывала рыжие в сильной проседи волосы. Другая кормила голубей коркой хлеба, они опускались около нее, клевали из рук. На одну, помоложе, в обвисшей бархатной шляпке, он посмотрел и еще раз – девчонка, в сущности, хрупкая, юная. Он бы очень даже не отказался утешиться в постели, но уж больно они дерут. Крепко прижимая мадонну к груди, художник вбежал в лавку резчика.
Альберто Паненеро, хозяин, в коричневом халате, засыпанном опилками и стружкой, шипом шуганул трех подмастерьев и с поклонами вышел к художнику.
– А, маэстро, смею надеяться, вы принесли еще одну из ваших прелестных мадонн?
Фидельман развернул незатейливую деревянную статуэтку мадонны.
Хозяин поднял ее, разглядывал. Созвал подмастерьев.
– Смотрите, невежи, какая работа! – И шипом распустил их.
– Красиво? – спросил Фидельман.
– А то нет. Еще бы не красиво, такой-то предмет у каждого красиво получится.
– А как насчет цены?
– Э, разве цена от меня зависит? Цена обычная.
У Фидельмана вытянулось лицо.
– Где это слыхано – платить какие-то пять тысяч лир – ведь такую статуэтку меньше чем за две недели не сделать, да за нее на виа Торнабуони дадут тысяч пятнадцать, а если отнести ее к Святому Петру и благословить у папы, то и все двадцать.
Паненеро пожал плечами.
– Эх, маэстро, мир уже не тот – нынешнее время не для истинных мастеров. Мы с вами ведем заранее проигранную войну. Что до мадонн, их теперь в основном делают машины. Мои подмастерья вырежут лицо, подпустят пару-тройку складок на одеянии, подмалюют, – и, поверьте, такие статуэтки обходятся мне втрое дешевле, а в лавчонках за них дают ту же цену. Кто говорит, до ваших мадонн им далеко – что да, то да, но вы что думаете, туристы понимают разницу? Скажу больше, торговцы стали еще скареднее, а поверьте мне, флорентийцы – скареды из скаред. Чем больше я запрошу, тем больше они сбавят. Если за вашу мадонну я выручу семь с половиной тысяч, можно считать, мне повезло. При таких ценах откуда взять деньги на аренду мастерской и прочие расходы? Я плачу жалованье двум мастерам и поденщику – они у меня по другой части: старинной мебелью занимаются и всяким тому подобным. У меня работают трое подмастерьев, их кормить надо, иначе они так ослабнут, что и до ветру не смогут сходить. А у меня самого семья, сын с косолапостью, три дочери, одна никчемнее другой, шесть душ. Э, да что говорить, вы и сами понимаете, чего нынче стоит заработать на жизнь. И тем не менее, если мадонна будет держать в руках bambino [62]62
Младенца ( итал.).
[Закрыть], я набавлю пять сотен.
– Согласен на пять тысяч.
Хозяин отсчитал деньги замусоленными полусотенными и сотенными.
– Вы стремитесь к совершенству, маэстро, вот в чем ваша беда. Много ли осталось таких, как вы?
– Правда ваша, – вздохнул Фидельман. – Вы думаете, я не думал: надо бы самому продавать мадонн туристам, но если я буду не только резать, а еще и торговать, когда же, спрашивается, мне писать картину?
– Совершенно с вами согласен, – сказал Паненеро. – Все так, но для холостяка вы зарабатываете вовсе недурно. И почему вы такой худущий, не возьму в толк. Не иначе как это у вас порода такая.
– Большая часть моих заработков уходит на материалы. Цены на все подскочили: и на масло, и на пигменты, и на скипидар, буквально на все. Тюбик кадмия стоит тринадцать сотен лир без малого – вот я и ловчу, обхожусь без ярко-желтого, а уж без киновари и подавно. На прошлой неделе упустил соболью кисточку, за нее запросили три тысячи. Штука холста обходится в десять тысяч с гаком. При таких ценах может ли хватить на мясо?
– В больших количествах мясо вредно для пищеварения. Мой шурин ест мясо по два раза на дню, и у него вечно болит печенка. От миски макарон с сыром вы войдете в тело, и печенке не навредите. Так или иначе, а как поживает ваша картина?
– Не спрашивайте – не хочется врать.
На ближнем рыночке Фидельман потыкал пальцем в спелые бочки двух крупных груш, в испанскую дыню. Сунул нос в корзину с инжиром, оглядел подвешенные на крюках тыквы, рассмотрел окровавленную тушку кролика и сказал себе, что не мешало бы написать пару натюрмортов. Ему пришлось ограничиться длинным батоном и двумястами граммами требухи. Купил он еще диетическое яйцо на завтрак, шесть сигарет «Национале» и четвертушку капустного кочана. В припадке расточительности приобрел вдобавок винно-красный георгин, и старуха торговка дала ему в придачу еще одну астру из своей корзины бесплатно. Какая же это благодать – покупать еду, подумал он, вот где открывается суть вещей. Понимаешь, что не так уж важно создать шедевр, как, впрочем, и многое другое. У него появилось чувство, что он может вообще бросить писать и ничего страшного не произойдет, но едва эта пугающая мысль овладела им, как в низ живота током ударила тревога – и он с трудом сдержался, чтобы не припустить, обливаясь потом, в мастерскую, не натянуть холст и не наброситься на него с кистью. Время меня доконало, для художника нет проклятия страшнее.
Молоденькая шлюха в мятой шляпке различила среди пакетов с провизией букетик и, когда он приблизился, одарила его смутной улыбкой из-под короткой вуалетки.
Фидельман, сам не зная почему, протянул ей астру, и девчонка, лет восемнадцати, не больше, неуклюже приняла от него цветок.
– Извините за вопрос, но сколько вы берете?
– А вы кто – художник или вроде того?
– Верно, откуда вы знаете?
– Догадалась, наверное. То ли ваша одежда навела на мысль, то ли цветы, а может, и что другое. – Она рассеянно улыбнулась, глаза ее блуждали по скамейкам, недобрые губы были поджаты. – Раз уж вы спросили, отвечу – две тысячи лир.
Он приподнял берет, побрел дальше.
– Бери меня, я тебе обойдусь всего в пятьсот, – крикнула ему вдогонку старая шлюха со своей скамьи. – Я такие штуки знаю, о которых она и слыхом не слыхивала. Чуди как хочешь, ни в чем отказа не будет.
Но Фидельман прибавил шагу. Надо снова браться за работу. Пересек улицу, лавируя в потоке «фиатов», тележек, «весп», мчался в мастерскую.
Потом сидел на кровати, зажав руки меж колен, глядел на картину, думал о молодой шлюхе. А вдруг, переспи я с ней, мне удастся расслабиться и начать писать?
Пересчитал, сколько денег у него осталось, завязал купюру в носок и сунул в ящик комода. Решил перепрятать носок и запихнул его в шкаф, на полку для шляп. Шкаф закрыл, ключ спрятал в ящик комода. А ключ от комода опустил в склянку с мутным скипидаром, решив, что вряд ли кто захочет мараться, выуживая его.
Может, она поверит мне в долг, а я расплачусь с ней, когда разживусь деньгами? Как-нибудь вырежу две мадонны разом и из десяти тысяч лир выкрою деньги.
Потом подумал: она, похоже, заинтересовалась мной как художником. Вдруг она согласится взять в уплату набросок?
Перебрал кипу набросков углем, наткнулся на пузатую обнаженную – она стригла ногти, поставив толстомясую ногу на табуретку. Фидельман потрусил на рыночную площадь, где на скамейке сидела девчонка с поникшей астрой в руке.
– А вы не возьмете взамен набросок? Один из моих, естественно.
– Взамен чего?
– Взамен наличных – я сейчас не при деньгах. Такая мыслишка меня осенила.
Минута миновала, прежде чем до нее дошли его слова.
– Ладно, если вам так хочется.
Он развернул рисунок, показал ей.
– А… ну ладно.
И вдруг лицо ее под вуалеткой вспыхнуло, она сконфуженно уставилась на Фидельмана.
– Что случилось?
Она горестно обежала глазами площадь.
– Ничего, – не сразу сказала она. – Я возьму ваш рисунок. Я смотрела, нет ли поблизости моего родственника. Мы договорились встретиться тут. Ну и шут с ним, пусть ждет, он мне нужен, как зубная боль.
Она встала со скамьи, и они отправились на виа Св. Агостино.
Фабио, домовладелец, с первого взгляда распознал в ней уличную и так напрямик и выложил.
– Чтоб я больше этого не слышал, – одернул его Фидельман.
– За квартиру надо платить, а не сорить деньгами.
Ее зовут, сообщила она ему, пока они раздевались, Эсмеральда.
Его звали Артуро.
Она скинула мятую шляпку, обнажив темные густые волосы. Глаза у нее были как черносливины, рот маленький, с грустной складкой, модильяниевская шея, крепкие, хоть и не слишком белые, зубы и прыщавый лоб. Длинные серьги с поддельным жемчугом Эсмеральда не стала вынимать из ушей. Расстегнула молнии и рухнула в постель. Вышло неплохо, хоть она потом и извинялась: мол, она сегодня не в форме.
Они лежали, покуривали в постели, – он отдал ей одну из купленных им шести сигарет, – и тут Эсмеральда сказала:
– Кого я там на площади искала, он мой не родственник, а сводник, во всяком случае, был моим сводником. И если он меня еще ждет на площади, чтоб там началась метель, чтоб ему замерзнуть до смерти.
Они выпили кофе. Она сказала, что ей нравится его мастерская, и предложила остаться у него.
Он было запаниковал.
– Я не хотел бы никаких помех для своей живописи. Словом, я одержимый. Да и кроме того, мастерская-то совсем крохотная.
– А я что – не крохотная? Я буду о вас заботиться, помехой вам не буду.
В конце концов он согласился.
И хотя его мучили сомнения – не больная ли она, – он разрешил ей остаться, и был, пожалуй, поелику возможно, доволен.
– Il Signor Ludovico Belvedere [63]63
Синьор Лудовико Бельведере ( итал.).
[Закрыть],– крикнул снизу домовладелец, – этот джентльмен поднимается к вам наверх. Если он купит картину, вам не отвертеться, придется выложить денежки за прошлый месяц, ну и за июнь-июль само собой.
– Надо еще проверить, джентльмен ли это.
Фидельман отправился мыть руки, незнакомец тем временем неторопливо, с частыми передышками карабкался по крутой лестнице. Художник поспешно снял холст с мольберта, сунул его в альков, за занавеску. Густо намылил руки, зажмурился – дым от сигареты разъедал глаза. Поспешно вытерся замызганным полотенцем. Оказалось, что никакой это не джентльмен, а Эсмеральдин жалкий cugino [64]64
Родственник ( итал.).
[Закрыть], сводник, худосочный субъект лет пятидесяти с гаком, длинный, с запухшими глазками и усишками в нитку. Руки-ноги у него были на редкость маленькие, ходил он в разношенных скрипучих туфлях и серых гетрах. Его старательно наглаженный костюм знавал лучшие времена. В руке он вертел тросточку, на голове у него красовалась жемчужно-серая шляпа. Сказать, что он видывал виды, значит, ничего еще не сказать, хоть он и старался это скрыть, и Фидельман было струхнул.
Отвесив любезный поклон, Лудовико повел разговор так, словно они с Фидельманом закадычные друзья: его, объяснил он, расположение духа оставляет желать лучшего, да и здоровье тоже – оно и понятно, он ведь целую неделю рыскал по городу в поисках Эсмеральды. Объяснил, что между ними вышло недоразумение из-за каких-то жалких лир в результате прискорбной ошибки – он не так подвел итог, поставил единицу вместо семерки.
– И с лучшими математиками такое случается, но если на человека никакие доводы не действуют, что ты с ним сделаешь? Она влепила мне оплеуху и сбежала. Я назначил ей встречу через общих знакомых – хотел объясниться, чтобы не быть голословным, представил счета, она обещала прийти и не явилась. Разве можно после этого считать ее взрослым человеком?
Позже один друг из квартала Сан-Спирито сказал ему, что Эсмеральда сейчас живет с синьором, Лудовико не хотелось бы беспокоить Фидельмана, но тот должен понять: Лудовико никогда не пришел бы к нему, если бы не настоятельная необходимость.
– Per placere, синьор [65]65
Пожалуйста. Здесь: умоляю ( итал.).
[Закрыть], я прошу вашего содействия. От вас в значительной мере зависит жизнь четырех человек. Я не возражаю, пусть Эсмеральда время от времени оказывает вам услуги, если ей так хочется, но из слов вашего хозяина я сделал вывод, что вас не назовешь человеком преуспевающим, она же меж тем должна содержать себя и голодающего отца во Фьезоле. Она вам вряд ли о нем рассказала, но, не будь меня, ее отец сейчас покоился бы в братской могиле и сквозь него пророс бы лопух. Она должна вернуться и работать под моим руководством и покровительством, не только потому, что это обоюдовыгодно, но и потому, что речь идет об общей ответственности: не только ее ответственности передо мной, особенно теперь, когда я перенес тяжелейшую операцию, но также нас обоих перед ее голодающим отцом, не говоря уж об ответственности перед моей престарелой матерью – ей восемьдесят три года, и ей безотлагательно нужен квалифицированный уход. Насколько я понимаю, вы, синьор, американец. У вас все по-другому, но Италия – страна бедная. Здесь на каждом из нас лежит бремя ответственности за четырех, если не за пятерых иждивенцев, иначе нам всем несдобровать.
Он говорил спокойно, философски, порой переводя дух – похоже, недавняя операция время от времени напоминала о себе. Пока он говорил, его горящие глазки бегали по сторонам – уж не подозревал ли он, что Эсмеральда где-то прячется.
Фидельман поначалу возмутился, потом, хотя и был разочарован: он-то надеялся, что его посетитель – богатый меценат, стал слушать его не без интереса.
– С нее хватит, на панель она больше не пойдет, – сказал Фидельман.
– Синьор, – возопил Лудовико, – постарайтесь меня понять, это важно. Девочка мне многим обязана. Ей стукнуло семнадцать, когда я на нее наткнулся, кто она тогда была – деревенщина, перебивалась из кулька в рогожу. Пощажу вас, опущу подробности, не то вам дурно станет. Она выбрала это занятие, а труднее его, как нам обоим известно, нет, но устроить свою жизнь не умела. Я познакомился с ней чисто случайно, предложил ей помочь, хотя, как правило, такого рода вещами не занимаюсь. Короче говоря, я не жалел времени на ее воспитание и подыскал ей лучшую клиентуру. Приведу пример: недавно один из наших последних клиентов, богатый калека, – она ходила к нему каждую неделю, – предложил жениться на ней, но я ей отсоветовал, потому что он contadino [66]66
Крестьянин. Здесь: деревенщина (итал.).
[Закрыть]. Я заботился о ней, блюл за ее здоровьем и благополучием. Настоял, чтобы она регулярно проверялась у врача, умел припугнуть скандальных клиентов игрушечным пистолетом, всячески оберегал ее от обид и опасностей. Поверьте, покровительство у меня в крови, а к ней я искренне привязался. Люблю ее как родную дочь. Она, случаем, не в соседней комнате? Почему бы ей не выйти и не поговорить по душам?
Он ткнул тросточкой в сторону задернутого занавеской алькова.
– Там кухня, – сказал Фидельман. – Она на рынке.
Лудовико погрустнел, подул на пальцы, его глазки, машинально обегавшие комнату, было погасли.
Но он мигом оправился, стал с интересом рассматривать фидельмановские картины. Лицо его сразу оживилось.
– Ну конечно же, вы художник! Как это я не заметил, извините, но когда снедает тревога, ты наполовину слеп. К тому же мне сказали, что вы торгуете недвижимостью.
– Нет, я художник.
Сводник стрельнул у Фидельмана последнюю сигарету, несколько раз затянулся и, прищурясь, стал разглядывать картины на стене, а не докуренную до половины сигарету тем временем спрятал в карман.








