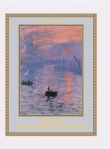Текст книги "Живописцы Итальянского Возрождения"
Автор книги: Бернард Беренсон
Жанры:
Искусство и Дизайн
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 19 страниц)
Лучше судить о Морони как о простом портретисте, хотя даже в этой области он не может быть поставлен рядом с величайшими из них. Названный выше «Портрет прелата» Моретто неожиданно напоминает Веласкеса. В нем чувствуется рисунок и стиль, художник достигает высокого обобщения образа, сочетая достоинство с простотой. А Морони изображает своих натурщиков просто, как в жизни, в характерных для них позах или в тех, которые они принимали. И потому, за исключением «Портрета портного», у него получается не изображение человеческого характера, а, скорее, анекдотический рассказ. Его люди слишком неинтересны сами по себе. Их надо сравнивать не с героями портретов Тициана, Веласкеса или Рембрандта, а с моделями второстепенных голландских художников. И если бы Морони был таким же блестящим живописцем, как они, он нам напомнил бы Франса Гальса.
XXV
Едва ли поздние феррарцы были подвержены венецианским влияниям меньше, чем художники Брешии; способнейший из них, Доссо Досси, которым нам следует заняться до Корреджо, всем, что делает его достойным внимания, обязан Джорджоне и Тициану.
Как фигурный живописец Досси незначителен. Его рисунок мучительно неряшлив, его моделировка напыщенна и пуста. Но богато одаренный от природы поэтическим восприятием света и цвета, он уловил нечто от призрачной магии Джорджоне. Как романтический иллюстратор он почти не имеет соперников. Доссо Досси писал с такой же легкостью, с тем же богатством тонов, с тем же блеском и юмором, как и его друг Ариосто.
В живописи Доссо так же мало внутреннего содержания, как в сходных по духу и характеру поэмах Ариосто. Но у обоих так богат и фантастичен образный строй, что рассуждения здравого смысла здесь просто неуместны. Поэтому мы как зачарованные смотрим на «Цирцей» Доссо, поглощенных своими заклинаниями, и блуждаем в лабиринте его пленительных цветовых оттенков. Его пейзажи будят в памяти утренние часы юности, вызывают почти мистический восторг, его образы насыщены страстью и тайной. На картины Доссо не следует смотреть слишком долго или слишком часто, но, когда вы находитесь перед ними, вас овевает на какой-то волшебный миг воздух сказочных стран.
Источники искусства Корреджо легко проследить только до известных пределов. Чтобы начать с них, надо упомянуть имена его первых учителей – Коста и Франчи – и затмившего их Мантенью. Помимо этого, Корреджо поддерживал личный контакт с Доссо Досси и, может быть, с Карото. Венеция в лице Лотто и Пальмы – также звала его к себе, и, наконец, он знал, возможно, рисунки Рафаэля и Микелэнжело.
Естественно, эти ручейки, отделившиеся от стремительных рек, не могли, просто соединяясь, вылиться в тот чудесный поток, имя которому Корреджо. Подобные же влияния испытывали и другие мастера, однако они не дали подобных результатов. Корреджо был гением и являет редкий пример своей независимости. Микеланджело, быть может, был неизбежен для Флоренции, Рафаэль для Умбрии, Тициан для Венеции, но для мелких княжеств Эмилии с их будничной, повседневной жизнью появление Корреджо было подобно чуду.
Его век имел на Корреджо не больше прав, чем место его рождения, потому что по своему темпераменту он был сыном Франции XVIII века. Корреджо нашел бы в эту полную соблазнов эпоху самое дружеское отношение, и его гениальность была бы полностью признана, ибо он заключал в своем лице и иллюстратора и декоратора,, а на, свете мало было таких живописцев, в искусстве которых так тесно сплетались бы оба эти начала.
В искусстве XVIII века всего сильнее проявляется одна отличающая его черта – необычайно чувствительная реакция на очарование женственности. Древние греки тоже были подвластны этому чувству и выражали его в многочисленных терракотовых статуэтках, до сих пор восхищающих нас. Много веков пролетело, в течение которых прелесть женственности так и не получила своего должного выражения, пока не блеснул луч, охвативший своим сиянием все небо.
Этим лучом был Корреджо. Никто из его старших и молодых современников не сумел выразить всю глубину женственности, даже его ближайший последователь Пармиджанино, у которого она переродилась в элегантность. Джорджоне интуитивно ощущал прелесть женской красоты, Тициан чувствовал ее величие, Рафаэль – ее благородную нежность; Микеланджело влекло пророческое могущество Сибилл и Пифий, Паоло Веронезе – цветущее здоровье и великолепие венецианских женщин. Но никто из них и никто из европейских художников в течение веков не посвящал целиком своего творчества выражению ее прелести.
Исходя из того, что Корреджо необычайно чуток к выражению женственности – что является отличительной чертой его творчества, посмотрим, сможет ли это дать нам ключ к объяснению его успехов и неудач как художника.
Прежде чем приблизиться к этому вопросу, мы должны ознакомиться с достоинствами и недостатками Корреджо, для того чтобы понять, на что он был способен что он выполнял превосходно, что хуже и чего не мог совсем. Если мы сравним достоинства и недостатки его и его современников, в особенности Рафаэля, то увидим, что Корреджо проявляет меньше интереса к вещественной сущности изображаемого предмета, чем любой из них, даже Рафаэль. Оба художника начали с обучения в плохой школе, где проблемы формы не подвергались строгому и интеллектуальному изучению. Но позже Рафаэль испытал сильное влияние флорентийских мастеров, в то время как у Корреджо отсутствовало серьезное художественное образование и он не видел перед собой других примеров, кроме зрелых работ Мантеньи. Но Корреджо был гораздо тоньше и изысканнее в области движения. Его контуры так мягки и плавны, что уподобляются самым чудесным примерам живописи XVIII века. Передача движения в лучших картинах Корреджо никем не превзойдена, как, например, в фигуре «Данаи» с ее рукой, покоящейся на подушке, и Амура, ноги которого словно льнут к ее ложу; или в картине «Леда», где шея лебедя скользит по ее груди; или в будапештской «Мадонне», где рука младенца касается груди матери; или погруженной в глубокий сон «Антиопе» с плавными линиями ее рук.
И все же, несмотря на все свои достоинства, Корреджо редко превосходит Рафаэля в области движения, а его форма, неполноценная сама по себе, менее эффектна, чем могла бы быть. В обоих случаях недостаток не специфически-живописный, а интеллектуальный. Корреджо не хватало сдержанности и мудрой экономии художественных средств. Обладая высоким мастерством в передаче движения, он буйствовал, расточал его, подобно моту, иногда почти превращая его в иллюзионистские фокусы, например в знаменитом «Вознесении мадонны». Он практически разрушал границы фигурной живописи, которая преследовала цель повышения наших жизненных функций, путем быстрого восприятия сущности предмета и его движения.
Но для достижения подобного эффекта фигура должна быть изображена с такой ясностью, чтобы мы могли охватить ее взглядом гораздо легче и скорее, чем в действительности, ощутив при этом повышение в себе жизненной энергии. Однако ни одно из художественных произведений, претендующих на наше внимание, не могло хуже разрешить эту задачу, чем фреска Корреджо на плафоне Пармского собора. Эта беспорядочная масса тел, драпировок и облаков, в которой мы мучительно стараемся разглядеть форму и движение, доставляет нам только беспокойство, как если бы мы увидели подобное зрелище в действительности. А как изображение действия эта фреска вряд ли выше современных танцев, в которых непрерывное кружение тесно сплетенных между собою пар не доставляет никакого удовольствия зрителю, только утомляя его глаза.
Насколько Корреджо при всей своей одаренности излишне расточал изобразительные средства, показывает нам его картина «Ганимед» (Вена, Картинная галерея). Мы с явным восхищением любуемся этим юношей, парящим над вершинами гор, но он лишь повторение фигуры, изображенной в нижней части картины Корреджо – «Вознесении мадонны». Может быть, именно в том и заключается удача «Ганимеда» – шедевра в смысле богатого и поэтического рисунка, – что художник изобразил его изолированно, тогда как фигура мальчика в «Вознесении» дана в сложной композиции. Если можно было бы таким же образом выделить многие его фигуры, они несомненно выиграли от этого и мы смогли бы в большей мере понять и оценить безрассудную и баснословную расточительность Корреджо в области движения.
Эта фатальная легкость, с которой он изображал движение, привела его к явным ошибкам, театральным позам, нервному беспокойству и балаганным жестам фигур, которые лишь унижали поздние алтарные образы этого мастера. При всем этом персонажи картин Корреджо выполняют свою роль независимо от того, соответствует ли она декоративному или иллюстративному смыслу его живописи. Своенравный гений Корреджо мог даже выворачиваться наизнанку, дабы угодить страстям своего господина, примером чего может служить проказник-мальчишка, с гримасой нюхающий сосуд с миррой, стоящий возле Марии Магдалины (Алтарный образ «Мадонна со св. Иеронимом»).
XXVI
Мы склонны продлить наши объяснения потому, что иначе трудно понять, отчего Корреджо питал такое отвращение ко всему неподвижному и статическому, то есть ко всему монументальному. Связанный традициями современного ему искусства, он должен был изображать монументальные архитектурно-декоративные фоны на своих алтарных иконах, и в этом отношении он предвосхитил идеи барокко. Но, будь Корреджо предоставлен самому себе, он, весьма вероятно, сразу же окунулся в стиль рококо, а может быть, кончил и тем, что эмансипировался бы от всякой тектоники, как японские мастера.
Такой художник, разумеется, не смог бы разрабатывать принципы пространственной композиции в сколь-нибудь положительном смысле; имя Корреджо поэтому не следует упоминать рядом с именем Рафаэля. Кроме того, Корреджо добавляет к своей беспокойной экстравагантности, столь несовместимой с пространственной композицией, одну из самых больших ошибок своего времени – перенасыщенность композиции фигурами. Так, в его «Св. Иоанне Евангелисте» – бесспорно вдохновенном творении – вы не увидите ни одной благородной головы.
С другой стороны, Корреджо превосходил Рафаэля в изображении пейзажа, что и понятно, принимая во внимание его мастерство светотени. В ней он, возможно, был величайшим из итальянских мастеров. Леонардо и его школа использовали светотень в целях придания форме большей рельефности; другие, подобно Джорджоне, уловили магические световые возможности и воспроизвели их на полотне. Но Корреджо любил свет ради него самого и был вознагражден за свою любовь, потому что именно искусство передачи света вознесло его выше всех современных ему мастеров, особенно в изображении пейзажа. «Рождение Христа» (Милан, Брера) и «Прощание Христа с богоматерью» (Лондон, Национальная галерея) показывают, что он не хуже других умел выразить таинственную тишину и нежную прохладу раннего утра и поздних вечерних часов.
Никто не мог превзойти Корреджо и в понимании световых контрастов, как мы это видим в его картине «Поклонение младенцу», получившей название «Ночь» (Дрезден, Картинная галерея). Он не знает себе соперников и в передаче яркого дневного света, который дан в большинстве его мифологических картин и в «Мадонне со св. Иеронимом», справедливо названной «День». Это единственная известная мне картина, которая в совершенстве передает широкие дали, целое море света, равномерно рассеянное повсюду и пронизанное тонкими, просвечивающими сквозь дымку лучами, что представляет одно из наиболее величественных откровений природы в ясный итальянский полдень.
Свет и тень, восхитительная прохлада и в то же время солнечная прозрачность оттенков, которыми в совершенстве владеет Корреджо, открывают новые источники красоты в изображении его фигур. Он был не только одним из самых первых (вопрос приоритета не имеет отношения к искусству), но и одним из лучших мастеров, пытавшихся передать нежность человеческой кожи. Люди Мазаччо с их лицами цвета терракоты значительнее людей Корреджо, потому что выразить цветом образ человека гораздо важнее, нежели передать краской тончайшую поверхность кожи, хотя и это имеет значение. Ее жемчужность, ее солнечные и радужные переливы, как, например, в «Антиопе», тоже являются источником живого и изысканного наслаждения. Никто, кроме Корреджо, не смог так утонченно выразить чувственный трепет, пробегающий по обнаженному телу «Данаи», подобный легкому дуновению ветерка над уснувшей водой.
Достоинства колорита Корреджо – в мастерской передаче света. Последний – враг слишком разнообразного и локального колорита, и там, где цвет находится под контролем света, Корреджо пытается растворить его оттенки в монохромной гамме тонов. Отсюда можно сделать вывод, что подлинные мастера света никогда не привлекали нас красотой своих красок, хотя именно по этой причине и были великими колористами. И хотя в области колорита Корреджо можно считать выше Рафаэля, рядом с Тицианом его поставить нельзя, Корреджо ниже его. Поверхность его картин слишком лоснится, слишком глянцевита и масляниста, чтобы вызвать в нас иллюзию колорита как чего-то материального.
Продолжая изучать работы Корреджо и учитывая его одаренность и недостатки, я пытался найти причины его редких успехов и частых неудач. Предположив на время, что последние были связаны с расточительностью в области движения, я все же не мог понять, почему испытываю так мало удовольствия от сравнительно простой и монументальной композиции его алтарных картин и религиозных сюжетов, где для чрезмерной экспрессивности почти не оставалось места. Мне пришло в голову, что подобные сюжеты сковывали его страсть к движению, но, хотя эта мысль и была правильной, она не могла объяснить всех его неудач. Тогда я подумал: быть может, Корреджо познает свои триумфы, обратившись к мифологическим или другим светским сюжетам, там, где художник Возрождения, чувствуя себя раскрепощенным от традиций, враждебных его искусству, мог наслаждаться свободой творчества, подобно древнегреческому скульптору. Но это объяснение также оказалось не совсем верным, хотя и почти удовлетворительным. И, наконец, я пришел к выводу, что вся нервозность Корреджо, его преувеличения и беспокойство исчезают в тех картинах, где главную роль играло обнаженное женское тело и где можно было особенно полно выразить неотразимую силу женственности. И именно в них проявились тончайшие качества его живописи, подобные мелодичным созвучиям, чья гармония столь сладостно вторила человеческому чувству. Я понял тогда, что его религиозные сюжеты не могли нравиться, ибо в них Корреджо не проявлял должного отношения к передаче мужских фигур. Что касается женских образов, то их очарование в сочетании с религиозным пафосом в итоге создавали неискренность, а последняя предвосхищала то, что мы называем в искусстве фальшью или иезуитством.
Я понял тогда, почему так притягивают к себе «Даная», «Леда», «Антиопа», «Юпитер и Ио», и мне стало ясно, что они совершенны именно потому, что гений Корреджо творил их вдохновенно и свободно, без помех и препятствий, ибо все его возможности были раскрыты до конца, выполняя свое высшее назначение.
Эти картины – подлинные гимны женской прелести и красоте, подобных которым не было известно ни до, ни после Корреджо во всем европейском искусстве. Потому что XVIII век при всем его стремлении выразить подлинную женственность, не был в состоянии породить столь же гениальную натуру или сковывал ее творческие порывы слишком тривиальными женскими образами. Корреджо посчастливилось, потому что в его время форма, которая является азбукой искусства, все еще вызывала к жизни великие творения.
И все же если мы не можем поставить Корреджо рядом с Рафаэлем и Микеланджело, Джорджоне и Тицианом, то это не потому, что в том или ином случае он ниже их по каким-либо специфически живописным данным, нет, его ущербность в том, что величайшие в мире ценности, которые являются своего рода пробой на вечность, были ему до конца недоступны. Корреджо слишком чувствен и потому ограничен: величайшие человеческие ценности проистекают из совершенной гармонии чувства и интеллекта, той гармонии, которая с благородных времен Древней Греции не звучала во всей своей полноте даже у Джорджоне или Рафаэля.
XXVII
Моя повесть закончена. Она была слишком краткой, чтобы нуждаться в подведении итогов, и я прибавлю только еще одно слово о Пармиджанино – последнем из действительно ренессансных художников Северной Италии. Он обладал такой непреодолимой склонностью к элегантности, что его не удовлетворял и Корреджо. Но эту элегантность Пармиджанино выражал с такой искренностью и пылом, что создал свой подлинный, хотя и ограниченный стиль утонченной грации и хрупкой изысканности, который может мимолетно понравиться. Других живописцев этого периода в Северной Италии, заслуживающих упоминания, не осталось, разве что Джулио Кампи – изящного и элегантного эклектика, который, если говорить о его лучших вещах, оставил нам одну из самых сложных декоративных схем в искусстве Ренессанса, в церкви около Сончино, и исключительные мифологические фрески в заброшенном теперь летнем дворце в Саббионета.
Упадок искусства
В мое намерение входило набросать очерк по теории искусства, в частности искусства фигурного изображения и специально фигурной живописи. Я выбрал примеры из итальянского Возрождения не только потому, что я близко знаком с искусством Италии, но также и потому, что Италия – единственная страна, где искусство фигурного изображения прошло через все стадии своего развития: от подсознательного до утонченного, от почти варварского до высоко интеллектуального и обратно к варварскому, только прикрытому потускневшей, превращенной в лохмотья одеждой минувшего великого века.
Я уже говорил, из чего складываются зрительные и законченные образы фигурной живописи. Чтобы проверить теорию, мы должны посмотреть – объясняет ли она что-либо, в противном случае она не имеет права на существование.
Было бы не лишним еще раз изложить ее. Вкратце она сводится к следующему: все виды искусства покоятся на идеальных или воображаемых представлениях, не существенно, каким путем выраженных, но выраженных так, чтобы непосредственно повышать нашу жизнеспособность. Вопрос, следовательно, в том, что именно в данном искусстве способствует повышению нашей жизнеспособности? Ответы будут столь же отличны друг от друга, как отличается сущность одного вида искусства от другого, как различны средства их выражения и воображаемые представления, составляющие содержание искусства.
По отношению к фигурной живописи – наиболее типичной представительнице всей живописи в целом – я попытался выставить то положение, что главными, если не единственными источниками повышения нашей жизнеспособности являются: осязательная ценность, движение и пространственная композиция, под которыми я подразумеваю наши воображаемые представления о связи, строении, весомости, тяжести, энергии и единении с окружающим миром. Дайте одному из этих источников иссякнуть – и уровень искусства понизится. Дайте иссякнуть нескольким из них – и искусство в лучшем случае превратится в арабеску. Если же они иссякнут все – искусство погибнет.
Есть, правда, еще один источник, который, хотя и не так жизненно важен для искусства фигурного изображения, все же заслуживает большего внимания, чем я уделил ему. Я имею в виду колорит. Книга о венецианских живописцах, где обсуждается этот вопрос, написана много лет тому назад, раньше даже, чем я пришел к моей теперешней, ощупью найденной концепции о смысле и ценности художественных явлений. Когда-нибудь я, может быть, смогу исправить этот недостаток, но здесь не место, да и не тот это случай. Но так как краска играет менее существенную роль во всем, что отличает произведение живописи от персидского ковра, то и роль ее в судьбах искусства менее значительна.
Чтобы избежать повторения стереотипных фраз, я часто заменял неопределенный объективный термин «форма» субъективным понятием «осязательная ценность». Эти же слова имеют отношение к самым постоянным источникам повышения нашей жизнеспособности, как: к объему, массе, внутреннему содержанию и ткани построения. Различные способы выражения энергии, одинаково эффективно передающие как состояние покоя, так и действия, заключены в один объединяющий их термин – «движение».
Ясно, что если высочайшее достижение живописи заключается в совершенной передаче формы, движения и пространства, то живопись не может прийти в упадок, пока она придерживается этого доброго, никогда не устаревающего правила. Но мы созданы так, что не можем долго стоять на одном месте. Достигнув горной вершины, мы останавливаемся только для того, чтобы перевести дух, и, почти не глядя на земные царства, расстилающиеся под нашими ногами, бросаемся, очертя голову, вперед, редко зная куда, пока не оказываемся, весьма возможно, в болоте. Мы больше интересуемся нашей функциональной деятельностью, чем ее результатами, следовательно, более склонны к действиям, чем к созерцанию, а активная деятельность, особенно в среде наиболее одаренных представителей нашей расы, ведет к тому, что они не останавливаются на достигнутом, а в безумии устремляются за новизной. Кроме того, мы больше заботимся о самоутверждении, чем о совершенстве. В глубине души мы инстинктивно отдаем предпочтение правде и новизне, как мы ее понимаем, но не доброте и красоте. Так мы непрерывно изменяемся. И циклы нашего искусства весьма кратковременны, они продолжаются не более трех столетий, а гений нашего времени стремится к разрушению в той же мере, как к созиданию.
Ряд житейских предрассудков вводят нас в заблуждение относительно истинной природы человеческого гения, определяя его только как благородную и высокую духовную силу. Исходя из этой предпосылки, мы, естественно, ошибаемся, пытаясь искать гений в периоды упадка искусства, и бессмысленно удивляемся, когда от столетия к столетию его не удается обнаружить. Но так как существует значительная разница между человеческими культурами разных поколений, то незачем высокомерно утверждать, что эти различия исключают возможность появления гениальной натуры, если, разумеется, не наступит активное вырождение, как произошло в IV – V веках нашей эры у средиземноморских племен.
Даже в самые унизительные периоды истории, когда древний мир, подобно сморщенной старухе, становился все более и более дряхлым, сохраняя силы лишь, на то, чтобы удержать душу в своем бренном теле, гений не угасал окончательно хотя и принужден был раболепствовать перед силой военщины, правительствами, рекламой и ханжеством.
Но Италия после смерти Рафаэля и Микеланджело, Корреджо, Тициана и Веронезе не была в состоянии упадка. Нация оставалась не только сильной, но и достаточно экспансивной для того, чтобы по-настоящему осуществлять через посредство бесчисленных и самозванных эмиссаров свое огромное влияние на европейскую культуру. Она проявила гениальность и в других областях искусства, например в музыке, и было бы странным, если бы в это время Италия не произвела никого, кто бы имел склонность к фигурной живописи.
Если мы определим понятие гениальности как активную способность к сопротивлению против принудительной художественной тренировки, то мы сможем приложить это определение к ряду профессий, развивавшихся и менее блестяще. Мы говорили, что гений может не только созидать, но и разрушать, мы сумели объяснить его самоутверждение и понять инстинктивную симпатию, какую он вызывал к себе даже в тех случаях, когда он оказывался наиболее губительным в своих действиях.
Представьте себе, что за Микеланджело, Рафаэлем и Корреджо последовали бы художники, которые так же успешно противодействовали им, как противодействовали эти трое своим учителям – Гирландайо, Тимотео дель Вите и Лоренцо Коста. Если вы вспомните, что к этому времени возникает своеобразный стиль маньеризма, что Микеланджело жил настолько долго, что его поздние произведения с трудом можно отличить от произведений его ученика Марчелло Венусти, что только преждевременная смерть спасла Рафаэля от того, чтобы опуститься и стать лишь менее грубым, чем его ученик Джулио Романе, то нетрудно вообразить себе, что неистовый флорентийский гений мог вдребезги разбить своим молотком уже отлитые в качестве неприкосновенных образцов формы и закончить свои деяния тем, что сблизиться с Курбе и Мане теснее, чем с их далеким предшественником Караваджо. Какой-нибудь другой гений, обладающий умбрийской мягкостью и чувством пространства, мог бы превратиться в нечто более восхитительное, чем Доменикино, а владеющий даром Корреджо выражать очарование женственности мог объединить в себе лучшие черты творчества Фрагонара, Наттье и Буше. Каждый стал бы заметной и с исторической точки зрения интересной фигурой, но никто из них, несмотря на бесспорную гениальность, не смог бы занять трона в самых священных покоях Искусства.
Таким образом, то незначительное противодействие по отношению к наследию мастеров классического искусства, которое проявилось со стороны наиболее выдающихся представителей маньеризма, эклектизма и реализма с его контрастной светотенью, было скорее всего вызвано не отсутствием у них энергии, а тем, что она направилась не по тому руслу, рассеялась по разным направлениям и была неправильно растрачена. Возможно, такие талантливые мастера, как Караччи, Гвидо Рени, Доменикино и Караваджо, смогли бы подняться до уровня Синьорелли, Перуджино, Пинтуриккио и Учелло, если бы искусство фигурного изображения находилось на должной высоте в XVII веке.
Но упадок в их дни был неизбежен. Искусство формы подобно дрезине, которая обеспечивает движение по рельсам, но не дает возможности двигаться в каком-либо другом направлении. В период архаического искусства, как я уже говорил, ни один талантливый художник не может сбиться с пути, потому что оно преследует одну цель – выразить форму и движение. Художник может осуществить их не полностью или в неправильной комбинации друг с другом, может сочетать их идеально и стать классиком. Он может, наконец, преувеличить одну из этих сторон, превратив ее в карикатуру, как это склонны были делать наименее одаренные из архаических мастеров. Но выраженные ими форма и движение или их сочетание, органически присущие архаическому стилю, должны во всех случаях способствовать повышению нашей жизнеспособности.
В результате этого интереса к форме и движению художник XVII века вырабатывает различные типы и приемы работы, и все это находит свое выражение в его рисунке; последний, становясь все более совершенным, заставляет нас забывать о том, как он создавался, и наше восхищенное внимание целиком сосредоточивается на достигнутом результате. Таким образом, канонизируется то, что не было первоосновой искусства, то есть типы, очертания, художественные приемы и расположение фигур, и упускается из виду то, что они лишь следствие изучения разработанных ранее проблем формы и движения.
Талант отныне преследует новую цель, и его развитие подгоняется не только инстинктивной страстью к самоутверждению, не важно какому, и к перемене, не важно зачем, но и к широкой популярности. Потому что большинство из нас обладает чувственно-эмоциональным восприятием, а архаика со своей сухостью ничего не дает этому большинству. В искусстве, достигшем своей вершины и ставшем классическим, как я уже говорил, когда определял, что такое красивость, всплывают на поверхность некоторые другие элементы, которые, помимо обращения к чувствам толпы, прославляют ее и обещают одно из излюбленных удовольствий – чувствительные переживания при минимальной затрате разума.
Но классическое искусство, для которого эти моменты являются побочными, потому что оно мало затрагивает сферу эмоциональных переживаний, слишком сдержанно по выражению и слишком строго в своей красоте, чтобы удовлетворять вкусы широких масс. Последние поэтому встречают аплодисментами всякую попытку самоуверенного молодого художника, руководимого лишь своим инстинктом видоизменить этот стиль, но любые вариации на тему классического искусства ведут к схематизации и утрате его благородной ясности. Если конечная цель классического искусства понимается неправильно, то может статься, что какому-нибудь умному юноше придет в голову изобразить лицо посредством лишь одного овала, лишив его при этом обычной моделировки, выразив, таким образом, его привлекательность как бы в отвлеченно-чистом виде. Следовательно, он удовлетворится красотой овала, и, чтобы сделать лицо более интересным, художник новой школы не будет углублять и усиливать его выразительность. Но и на этом он не остановится, а будет поступать подобным же образом с передачей действия, пренебрегая его единственным источником – движением – и изображая фигуры лишь в виде силуэтов, до тех пор пока они не превратятся в условные знаки пиктографического письма.
Зайдя так далеко, этот живописец, рожденный уже на следующей остановке, попытается каким-то образом сплести эти условные линии в рисунок, основанный, однако, не на форме и движении, а на выявлении лишь наиболее красноречивого и привлекательного. И на этот раз, не сознавая, куда влечет его за собой эта слепая сила, хотя она и сопровождается аплодисментами толпы, художник выкинет за борт и форму и движение. Иными словами, он выбросит искусство за дверь, но, в противоположность природе, оно не влетит к нему обратно через окно.
Для искусства, как и для всех духовных материй, десять лет жизни – редко достигаемый предел. Новое поколение неуклонно следует по пятам за старым. Его стремления к переменам, его самоутверждение далеки от предыдущих и, естественно, противоположны тем, какие были до него, и новые художники, холодно взирая на достижения своих ближайших предшественников, испытывают смутное чувство крайнего неудовлетворения. Они сами еще не понимают, что именно им не нравится, потому что учителя, в противоположность учителям архаических школ, не обращали их внимания на форму и движение. Вместо того чтобы помогать ученикам, они вводят их в заблуждение, желая одновременно и избежать трудностей и получить удовольствие от элементарно исполненного изображения, и ученики испытывают необходимость вернуться обратно к классикам. Но, с одной стороны, они редко обладают достаточной энергией, чтобы вырваться из-под власти авторитетов, с другой – они потеряли ключ, забыли грамматику и не знают, чему именно им следует учиться у классиков. Один думает, что колориту или светотени, другой – форме, третий – приемам, а кто-то считает, что надо заимствовать у них композицию и симметричное расположение предметов. Наконец, один, наиболее способный, возвысится над всеми и убедит себя и других, что лишь сочетание всех элементов будет способствовать возрождению великого искусства.