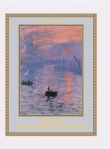Текст книги "Живописцы Итальянского Возрождения"
Автор книги: Бернард Беренсон
Жанры:
Искусство и Дизайн
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц)
Книга III. Живописцы Средней Италии
ХУДОЖНИКИ ФЛОРЕНЦИИ достигли совершенства в передаче формы и движения; венецианские – в красоте и гармонии колорита; что же внесли в волшебное искусство эпохи Возрождения живописцы Средней Италии? Редко краски так трогают и проникают в душу, как в живописи Симоне Мартини, Джентиле да Фабриано, Перуджино и Рафаэля. И все же если эти великие мастера кажутся иногда холодными и даже суровыми, то их младшие собратья имеют еще меньше заслуг как колористы. Редко проблемы формы и движения бывали удачнее разрешены, чем у Синьорелли, а между тем у него было мало последователей, если они вообще были. Нет, не в области колорита и не в создании новых форм прославилась живописная школа Средней Италии. Почему же тогда имена ее художников столь велики и популярны? Наше исследование, если оно будет успешным, даст на это ответ.
I
Всякий раз при взгляде на какой-либо предмет в нашей памяти запечатлевается как бы «тень» его формы и цвета. Это впечатление от одушевленных или неодушевленных вещей, обычно известное под названием «зрительного образа», присуще различным людям в различной степени. Некоторые почти не получают его, хотя знают, что зрительный образ существует; другие, напротив, могут вызвать в памяти впечатления, настолько определенные, что последние пробуждают в них ответные чувства. Третьим достаточно только закрыть глаза, чтобы представить несуществующий образ с живостью и теплотой непосредственного зрительного восприятия. Строго говоря, каждый человек отличается друг от друга богатством своих зрительных впечатлений, но для наших целей нам достаточно разделить всех людей на три категории: о первых мы скажем, что у них полностью отсутствует зрительная память; о вторых – что они обладают ею в умеренной степени; о третьих – что они владеют ею в совершенстве.
Развитие искусства было бы, вероятно, совершенно иным, если бы люди вообще не имели зрительной памяти или, наоборот, имели бы превосходную зрительную память. В первом случае нам, вероятно, не доставляло бы удовольствия смотреть на воспроизведения предметов. Да и зачем это было бы нужно? Напротив, во втором, если бы мы обладали возможностью по собственному желанию вызывать полноценные зрительные образы, у нас полностью отсутствовал бы интерес к простым репродукциям. Но большинство из нас принадлежит ко второй категории – к тем, кто обладает умеренной зрительной памятью. Упоминание предмета вызывает в нас некое представление о нем. Оно так неясно и неуловимо, что скорее дразнит нас, чем удовлетворяет. После бесплодных усилий удержать в памяти образ отсутствующего друга с радостью бросаешься даже на его плохую фотографию, которая кажется им самим, потому что она с внешней стороны выглядит более совершенной, нежели постоянно живущий внутри нас образ близкого человека.
Однако все это становится иным, если мы обладаем совершенной зрительной памятью. При имени друга мы можем представить себе его так же ясно, как если бы он был здесь. Не один, а тысяча его дорогих сердцу образов возникнет в нашей памяти, и каждый из них будет близок нам. И по тому, как подскажет нам настроение, мы мысленно изберем один, но будет ли он сходен с изображением друга? Если последнее и хорошо, то ведь здесь представлено лишь одно мгновение из целой жизни, а может ли оно выразить его индивидуальность целиком? Таким образом, если я получаю удовольствие от репродукции, сходной с моделью, то это происходит лишь вследствие несовершенства моей зрительной памяти.
А теперь представьте себе искусство, которое не ставило бы себе целью активизировать нашу зрительную память, так как каждый из ее образов совершенен. Как могло бы тогда искусство доставить нам чисто зрительное наслаждение? Оказывается, существуют два пути его развития, из которых один мы назовем «иллюстративным», а другой «декоративным». Оба эти понятия нуждаются в пояснении, если не в защите.
Под декоративностью я подразумеваю все те элементы художественного произведения, которые непосредственно взывают к нашим чувствам, как колорит и тон, или непосредственно воздействуют на наши осязательные ощущения, как форма и движение. Такое понятие декоративности никогда сознательно не использовалось в столь широком смысле слова, и, действительно, это один из самых неопределенных терминов в нашем языке. Но так как за последнее время появилась тенденция обозначать им многие элементы художественного произведения, за исключением разве понятий экспрессивности, академичности или чисто технического умения, то мы не слишком перегрузим этот термин, если возложим на него еще тот смысл, который я ему придаю.
Каково же определение иллюстративности? Это все то, что исключает декоративность. Но такое определение слишком негативно и буквально, чтобы оно могло нас удовлетворить. Мы должны придать ему большую конкретность. Обычно это понятие применяется слишком широко и в то же время (как я постараюсь доказать) слишком ограниченно. На фрески Рафаэля в лоджиях Ватикана, иллюстрирующих Библию, нельзя смотреть так же, как мы смотрим на иллюстрации или фотографии, заполняющие собой журнальные статьи о путешествиях. Мы все чувствуем эту разницу, но в чем она реально заключается? Ответ будет ясен, коль скоро мы уясним себе, что означает для нас каждый из видов иллюстраций. Воспроизведение вида природы есть только репродукция, и мы воспринимаем ее с фактической точки зрения, а не как произведение искусства. Оно может вызвать удовольствие тех, кого интересуют поиски точного зрительного образа. Фрески Рафаэля не воспроизводят ничего из того, что когда-либо существовало в окружающем нас мире или было кем-либо увидено, но разве они ничего не дают нашей зрительной памяти? Напротив, они загружают наше восприятие рядом образных сцен. Каких? Которые никогда не происходили? Да, именно так. И это, разумеется, не те зрительные образы, о которых мы только что говорили, что они лишь туманные отражения реально существовавших предметов. Тогда что же это такое? Думается, что это те же зрительные впечатления, но объединенные художником в стройную систему библейских легенд. Тот психологический процесс, который происходил в голове Рафаэля, до известной степени происходит и у нас, обладающих зрительной памятью. Слова вызывают у нас образы, заполняющие наше воображение, возникая по мере развитии фразы или фабулы, полностью соответствуя при этом их смыслу.
А что, если существует человек, не обладающий одинаковой с нами зрительной памятью, превосходящий нас богатством своего воображения? Что, если его зрительные образы ярче, что, если он, сплавляя их вместе, создает новые, более пленительные, чем наши? И если этот человек, читая, например, Ветхий завет, мысленно воспроизводит живописные образы, придавая им столь глубокий смысл, какой нам самим не обрести; что, если все это так? Тогда мы должны признать, что его художественное воображение несравненно более богато, пылко и совершенно, чем наше.
Но каким образом умственное представление подобного рода превращается в произведение искусства? Ответ довольно прост: оно должно быть точно скопировано в мраморе или перенесено на холст и тогда станет художественным произведением. В этом ли только дело? Большинство людей, не колеблясь, сказали бы – да. Старый спор об идеале, новый спор о темпераменте; Аристотель и Золя, удобно устроившиеся в одном кресле. На обычный вопрос: каково различие между фотографией и таким произведением искусства, как, например, портрет кисти Уоттса, большинство ответили бы так: первая дает только общее представление о человеке, а второй раскрывает нам его психологическую характеристику, сделанную с большей силой. Таким образом, искусство – не слепая имитация природы, а воспроизведение зрительных образов, теснящихся в голове художника.
И все же некоторые не удовлетворились бы таким определением. Репродукция, сказали бы они, это не искусство, независимо от того, прекрасно или возвышенно ее содержание. Удовольствие, которое она доставляет, имеет не художественный, а эстетический характер, в широком смысле этого слова, или, может быть, только интеллектуальный. И эти некоторые стали бы настаивать на различии между вещью, прекрасной самой по себе, или прекрасным зрительным образом и произведением искусства, а также на разнице между понятием «эстетический» и «художественный», допуская, что первое включает в себя второе. Далее, они сказали бы, что произведение искусства сравнительно мало может выиграть от привлекательности сюжета, что задача художника и состоит в том, чтобы осмысливать и возвышать этот сюжет своей интерпретацией. И простое воспроизведение действительности, какой бы возвышенной она ни была, какими бы грандиозными замыслами ни проникнута, сведется для них к понятию литературности, и я разойдусь с ними только в словах, так как скажу вместо «литературность» – «иллюстративность». Наконец мы нашли определение, которое искали. Ценность иллюстративной живописи заключается, следовательно, не в ее внутренних художественных достоинствах, форме, колорите или композиции, а в точном воспроизведении зрительных образов, заимствованных как из внешнего мира, так и из нашего, внутреннего. Таким образом, если в каком-либо произведении искусства мы не обнаружим присущей ему внутренней художественной ценности, то оно станет для нас не чем иным, как «иллюстрацией», и несущественно при этом, будет ли она нарисована, гравирована и расцвечена на бумаге или написана на доске или стене.
Если бы у Рафаэля и Микеланджело, Леонардо или Джорджоне мы не находили ничего, кроме точного воспроизведения на полотне и в мраморе их зрительных реальных или идеальных образов, то эти художники оказались бы иллюстраторами в гораздо большей степени, чем тот безвестный сонм живописцев, который поставляет рисунки для большой прессы. Правда, между первыми и вторыми лежала бы пропасть по качеству исполнения, но фактически это было бы одно и то же.
«Иллюстрация» (а я буду в дальнейшем пользоваться именно этим словом) имеет, следовательно, и узкий и более широкий смысл, нежели тот, который применяют к ней обычно, подчиняя ее всецело печатному тексту. Из нее следует исключить репродукции, воспроизводящие обычные предметы, слишком примитивные сами по себе, чтобы доставить удовольствие кому-либо, кроме разве совершенно неразвитых людей, для которых простое распознавание изображения уже сама по себе радость. Но, с другой стороны, иллюстрация содержит в себе простое воспроизведение тех зрительных образов, не важно, сколь они сложны или значительны и какой имеют вид, чьи формы мы не могли бы воспринять с полной отчетливостью, так как они не обладают внутренней, присущей им ценностью.
II
Из желания сократить путь, который приведет нас к пониманию многих сложных проблем, а не в целях академического поучения начал я свой краткий очерк о живописцах Средней Италии с рассмотрения, что такое зрительный образ и сколь необходимо нам отличать в произведениях искусства декоративное начало от иллюстративного; легче было бы идти по широкой и пологой дороге, но, одолев крутой подъем, мы пойдем быстрее и достигнем большего.
Что может сильнее ввести в заблуждение, чем перемены моды или вкуса? Большинство людей становятся насмешливыми скептиками и предлагают немногим любителям старины выбирать между молчанием и парадоксом. «О вкусах не спорят» – изречение, которого придерживаются сейчас не меньше, чем во времена варварства. Правда, правила вежливости запрещают заходить слишком далеко в спорах о вкусе, но если бы последним можно было уделить достаточно внимания и развить наши взгляды, не боясь кого-либо затронуть, то разве не могло бы случиться, что мы сошлись бы во мнениях? Я уверен в этом. К счастью, это не входит в нашу задачу, и мы постараемся избегнуть этой опасной попытки. Но одно, во всяком случае, должно быть разъяснено сейчас же. Дело в том, что отдавать чему-либо предпочтение в искусстве совсем не то же самое, что делать это в жизни. Жизнь выдвигает различные требования от поколения к поколению, от десятилетия к десятилетию, ото дня ко дню, от часа к часу, и по мере этого изменяются и предметы наших желаний и восторгов, а следовательно, и художественные темы. Иначе и быть не может. В искусстве же большинство культурных людей ценит глубокий замысел и красоту идей, а раз это так, то последнее должно отражать эти замыслы и идеи, или оно не будет выполнять своего назначения. Однако неустойчивость тех или иных взглядов выражается главным образом в изменении лишь одной стороны художественного произведения, именно иллюстративной, а это, как мы договорились с читателем, далеко не самый существенный фактор в искусстве. Остается еще декоративная область, которая не затрагивает идеологических моментов по той причине, что они могут быть выражены и без ее посредства. Поэтому декоративные элементы художественного произведения, независимые от тех или иных зрительных образов, положенных в его основу, стоят выше превратностей моды и вкуса. Наступают иногда времена, когда люди увлекаются иллюстративным видом искусства или чисто техническим мастерством. Это периоды попросту дурного, а не изменившегося вкуса. Многим может нравиться Гвидо Рени, а не Боттичелли, Караччи, а не Джорджоне, Бугро, а не Пювисс де Шаванн, но пусть они не заблуждаются относительно того, что их предпочтение основано на художественных достоинствах данных произведений. Истина заключается в том, что высокие живописные качества картины выше понимания этих людей, ищущих в ней только изображения действительности или, может быть, технического умения, которое они случайно могут оценить.
Грубое деление художественных элементов на две категории – иллюстративную и декоративную – в какой-то мере уже пригодилось. Оно дало нам возможность отделить то, что в произведении искусства подвергается изменениям, от того, что является в нем неизменным. Декоративное начало и внутренние качества живописи настолько же вечны, как и психологические процессы, которые, как мы думаем, только видоизменяются от века к веку, но, по существу, остаются такими же. Иллюстративность же меняется от эпохи к эпохе вместе с умственными представлениями и выражающими ее зрительными образами, и потому она так же разнообразна, как разнообразны расы и индивидуумы. Отсюда следует вывод, что искусство, которое содержит главным образом иллюстративные элементы, перестанет существовать тогда, когда выражаемые им идеи утратят свою ценность, а также то, что если мы не можем ощутить декоративное начало в художественном произведении, то оно скоро перестает нам нравиться.
III
Теперь на время мы можем оставить всякие абстрактные рассуждения и заняться живописью Средней Италии. Последняя не всегда отличалась красивым колоритом и редко достигала больших успехов в передаче формы, но тем не менее то одно, то другое направление в этой школе всегда привлекало внимание если не самых искушенных ценителей, то, во всяком случае, более сведущей публики. И мы поймем причину этого. Живописцы Средней Италии были не только величайшими иллюстраторами, каких мы, европейцы, когда-либо знали, но и самыми привлекательными среди них. Они видели и воспроизводили те образы, которые воплощали стремления и идеи двух разных эпох. Первая из них – средние века – настолько далека, что для нас ее представления уже непонятны, и искусство, выражавшее их, утратило свой блеск и очарование, которыми оно когда-то обладало; оно постепенно поблекло и стало скучным, как ветхий документ, подтверждающий подлинность умершей старины. Но другая эпоха нам еще очень близка, и ее стремления и желания, облеченные в художественные формы, понятны нам в той же мере, в какой они были поняты тогда, когда четыреста лет тому назад зародились в голове у Рафаэля.
Мы начнем с той школы, в которой развивалась иллюстративная живопись, посвященная средневековым темам. Графическое искусство в Италии, вероятно, никогда не умирало с момента своего возникновения, и было бы кропотливым трудом проследить его развитие в течение долгого времени. Оно то застаивалось, истощалось и почти исчезало, пока, вновь питаемое живыми и непостижимыми источниками, не превращалось в бурный поток. Оживал ли это этрусский гений? Приносилось ли это искусство вместе с морским ветром из Византии? Или приходило из-за гор, с улыбающихся полей Франции? Пусть историки ищут ответы на эти увлекательные вопросы. Потому что нас интересует не происхождение искусства, а доставляемая им радость, и для этого нам совершенно достаточно знать, что живопись как искусство процветала в конце XIII века, за стенами «нежной Сиены», бывшей в те времена, как и позже, обольстительнейшей королевой среди итальянских городов.
Первым цветком этого нового сада, цветком, из семени которого выросло все сиенское искусство, был Дуччо ди Буонинсенья. И именно потому, что он был типичен для своего времени и для сиенской школы и предвосхитил многое из того, что характеризовало всех живописцев Средней Италии, мы должны на нем остановиться.
Все, что средневековое искусство требовало от живописца, Дуччо выполнял с готовностью. Средневековый мастер должен был писать иконы с религиозно-символическим содержанием и делать это настолько тщательно, чтобы самый невежественный верующий мог в нем разобраться. Такие иконы наряду с остальной церковной утварью служили украшением храма и поэтому блестели и переливались, как настоящее золото.

ДУЧЧО. ЯВЛЕНИЕ УЧЕНИКАМ. КЛЕЙМО АЛТАРНОГО ОБРАЗА «МАЭСТА». 1308-1311
Сиена, Музей собора
Нужно и должно было преобразить эту отвлеченную символику в прекрасные иллюстрации к религиозным легендам. Испытала ли она такое превращение под кистью гениального Дуччо?
Чтобы получить на это ответ, рассмотрим оборотную сторону иконостаса, некогда украшавшего собой самый гордый в мире христианский храм. Ныне этот алтарный образ, находящийся в сиенском музее, постепенно разрушается, утратив свой интерес для людей и неугодный богу. Однако зеленые с золотом краски, отливающие блеском металла, хранят еще следы великолепия, такого же, какое никогда не поблекнет на бронзовых рельефах «Райских дверей» Лоренцо Гиберти.
Таинственным призывом манит к себе зрителя этот алтарный образ, в котором столь удивительно отражено сплетение духовных переживаний с чисто земными чувствами. Он подобен старинному переплету манускрипта с бесценными миниатюрами, с инкрустациями из слоновой кости, отделанного золотом и драгоценными камнями. Когда вы всматриваетесь в «Маэсту» Дуччо ближе, вам кажется, что вы листаете роскошно иллюстрированную книгу. Перед вами оживают давно знакомые образы, исполненные такой простоты и законченности, что для современников Дуччо эти иллюстрации, наверно, уподоблялись утреннему солнечному сиянию после глухой тьмы долгой ночи. Но, кроме того, по сравнению с условно-символическими изображениями эти церковные легенды обрели под кистью Дуччо ту новую жизнь и присущую им нравственную ценность, которую он сам ощущал в них. Иными словами, он поднимал зрителя на уровень своего восприятия.
Взглянем на некоторые из этих сцен: во дворце, посреди седобородых, погруженных в размышления мужей сидит мальчик с величественной осанкой. Изображенные слева женщина и старик с восхищением всплескивают руками. Никогда еще тема «Христос среди ученых» не получала более подходящей иллюстрации. Ни одной лишней фигуры, ничего тривиального и в то же время ни одного штриха, противоречащего выражению чисто человеческих чувств. Позы и жесты предельно выразительны.
Другая сцена: Христос с учениками. Божественный и величественный, он сидит перед ними, а они взирают на него так, как будто он открылся им впервые. И мгновенный взрыв высоких человеческих чувств и патетика религиозного экстаза даны здесь с предельной убедительностью. И, заметьте, возвышенная интерпретация религиозного образа не помешала Дуччо выявить индивидуальную выразительность каждого, а ведь здесь изображены различные возрасты и темпераменты. Следующая картина – «Омовение ног». На лицах учеников оцепенение, почти испуг и вместе с тем недоумение, словно они не верят своим глазам. Христос, омывающий ноги апостолу Петру, – весь сострадание и смирение. Петр сжимает голову руками, как будто хочет увериться в реальности всего происходящего.
Было бы нетрудно заполнить последнюю часть этого небольшого очерка описанием почти непревзойденных триумфов Дуччо в интерпретации и выразительности образов. Это встречается почти на каждом шагу. Но еще одного или двух примеров будет достаточно. В следующей сцене мы видим Христа в сияющих золотых одеждах, устремляющегося в ад для освобождения патриархов и пророков. Они толпой направляются ко входу в черную пещеру, и на их лицах застыла тоскливая надежда, с которой они ждали в течение тысячелетий появления Спасителя.
Потом на земле наступило пасхальное воскресение и, как только солнечный свет хлынул сквозь зазубренные скалы, три Марии приблизились к гробу и отступили, увидев его пустым. На отодвинутой крышке сидел сияющий и торжествующий ангел в белой одежде. Я не знаю более впечатляющей передачи этого самого чудесного из всех сюжетов. К драматической выразительности и жестикуляции Дуччо добавляет драматическое освещение во всей магии его внезапных переходов. Легкий прозрачный воздух овеян пурпурно-бронзовым солнечным сиянием, и мы чувствуем живительную прохладу весеннего дня.
Выразительной передачей образов, величием замысла и глубиной чувства – всеми этими качествами, присущими подлинному искусству, Дуччо обладал полностью, а это означало, что он владел также формой и движением, раз он мог создавать подобные эффекты.
Остаются еще два других необходимых условия, без которых «иллюстративное» искусство будет скорее хромать, нежели идти вперед. Это – группировка и расположение фигур. В том, что Дуччо постиг и эти условия, присовокупляя успехи в этой области к другим своим достижениям, мы убедимся, если посмотрим еще на несколько сцен оборотной стороны сиенского алтаря.
Обратимся сначала к сюжету, требующему драматического действия и многих актеров, – «Поцелую Иуды». В центре переднего плана мы видим неподвижную фигуру Христа; гибкий и подвижный Иуда заключает его в свои объятия, в то время как легко вооруженная стража, теснящаяся кругом, хватает Христа, а старейшины фарисеев при виде его лица, исполненного смирения, отступают, пораженные ужасом. Слева горячий и негодующий апостол Петр бросается на солдат с ножом, справа, толпясь и суетясь, убегают ученики, и только самые отважные решаются оглянуться назад. Мы видим здесь две группы людей, и каждая из них настолько выразительна, что ошибиться в их действиях можно только при полнейшем отсутствии разума. В другой сцене – «Неверие Фомы» – Христос изображен с поднятой правой рукой, открывающей рану для нечестивого прикосновения маловерного ученика. Эти две фигуры даны в отдалении, с обеих сторон от них стоят апостолы, размещенные так, что мы видим выражение лица каждого.
Что Дуччо сумел нам показать пространство, глубину и расстояние между фигурами, мы поняли уже по таким его композициям, как «Три Марии у гроба» или «Поцелуй Иуды», но не будет излишним добавить к этому еще несколько примеров.
Во-первых, обратимся к области жанра, введенного Дуччо. В сцене «Отречение Петра» мы видим группу людей, сидящих вокруг костра с протянутыми вперед руками, дабы согреться его теплом. Среди них Петр, произносящий слова отречения; мимо проходит служанка. Хотя перспектива далеко не совершенна, мы не можем пожелать более четкого размещения фигур, чем здесь. Внутренний двор, комнаты, лестница вдоль дома – все отдалено одно от другого, превосходно передана глубина пространства. И затем шедевр Дуччо – «Въезд в Иерусалим». Мы в саду. Если взглянуть поверх низкой стены, то можно увидеть Христа, едущего в сопровождении учеников по мощеной дороге. Перед ним, шаловливо оглядываясь, идут мальчики, несущие пальмовые ветви и оливковые побеги. Толпа устремляется в большие городские ворота. По другую сторону дороги – фруктовый сад с людьми, взбирающимися на высокую ограду и деревья. Вдали виднеются храм и башни Иерусалима. Нам не только дана возможность реально ощутить пространство, но, что самое удивительное, занять в нем определенное место в качестве свидетелей и участников этого легендарного события. Дуччо сумел преобразить условную религиозную символику, которую в течение веков пытались расшифровать набожные души, в наглядные иллюстрации, извлекающие из священной истории все то, что было существенно для восприятия средневекового человека.
Но мог ли Дуччо передать внутреннюю ценность своих зрительных представлений, помимо их чисто иллюстративных качеств? Присутствуют ли в его живописи те необходимые декоративные элементы, которые возвышают искусно выраженный зрительный образ до подлинной реальности?
Этим исследованием мы и должны сейчас заняться. С первого взгляда сцены оборотной стороны сиенского алтаря очаровывают своей поблекшей яркостью. Они настраивают нас на то, чтобы наслаждаться ими, как старинным золотом или мозаикой, принявшей оттенок античной бронзы. И если бы это было так, то радость, получаемая нами от произведений Дуччо, была бы лишь немногим выше той, какую мы испытали бы от древних ювелирных изделий, старинного шитья или тканей. Но впечатления от подобного рода предметов неравноценны впечатлениям, получаемым от живописи – искусства, в малой степени зависящего от материала, приятного самого по себе. Когда мы всмотримся в картины Дуччо, то обнаружим, что помимо хороших иллюстративных качеств они обладают и декоративной ценностью. Как удачно справляется Дуччо с построением пространства, мы уже знаем и потому не возвращаемся к этой теме. Это качество специфически-живописное, а не только иллюстративное, как это могут подтвердить большинство иллюстраторов нашего времени.
Мы уже заметили, что Дуччо мастерски группирует фигуры, что способствовало ясности его повествования. Но он пошел дальше, создавая эффект масс и линий, приятных для глаза и удачно размещенных в пространстве. Другими словами, он хорошо компоновал. Несколько примеров пояснят мою мысль. В одной или двух сценах мы уже отметили хорошую группировку фигур применительно к иллюстративным задачам. Но группировка в композиции имеет еще большие заслуги. «Неверие Фомы» было бы воспринято нами только как чисто исторический эпизод даже в том случае, если массы не были бы столь ритмично распределены, если бы фасад надлежащей величины и формы не создавал нужного фона. Выразительный образ Христа не изменился бы и тогда, если бы он стоял в центре, под вершиной фронтона, высота которого увеличила его фигуру, или не выделялся бы на фоне сводчатой двери. Точно так же мы не много потеряли бы, если бы композиция была изображена на квадратной доске вместо скошенной и подчеркивающей в силу этого покатые линии крыши, обрамляющие фигуру Христа.
Однако воображаемое пересечение этих линий под острым углом вызвало бы ряд неудач, и среди них одну особенно: точка их пересечения пришлась бы не на голову Христа, а на верхушку фронтона. Следовательно, направление нашего взгляда не совпадало бы с идейным центром композиции и противоречило помыслам зрителя, направленным на восхищенное созерцание Спасителя.
Таким образом, эта картина дает нам многое помимо легендарного рассказа. Это настолько тонкая по расположению масс и линий композиция, что мы вряд ли найдем ей подобную. Исключение составляет лишь один живописец, тоже работавший в Средней Италии и занявший такое же место среди художников Высокого Возрождения, какое Дуччо занимает среди мастеров Проторенессанса. Я имею в виду, конечно, Рафаэля. Не следует думать, что я выбрал единственный пример, в котором Дуччо показал себя великим мастером композиции. У него почти нет произведений, где бы массы, линии и пространство трактовались менее тонко. Краткость изложения и боязнь наскучить читателю описаниями, которые следовало бы делать точным языком геометрических формул, удерживают меня от того, чтобы привести много других примеров. Но позвольте мне сослаться еще на один, с которым мы уже знакомы, – на «Поцелуй Иуды». Какую компактность и значительность придают массе фигур два густых дерева; без них она казалась бы незаконченной и тяжеловесной. Заметьте, что Христос стоит под деревом, занимающим центр композиции и являющимся точкой схода всех линий над его головой, что придает фигуре жизненность и как бы слитность с природой. А как великолепна сцена с копьями и факелами солдат, перекрещивающимися и параллельными линиями – эффектом простым и в то же время значительным, а ведь он встречается еще в древней помпейской росписи – «Битва Александра Македонского» и позже во «Взятии Бреды» Веласкеса.
Если композиции Дуччо так совершенны, проникнуты чувством и мастерски по формальному решению, если ко всем своим достоинствам «иллюстратора» он добавляет чисто материальное великолепие колорита, если его можно сравнить с Рафаэлем и он к тому же создает ощущение пространства, то почему же мы так редко слышим о нем? Почему он не так знаменит, как Джотто? Почему он не стоит в одном ряду с величайшими живописцами? Джотто был немногим моложе его, и между ценителями того и другого могла быть только едва заметная разница в возрасте. Большая часть произведений Джотто, существующих и поныне, была фактически написана несколько раньше, чем иконостас Дуччо. Сравним – так ли значительна иллюстративность фресок Джотто, как у Дуччо? В целом, конечно, нет, а временами она даже ниже, ибо живопись Джотто редко отличалась таким разнообразием выражений и тонко оттененных чувств.
Итак, если Джотто не превосходит Дуччо как иллюстратор, если его фрески не более действенны, чем религиозные сцены Дуччо, образный строй которых мы так стремимся раскрыть, если они оба уже не соответствуют нашим представлениям и чувствам и выразили в своей живописи лишь злободневные интересы и восторги прошлого, то почему же один из них живет для нас и поныне, а другой ушел в небытие, оставив лишь слабую тень своего имени? Несомненно, здесь играет роль своеобразная «жизненность», постичь которую дано немногим. Поэтому отмеченный ею художник нам вечно близок, и в этом заключается тайна искусства Джотто, а Дуччо не познал ее никогда.
Что же это за таинственное средство? В чем оно состоит? Ответ короток. В самой жизни. Если художник сумеет уловить ее сущность и удержать ее в своих руках, то его картины, за исключением их чисто материальной утраты, будут жить вечно. Если он к тому же заставит этот «дух жизни» воздействовать на нас, возбуждать ток крови в наших жилах, то до тех пор пока мы существуем, его искусство будет властвовать над нами.