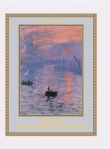Текст книги "Живописцы Итальянского Возрождения"
Автор книги: Бернард Беренсон
Жанры:
Искусство и Дизайн
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 19 страниц)
Пинтуриккьо, никогда не обладавший большим чувством формы или движения, совсем как будто забыл о них, но, будучи достаточно популярным и пользуясь расположением публики, стал превращать свои работы в своеобразную пряную испанскую похлебку, подходящую, однако, больше для провинциального дома, нежели для изысканного стола немногих гурманов. А когда его заказчиком становится такой богач и вельможа, как полукатолик-полуварвар папа Александр VI, тогда Пинтуриккьо не скупится на специи, пряности и приправы. Вы не скоро увидите более роскошные, но варварские в своем великолепии фрески, чем в апартаментах Борджиа в Ватикане, где сверкающее золото орнамента сливается с бесценным ультрамарином.
Мы могли бы пренебречь Пинтуриккьо как серьезным живописцем, ибо в его поздних работах, если их внимательно рассматривать, одна мишур,., корее изображение одежд и тканей, чем людей; его картины возвращают нас к самрму плохому периоду умбрийской живописи – началу XV века, но все же, когда я пишу эти строки, я не могу забыть его знаменитых фресок в библиотеке Сиенского собора. Эти росписи, повествующие о жизни и приключениях знаменитого дипломата и журналиста, впоследствии папы Пия II, приводят меня еще к одному заключению, которое я хочу сделать. Фигуры вряд ли могли быть изображены хуже. Ни одно существо не держится твердо на ногах и как будто бесплотно, даже красота женских лиц раздражает из-за постоянного бездумного и бессмысленного их повторения. Колорит этих фресок едва ли может быть безвкуснее. И все же они обладают бесспорным очарованием! Как ни плохи они со многих точек зрения, как архитектоническая декорация они превосходны.
Пинтуриккьо была предоставлена продолговатая комната средних размеров. Что же он сделал из нее? Под сенью искусно покрытого глазурью потолка, на изящно вделанных в стену живописных панелях изображены романтические пейзажи, обрамленные просторными и высокими арками. Вы находитесь под кровом, окруженные великолепием, которое может дать только богатство в сочетании с искусством, и в то же время вы словно под открытым небом, но вас окружает не бескрайнее и холодное воздушное пространство, а строго ограниченное. Оно обрамлено арками, исполненными столь совершенно, гармонично и соразмерно с органически-прирожденным пространственным ощущением, что вы начинаете дышать свободно и ритмично. К тому же под этим чарующим открытым небом происходит пестрая, не слишком торжественная церемония. Но вы или так настроены, что все это вам нравится, или относитесь к этому так, как к проходящему мимо вас в ясное весеннее утро духовому оркестру, когда ваш пульс весело бьется в едином ритме с его мелодией.
Таким образом, о Пинтуриккьо следует сказать, что он был велик в передаче пространственной композиции, но даже и в этом не равен Перуджино и уж никак не может быть допущен в то высокое святилище, где царит величайший Рафаэль. Однако даже в худших примерах своей мазни Пинтуриккьо настолько владеет редким и освежающим нас дарованием, что, если вы не слишком утонченная натура, то получаете от этого удовольствие и готовы поклясться в том, что это вовсе не мазня, а очень ценные картины.
XII
Если пространственная композиция так много значила для Пинтуриккьо, то насколько совершеннее она была у Перуджино или Рафаэля, которые гораздо лучше владели ею! Для них она важна была еще и потому, что художники, стремясь не обнаружить своей слабости в фигурной живописи, редко пытались выходить за пределы пространственных задач.
Все же, оставляя в стороне их иллюстративное значение, особенно Рафаэля, надо сказать, что единственной выдающейся заслугой как учителя, так и ученика была пространственная композиция, в искусстве которой Перуджино превзошел всех, кто был до и после него. Всех, за исключением своего ученика Рафаэля, оставившего далеко позади себя учителя.
Но что это за неслыханное искусство пространственной композиции? Начать с того, что это совсем не синоним слова «композиция» в его обычном смысле, под которым, как я понимаю, мы подразумеваем такое расположение предметов в пределах данного пространства, которое удовлетворяет наше чувство симметрии, гармонии, компактности и ясности. Но оно касается плоской поверхности, а не глубины или двухмерной протяженности в стороны от воображаемого центра; мы уже встретились с превосходным примером такого искусства в «Неверии Фомы» Дуччо. Пространственная композиция отличается от обычной композиции в первую очередь тем, что предметы размещены в ней не только параллельно плоской поверхности или вокруг воображаемого центра, но простираются в глубину. Это композиция трех измерений, а не двух, кубическая, а не плоскостная. И, хотя это менее очевидно, пространственная композиция значительно отличается от обычной по своему эффекту. Последняя, сведенная к своим элементам, оказывает воздействие только на наше чувство формы, то есть на сумму непосредственных зрительных ощущений, влияющих на наше восприятие. Пространственная композиция гораздо могущественнее. Оказывая мгновенный эффект, она действует изменением своего пространственного соотношения так, что это сразу отражается на повышении или понижении нашего настроения и чувства жизненной энергии.
Таким образом, непосредственный эффект, оказываемый на нас пространственной композицией, не так силен, как музыкальный, но производит впечатление подобного же рода.
Несмотря на то, что впечатление, производимое на нас музыкой, складывается из многих различных факторов, природа пространственного и музыкального воздействия на человека едина и заключается в бурных изменениях, испытываемых нашей нервной системой. Отсюда проистекает сходство между музыкой и архитектурой, столь часто ощутимое, но, насколько мне известно, никем еще не раскрытое. Именно в архитектуре торжествует могучая сила пространственной композиции, ибо совершенно ясно, что зодчество – это искусство, а не только техническое и строительное мастерство.
Те, кто с этим согласится, могут вместе с тем задать вопрос: какую же роль играет пространственная композиция в живописи, если она служит только вспомогательным средством для воспроизведения в ней каких-либо архитектурных памятников? На это следует ответить, что живописная композиция, изображающая архитектурное сооружение, отнюдь не является по своему существу более пространственной, нежели какая-либо другая. Пространственная композиция начинает воздействовать на нас только тогда, когда у нас возникает чувство пространства, но не в смысле пустоты или чего-то просто несуществующего, как это бывает обычно, а, напротив, как что-то весьма позитивное и определенное, способное подтвердить сознательность нашего бытия, повысить в нас чувство жизни.
Пространственная композиция – это искусство, которое одухотворяет пустоту, придает ей человечность, создает из нее дивный сад, обнесенный оградой, здание, увенчанное куполом, где наша духовная сущность обретает для себя убежище не в смысле удобного и комфортабельного дома, которым обладают лишь смертные, но убежище возвышенное, отвлекающее нас от жизненной прозы.
Музыкальность пространственной композиции явственнее чувствуется в живописи или в величавых архитектурных формах, именно потому, что в первой меньше ощущается тирания материала, неумолимо напоминающая нам о силе тяжести и опорном весе; в живописи гораздо больше ничем не ограниченной свободы, хотя это отнюдь не должно обозначать излишнего простора для своенравной фантазии. И рядом с этой обманчивой свободой в живописном искусстве звучат многие другие голоса, освобождающие нас от мучительных жизненных пут, растворяющие наше существо в изображенном пространстве, пока мы сами не сливаемся с ним, проникнув туда, подобно духу. Таким образом, пространственная композиция – не выскочка и соперница архитектуры, но ее прелестная сестра, искусство, которое способно выразить эффекты тонкие, привлекательные и выигрышные. И она производит их совершенно иными средствами. Архитектура наступает на пространство и замыкает его, ее область – скорее, интерьер. Живопись, напротив, раскрывает пространство и воображаемыми границами обрамляет небесный свод. Пространственная композиция пользуется всеми формами, будь то пейзаж, человеческая фигура или здание, и всех заставляет работать на себя, делая их своими соратниками в передаче и выражении чувства безграничного простора.
Как вольно дышится в таких картинах, как будто с вашей груди спало бремя; каким освеженным, каким возвышенным и могучим чувствуешь себя, к тому же таким успокоенным и как бы вознесенным в далекую блаженную обитель!
Многие из нас пережили подобные чувства в те счастливые мгновения, когда оставались наедине с природой, и это то, чего мы ждем, но слишком редко получаем от пейзажной живописи. И все же пространственная композиция отличается от последней так же, как и от архитектуры. Она может произвести эффект в изображении площади большого города (как в произведениях Пьеро делла Франческа) не хуже, чем в изображении гор или холмов. Но ее победы не зависят от тонкой моделировки атмосферы или от тщательного изучения света и тени. Более того, чтобы иметь успех в искусстве пространственной композиции, достаточно обладать такой небольшой технической ловкостью, таким незначительным мастерством и знаниями, что если художники хоть немного образованны, если им присуще пространственное чувство и они придерживаются хороших традиций, то даже самый ничтожный из них может добиться известного успеха.
Едва ли можно найти картину умбрийской школы, как бы плоха она ни была в других отношениях, которая не пленяла бы нас своим прелестным пространственным кругозором. А коль скоро наш интерес направлен на художественное произведение, а не на художника с его безумиями, взлетами и падениями, то мы не должны презирать пространственную композицию только потому, что она требует меньше технического мастерства и умения, нежели современная пейзажная живопись. Поверьте мне, если у вас нет врожденного чувства пространства, то никакая наука, никакой труд в мире не смогут внушить вам его. А ведь без этого чувства не может быть создан прекрасный пейзаж. Несмотря на превосходную моделировку Сезанна, который придает небу такую же великолепную осязательную ценность, как Микеланджело человеческой фигуре, несмотря на все стремление Моне передать трепещущую пульсацию солнечного тепла, заливающего поля и деревья, мы все еще ждем подлинной пейзажной живописи. И она явится тогда, когда некий художник, моделирующий небеса, как Сезанн, передающий свет и жару, как Моне, постигнет, помимо этого, то чувство пространства, которое будет соперничать с чувством пространства у Перуджино и Рафаэля.
И именно потому, что Пуссен, Клод Лоррен и Тернер, оставляя в стороне их неполноценность по сравнению с художниками нашего поколения, обладали этим чувством в большей степени, чем все другие, они до сих пор остались величайшими европейскими пейзажистами, ибо пространственная композиция есть костяк и сущность пейзажного искусства.
XIII
Теперь, когда мы имеем некоторое представление о сходстве и различии между пространственной композицией, архитектурой и пейзажной живописью, когда мы понимаем, почему пространственная композиция занимает особое место в искусстве, мы можем оценить подлинные качества Перуджино и Рафаэля, чего не смогли сделать бы раньше. Все же следует учесть еще один момент. Он заключается в следующем. Подобная композиция, как мы договорились, освобождает нас от мучительно связывающих пут, растворяет в изображенном пространстве, пока мы не становимся как бы его частью, проникнув туда, подобно духу. Другими словами, это чудесное искусство уводит нас от самих себя, дает нам возможность слиться с природой, доставляет глубокое эстетическое наслаждение, может порой вызвать чисто мистический восторг.
Для многих из нас, кто не признает религиозного догматизма и церковной обрядности, подобные переживания равносильны, по существу, религиозным эмоциям, которые, кстати сказать, настолько же не связаны с верой и нормами человеческого поведения, как и сама любовь. И я, действительно, не знаю другого пути, кроме того, каким живопись может внушить человеку религиозное чувство; я говорю внушить, а не изобразить.
Следовательно, если пространственная композиция призвана выражать религиозные эмоции, то, поскольку школа Перуджи проявила высокое мастерство именно в этой области, мы понимаем, почему произведения Перуджино и Рафаэля действуют, как никакие другие, на наше религиозное чувство. И оно настолько сильно выражено в их картинах, что обыватели постоянно недоумевают по поводу того, как Перуджино, будучи в жизни атеистом и к тому же непорядочным человеком, мог писать такие глубоко религиозные картины?
Если бы в нашу задачу входило обсуждение того, в какой мере личность художника отражается в его творениях, то можно было бы предположить, что он изображал нежных отроков и святых именно потому, что в жизни легко мог бы одержать над ними победу, или писал, прелестных и невинных женщин, могущих в действительности легко пасть его жертвами.
Но эта гипотеза, хотя и возможная, совершенно бесполезна в данном случае. Перуджино, как я уже сказал, добивается религиозного эффекта своей пространственной композицией. От его фигур мы требуем лишь, чтобы они не нарушали этого чувства, и если мы воспринимаем их так, как они задуманы, то есть как конструктивные элементы в пространственной композиции, то они никогда не мешают этим переживаниям. Фигуры Перуджино играют, скорее, роль колонн, поддерживающих своды, и мы не должны обращать внимание на стереотипные позы и выражение, так как от этих фигур и не нужно требовать никакого драматического разнообразия.
Нельзя сказать, чтобы Перуджино был слаб как иллюстратор. Отнюдь нет! Он чувствовал красоту женщин, обаяние молодых людей, достоинство старцев, и редко кто превосходил его в этом отношении. В молодости он написал ряд вещей (находящихся в галерее Перуджи), повествующих о чудесах св. Бернардина. Они очаровывают нас чисто умбрийской красотой, прелестью и грацией своих форм, выразительным чувством линии и движения, близким к флорентийским.
Как привлекательны эти картины с их изысканными зданиями в стиле Ренессанса, с гирляндами, увивающими триумфальные арки, сквозь которые открываются умбрийские дали под высокими небесами, с их романтическими пейзажами, прелестными женщинами, еще более прелестными юношами – высокими, стройными, золотоволосыми, изящными – подлинными переодетыми героинями Шекспира. Их отличает благородство и вместе с тем некая отчужденность, они душевно замкнуты, целомудренны и чисты.
Перуджино сдержан, избегает в своих картинах сильных и порывистых движений, так как не считает себя пригодным для выполнения таких задач, и, действительно, он настолько не умеет изображать движения, что его фигуры вместо ходьбы танцуют и никогда твердо не стоят на ногах.
Так же тщательно избегал он преувеличенного выражения чувства. Как холодны и спокойны его «Распятие» и «Положение во гроб»! Кругом стоит тишина, и люди больше никого не оплакивают; неслышный вздох, взор, полный тоски, – и это все. Как должны были успокаивать такие картины после шума, суматохи и кровопролитий в Перудже, самом кровавом городе Италии! Можно ли удивляться тому, что мужчины, женщины и дети бежали смотреть на эти картины? Да и теперь жизнь достаточно заполнена корыстными стремлениями и бессмысленными ссорами, чтобы мы могли отказывать себе в таком бальзаме для души, какой дает нам Перуджино. Пространственный эффект играл такую большую роль в его композициях, что трудно сказать, в чем еще заключаются их достоинства. Мы более уверенно сможем судить об этом, если рассмотрим портреты его кисти.
В портрете молодого «Мессера Алессанро Браччези» повторяются уже знакомые нам черты других моделей Перуджино, но от этого не утрачивается его очарование, несмотря на отсутствие заднего плана.
А в портрете «Франческа дель Опера» (Уффици), где звучит успокаивающий и особенный аккомпанемент пейзажа, Перуджино обнаруживает свое великое иллюстративное мастерство, показывая в ряду других ренессансных портретов чрезвычайно смело интерпретированный, четко охарактеризованный и убедительный образ, такой властный и сильный, что даже мечтательно дремлющий пейзаж не может смягчить его суровости. А как мало слабости и сентиментальности было присуще Перуджино, мы можем судить по тому суровому и реалистическому характеру, который он придал своему автопортрету в Камбио в Перудже.
Как бы ни были замечательны свойства Перуджино как иллюстратора, я все же сомневаюсь, следует ли нам помещать его среди великих художников только за эти заслуги. Их мало, если вообще высокие достижения иллюстрации могут быть достаточными, чтобы возместить не хватавшее художнику чувство формы и движения; но все это было не столь плачевно, как у Пинтуриккьо, благодаря тому, что Перуджино находился в постоянном контакте с Флоренцией. Однако очарование его пространственных композиций было так могущественно, что мы никогда не принимаем всерьез его фигур, а если делаем это, то ошибаемся, потому что придираться к ним не более разумно, чем подымать шум из-за глупого текста, на слова которого написана торжественная музыка. А по мере того как художник старел, исполнение этих фигур становилось все хуже и хуже. Оставаясь в тени, он не стремился выдвинуться; к тому же наступили годы, когда гений Микеланджело потряс уже все итальянское искусство. Перуджино не посещал более Флоренцию и утратил всякий интерес, если и испытывал его когда-либо раньше, к изображению фигур и обнаженного тела. Но прирожденного чувства пространства он не мог утратить, напротив, оно усилилось именно тогда, когда, не растрачивая свое дарование на тщетные попытки писать как следует человеческие фигуры, Перуджино полностью отдался во власть своему таланту и творческим порывам.
Последние годы жизни он провел, венчая умбрийские холмы своим золотым искусством, оставив на стенах многих затерянных и отдаленных церквей изображения несказанных по красоте небес и горизонтов.
А теперь рассмотрим более подробно некоторые композиции Перуджино. Одна из его ранних работ – фреска на стене Сикстинской капеллы «Христос, передающий ключи от рая апостолу Петру» – произведение, в котором он уделил особое внимание построению фигур. К нашему удивлению, некоторые из них твердо стоят на ногах, но, конечно, это не Христос и не апостолы, которых художник писал уже наизусть, а портреты его друзей. И, как бы для того, чтобы конкретизировать их реальность, он изобразил с левого края самого себя, стоящим рядом со своим другом Лукой Синьорелли. Однако вы не почувствуете, что эти изображения повышают вашу жизнеспособность, что они обладают осязательной ценностью или движением. В этой фреске фигуры Перуджино не более привлекательны, чем у Пинтуриккьо, не лучше построены, чем у посредственных флорентийских мастеров Козимо Росселли или Доменико Гирландайо, а движение фигур совсем никуда не годится, особенно по сравнению с Боттичелли. И все же среди настенной живописи Сикстинской капеллы работы Перуджино не самые плохие. Напротив, есть ли среди них хоть одна более восхитительная?

РАФАЭЛЬ. МАДОННА САДОВНИЦА. 1510
Париж, Лувр
Фреска Перуджино золотистого колорита, с тонким ритмическим распределением групп, а главное, с ее жизнерадостным простором буквально покоряет нас и держит в своей власти. Наше внимание обращено на фигуры переднего плана. Своими размерами и соотношением к мозаичному узору пола они вызывают представление не о слабых смертных людях, а о высших существах, обитающих в девственных природных пространствах. Но площадь не заполнена ими. Отнюдь! Просторная и даже пустынная, она простирается в глубину и поверх этих людей, виднеясь сквозь уменьшенные расстоянием фигуры, до тех пор пока ваш взгляд, достигнув линии горизонта, не остановится на храме с воздушными портиками и парящим куполом. Этот храм настолько пропорционален по отношению к фигурам переднего плана, настолько гармонично сочетается с перспективой мозаичного пола, что вам кажется, словно вы находитесь под сенью великолепного собора и в то же время не в замкнутом, а в открытом, свободном и безграничном воздушном пространстве. Этот эффект достигнут благодаря архитектуре храма, между портиками которого как бы проходит воображаемая ось этой идеальной полусферы и воображаемой окружности переднего плана. Только восприняв все это построение как сферическое, вы поймете, что позади храма дано такое же пространство, как впереди него.
За неимением времени мы не можем долго задерживаться на других картинах Перуджино. Но некоторые все же нельзя пропустить. Какой удивительный эффект производит его полиптих (находящийся в Олбени), написанный в холодноватых и в то же время в теплых тонах, с изображенным на створках пейзажем, виднеющимся сквозь прекрасные живописные арки, уводящие в благоухающие дали. Эта картина дает вам испытать редкое блаженство, подобное тем мгновениям, когда в ранний час летнего утра вы глубоко вдыхаете полноту и радость жизни.
Таким же золотым, мечтательным, летним настроением полны четыре луврские картины Перуджино: идиллия в стиле Теокрита – «Аполлон и Марсий», маленький, изящный «Св. Себастьян», создание его последних лет, и две более ранние картины; на одной из них, написанной в небесно-голубых тонах, изображена мадонна, окруженная воинами и святыми, мечтающими о чем-то в сияющий летний полдень. И, наконец, «Св. Себастьян» в рост, обрамленный полукружием арки, ведущей прямо в рай! Как далек этот человек, обитающий в раю, господствующий над природой, возвышающийся над горизонтом, подобно гигантскому монументу, от той ничтожной роли, которую отведут ему художники плейера, растворившие человеческую фигуру в бесконечности природы. И именно это господство человека над окружающим его миром делает картины Перуджино особенно значительными и нужными, несмотря на то, что во многом они довольно слабы, как, например, фрески в Камбио в Перудже. Это относится даже к худшей из них, с изображением двух прелестных женщин, роль которых была бы для нас неясна, если бы не изображенные рядом надписи, обозначающие их символический смысл: «Сила воли» и «Умеренность». Внизу на земле стоят томные, красивые и мечтательные рыцари и герои, в чьем облике никак нельзя разгадать воплощение этих прославленных добродетелей, хотя они величественно, подобно колоннам, возвышаются над обширным пейзажем.
Гораздо лучше, несмотря на несколько мрачные синие тона, триптих Перуджино (Лондон, Национальная галерея) с его сочным, золотым колоритом, где дева Мария, поклоняющаяся младенцу, словно господствует над окружающим ее пейзажем с высокими небесами, с поющими в них ангелами, чьи фигуры образуют подобие небесной апсиды незримого воздушного храма.
В чем заключались бы смысл и ценность картины «Явление Девы святому Бернарду» (Мюнхен), если бы не магическая сила ее пространственного дыхания, если бы не далекие виды умбрийской долины, обрамленной сводами арки?
Что так неуклонно направляет ваши шаги к «Распятию» Перуджино в церкви Сайта Мария Маддалена деи Пацци во Флоренции, если не дремлющие на горизонте дали и высокие небеса?
XIV
А теперь мы стоим лицом к лицу с самым знаменитым и любимым именем в современном искусстве – Рафаэлем Санцио. За последние пять веков бывали художники во много раз гениальнее. Микеланджело более велик и мощен, Леонардо более глубок и утончен. У Рафаэля вы никогда не обнаружите того сладостного ощущения жизни, как у Джорджоне, ни ее гордости и великолепия, как у Тициана и Веронезе. А я называю только итальянские имена, – сколько же еще других, если мы захотим перейти по ту сторону Альп! И ведь Рафаэль соперничает с ними только как художник-иллюстратор, ибо его нельзя поставить на один уровень с великими флорентийцами как мастера фигурной живописи. Он не расцвечивал мир лучезарными красками, подобно венецианцам. Если мерить его той же мерой, какую применяют к художникам, вроде Поллайоло или Дега, вы сразу же приговорите Рафаэля к заключению в чистилище, где царят грубо позолоченные посредственности, ибо движение и форма были так же противны его уму и темпераменту, как когда-то его далекому предшественнику Дуччо.
Тщательно просейте легионы рисунков, приписанных Рафаэлю, пока не доведете их число до тех немногих, которые бесспорно ему принадлежат. Рискнете ли вы тогда поместить даже их среди произведений величайших рисовальщиков? Или посмотрите на его «Положение во гроб», единственную композицию, которую он пытался трактовать так, как должна быть трактована каждая серьезная фигурная композиция, то есть с необходимой передачей осязательной ценности и движения. И вы увидите, как послушно, терпеливо и усиленно трудился он в поте лице своего над тем, чтобы выразить силу и мощь фигур, но это шло только от ума, а не от сердца. В результате получилось одно из самых странных и нелепых когда-либо существовавших «академических» произведений, тем более что оно было создано за пределами стен этого склепа для премированных картин, который именуется «дипломной галереей Школы изящных искусств» в Париже!
Всегда готовый учиться, Рафаэль испытывал одно влияние за другим. Кому он только не поклонялся? Тимотео делла Вите, Перуджино, Микеланджело и Леонардо да Винчи, фра Бартоломео и, наконец, Себастьяно дель Пьомбо. Будучи уже на вершине славы и триумфа, Рафаэль смиренно пытался научиться глубоким тайнам волшебного колорита даже у этого второстепенного венецианца. И хотя Рафаэль хорошо усвоил его уроки, потому что в области колорита умбрийцы всегда были дальними родственниками венецианцев, все же он только дважды мог одержать блестящую победу: в превосходной по живописи фреске «Месса в Больсене» в Ватикане и в восхитительном этюде в серых тонах – «Портрете Бальдассаре Кастильоне» в Лувре. Но что они значат рядом со стенной живописью Веронезе или портретами Тициана? Даже в своих лучших работах Рафаэль как колорист никогда не смог превзойти Себастьяно дель Пьомбо.
Поэтому, если мы ждем от Рафаэля выдающегося мастерства в передаче формы и движения или великих колористических достижений и чистой живописности, он, конечно, разочарует нас. Но художник предъявляет другие права на наше внимание. Он одарен таким зрительным воображением, что никто не мог соперничать с ним по разнообразию и нравственной чистоте его образов. Если эти качества и бывали превзойдены кем-либо, то лишь в отдельных случаях.
Высокоодаренный, родившийся в то время, когда натуралисты и другие ведущие художники вновь открыли для себя форму и поняли ее значение, когда зрительное воображение, по крайней мере в Италии, претерпело по сравнению со средневековым сильные изменения и стало в известном смысле для нас почти современным, а идеалы Ренессанса в какой-то непостижимый для нас миг откристаллизовавшимися, Рафаэль стал тем, кем он должен был стать.
Представления, профильтрованные сквозь его сознание, становились чистыми и прозрачными, как все, что он воспринимал и чувствовал. Он поставил перед собой задачу одарить современный ему мир художественными образами, которые, вопреки мятежным страстям и мрачным событиям позднейшего времени, воплотят для большинства культурных людей их духовные идеалы и чаяния. «Прекрасна, как мадонна Рафаэля» – эти слова все еще считаются высшей похвалой женской красоте среди европейцев, одаренных тонким художественным вкусом. И в самом деле, где можно найти большую чистоту и более совершенную прелесть, нежели в его «Мадонне делла Грандука», или более возвышенный женский образ, чем «Сикстинская мадонна»? Кто в юности, увлекаясь Гомером, Вергилием или Овидием, не воспринимал эти поэмы по-своему, не грезил об их героях во сне, не мечтал о них наяву, пока не увидел их полностью воплотившимися в знакомых уже образах фрески «Парнас» в Станца делла Сеньятура в Ватикане! Кто хоть раз, мечтая о благородном и духовном общении людей между собой, не смотрел с томительным желанием на «Диспут» или «Афинскую школу»?
Посещал ли вас когда-нибудь образ Галатеи? Признайтесь, не стала ли она в тысячу раз более жизненной, свободной и обновленной с тех пор, как вы увидели ее среди тритонов и морских нимф в вилле Фарнезина? Сама античность не оставила нам более ликующего и яркого воплощения своих утонченных и фантастических видений. Мы благодарны Рафаэлю за те прекрасные одежды, в которые он облек античность – предмет наших поэтических мечтаний. И пока она живет в нашем представлении, на что я горячо надеюсь, не только как некогда существовавшие государства, а как мир, по которому мы страстно и сильно тоскуем, мы будем всегда воспринимать ее сквозь образы, внушенные нам Рафаэлем, особенно тогда, когда читаем и перечитываем древних авторов. И тогда мы увидим античный мир таким, каким видел его Рафаэль, мир, в котором никогда не умолкало пение утренних птиц.
Что же удивительного в том, что Рафаэль в одно мгновение стал, и навсегда остался, самым любимым из художников?
Наша культура, обязанная классической древности всем самым благородным и лучшим, что она имеет, нашла наконец в его лице современного ей художника-иллюстратора. Рафаэль воплотил античность в образах, превосходящих все высочайшие представления о ней, и понял самые возвышенные стремления человеческого рода. Можно смело сказать, что он – знаменитый художник и ученый-гуманист – остался любимым и понятным для народных масс, с молоком матери впитавших классическую культуру.
В нашей цивилизации присутствует еще один элемент, хотя и мало значащий в развитии интеллектуальной жизни, но представляющий интерес для живописной фантазии. Я имею в виду древнееврейский эпос Ветхого и Нового завета, высокий по своему моральному и поэтическому смыслу. Рафаэль и здесь достиг успеха, плодами которого мы наслаждаемся до сих пор, потому что, глубоко восприняв дух Древней Эллады, он облек в эллинские одежды и весь ветхозаветный мир. В картинах, написанных им самим или выполненных под его руководством, художник полностью иллюстрировал Ветхий и Новый завет. И так велико было очарование этих произведений, что оно проникло в самые разнообразные слои общества. Однако в его образах не больше древнееврейского, чем в образах Вергилия, воспевающего то идеальное существование, когда лев будет лежать рядом с ягненком. Рафаэль достиг удивительного слияния древнееврейского эпоса с эллинской мифологией. Каким мощным воздействием обладал он на современную ему культуру, если настолько сумел эллинизировать единственную, противостоящую и враждебную Элладе силу – древнееврейскую цивилизацию! Если вы потребуете доказательств, посмотрите на «Библию Рафаэля» на потолке лоджий в Ватикане, посмотрите на картоны для шпалер, на гравюры Марк Антонио Раймонди, но прежде всего обратите внимание на «Видение Иезекиила» в палаццо Питти. Разве это Иегова спускается с небес к своим пророкам, а не Зевс, явившийся Софоклу? Нежную человечность христианства и чарующую красоту античности Рафаэль выразил в таких лучезарных образах, что мы вечно возвращаемся к ним для обновления наших душевных сил. Но разве он не создал также своего идеала красоты? Для флорентийцев слишком много значило искусство фигурного изображения, так же как для венецианцев – колорит и живописность, чтобы они могли еще принимать во внимание столь незначительный фактор, который в обыденной жизни мы именуем красотой.