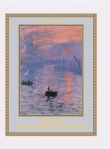Текст книги "Живописцы Итальянского Возрождения"
Автор книги: Бернард Беренсон
Жанры:
Искусство и Дизайн
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 19 страниц)
Легкость и внешняя законченность – первые признаки упадка – могут быть иногда ошибочно приняты за обратные симптомы, особенно когда эти шаги сделаны художником, творчество которого столь полнокровно и целостно. Но результаты прямого подражания античности можно легко обнаружить. Мы уже говорили, что он изображал людей, будто изваянных из раскрашенного мрамора, а не созданных из плоти и крови, что было плодом его наивных представлений о древних римлянах, которых он стремился воскресить, но не в облике реальных живых людей, а лишь в виде мраморных статуй или барельефных изображений.
Тем не менее нам нравятся эти стойкие и, казалось бы, нетленные создания мантеньевской кисти, особенно когда они красивы, изящны и даже наделены человеческими чувствами. Поэтому так трогают нас их переживания, подобные словам любви и нежности, выраженным в латинской поэзии на жестком и лапидарном языке древнего римлянина.
Мы не ставили бы в вину Мантенье это пристрастие к древнему Риму, если бы он так часто не вдохновлялся грубой и даже вульгарной позднеримской скульптурой. В этом он зашел слишком далеко, посвящая все внимание римским статуям и почти ни разу не взглянув на окружающую его жизнь – единственную неисчерпаемую область для размышления и чувства. Можно усомниться, смотрел ли Мантенья вообще на что-нибудь собственными глазами (ибо я осмеливаюсь думать, что можно быть замечательным художником и все же не научиться смотреть), если бы в портретах «Камера дельи Спози» в Мантуанском дворце мы не обнаружили бы доказательств его почти непревзойденной наблюдательности. К несчастью, он мало пользовался ею, выше всего ценя римские барельефы.
Последние все больше привлекали его. В них он находил нужные ему формы, свой идеальный мир, и, кажется, все видимое он стал воспринимать не в трех измерениях, а в искусственно-пространственных соотношениях рельефных композиций. В последние годы, отбросив разнообразие цветовых оттенков, Мантенья стал писать в монохромной манере, дойдя до картин такого каменно-серого цвета, как его «Триумф Сципиона» в Лондоне, «Суд Соломона» в Лувре или «Юдифь» в Дублине. Следует добавить, что эти произведения таили опасность превратиться в репродукции с римских барельефов времен Антонинов. Но от этого бесчестия он был до известной степени спасен своей гениальностью, а еще больше живой и нервной линией, очерчивающей силуэты фигур, которой он научился у Донателло.
Слишком большая преданность античному искусству препятствовала Мантенье во всех его намерениях, обуздывала его природные дарования. Гений его все же был так могуч, что прорывался через все препятствия, несмотря на то, что он запеленывал его, как мумию.
К списку его заблуждений следует добавить и выбор тем. Его флорентийские соперники понимали, что настоящего триумфа в искусстве добивается тот, кто сам разрабатывает основные и неисчерпаемые источники формы и движения. Боттичелли даже в том случае, когда тема была ему предложена, как это, несомненно, было с «Весной» и «Рождением Венеры», создал настолько декоративные картины, что иллюстративная тема сама по себе растворилась в них без остатка. В еще большей степени это относится к Антонио Поллайоло, который тоже любил античное искусство. Но заметьте, он выбирал для своих иллюстраций «Сражение гладиаторов» и «Подвиги Геркулеса» потому, что в подобных сюжетах лучше всего выявлялось его владение формой и движением. А Мантенья и в выборе сюжетов связывал себя по рукам. Решив воскресить античность, он не думал о том, могут ли данные темы, позы и движения быть пригодны для создания действительно великого произведения искусства. Гуманист всегда убивал в нем художника. Поэтому, несмотря на все мастерство и убедительность образов, он никогда не создал вещи, приближающейся к «Сражению гладиаторов» Поллайоло, или картины, могущей соперничать с «Весной» Боттичелли. «Борьба Добродетели и Порока» Мантеньи смущает нас своей неприкрытой иллюстративностью, и даже «Парнас» рассеивает внимание зрителя различными археологическими деталями, не связанными с основной композицией картины.
Вот кратко то, что я хотел сказать о Мантенье, которого за многое люблю. Жаль, что высокоодаренный художник нередко заблуждался. Если бы Мантенья посвятил свой талант реальным проблемам фигурной живописи, то помимо создания шедевров он мог бы силами своего конструктивного и созидательного таланта повлиять на все школы Северной Италии и помешать Корреджо быть таким бескостным, а Веронезе столь неискусным в передаче движения. Но он смог лишь внести известные изменения в систему зрительных представлений и завещал потомству свою страсть к античности. Не случайно, что из местности, где он жил, вышел ряд наиболее архаизирующих скульпторов, литейщиков из бронзы и архитекторов Возрождения. Сам Мантенья не оставил нам прямых наследников своего искусства и повлиял на живопись только как иллюстратор. Его культ язычества подготовил путь для создания «Сельского концерта» Джорджоне и «Вакханалий» Тициана.
V
Вероятно, художественный критик XVIII столетия, умело сочетавший проницательность с рационализмом, обратил бы сначала внимание на Леонардо, а затем на Корреджо. Признаюсь, я завидую тем гигантским шагам, какими писатели старых времен перешагивали с одной вершины на другую, не замечая, что находится между ними! Любую картину, которая их интересовала, они приписывали какому-нибудь хорошо известному им художнику, и если она была ломбардского происхождения, автором ее должен был быть Мантенья, Леонардо или Корреджо. Художественная атрибуция таких критиков часто бывала ошибочной, но их позиция в основном была правильной. На наши возражения, знатоков более позднего времени, они могли бы ответить, что искусство не составляло для них исключения из суммы всех интеллектуальных интересов, а с подобной точки зрения не важно, что привлекает нас в картине художника, если она по своему стилю близка к произведениям его знаменитых современников. Может быть, эти критики были слишком рационалистичны и высокомерны в своих взглядах, но их позиция была освежающе контрастна по сравнению с микроскопическим анализом вещей и изучением их на ощупь, которыми страдаем мы. Если бы можно было вновь стать на позицию критиков XVIII века, мы посвятили бы оставшийся в результате этого досуг подлинному изучению искусства.
Изучение искусства, в отличие от вымыслов и от штудирований биографий художников, должно заключаться в первую очередь в изучении идей, воплощенных в художественных произведениях. С этой точки зрения говорить что-либо о североитальянских мастерах – современниках Мантеньи – после того, что было уже сказано о нем, значит по существу ничего не сказать. Он определяет их всех. Их цель, если они имели ее, не отличалась от его цели; большинство следовало за ним. Некоторые шли сплоченно, остальные, спотыкаясь, брели самостоятельно, но все продвигались по его пути. Трудно найти у них что-либо своеобразно новое в передаче формы и движения, что Мантенья не использовал бы лучше.
Историк искусства может вполне игнорировать этих второстепенных мастеров, но те немногие, кто действительно интересуется искусством, редко бывают историками искусства. Остальные – любители или педанты – и я, принадлежащий к их числу, буду говорить о художниках эпохи кватроченто, живших и работавших в долине реки По.
VI
Среди живописцев Северной Италии, начинавших работать в третьей четверти XV века, не было ни одного выдающегося художника, который сам не учился бы в Падуе либо у кого-нибудь, недавно вышедшего из ее мастерских. Сначала кажется удивительным, что этот город, далеко не самый крупный и значительный в Италии, мог оказывать такое влияние на развитие искусства. Но при внимательном анализе понимаешь, что вся страна была подготовлена к тому, чтобы присоединиться к новому движению, возрождающему идеалы античности, ибо гуманисты в течение трех поколений призывали к эмансипации от канонов и символов средневековья. Поэтому Северная Италия, подобно Тоскане, в интеллектуальном отношении была готова сделать этот шаг, и не хватало только инициативы и практического знакомства с методами и приемами древних мастеров.
Этот шаг сделал Донателло в Падуе, и если вы прибавите соревнование среди художников, вызванное успехами юного Мантеньи, и соблазнительную рекламу, пущенную восторженными гуманистами, то будет легко понять, почему все молодые и одаренные люди устремлялись в мастерскую Скварчоне. Там каждый энергично приобретал знания, пропорционально своей одаренности и в значительной степени предопределенные предшествовавшим обучением дома у местного учителя. Из мастерской Скварчоне они выносили даже больше того, что им было обещано, так как наряду с восторженным отношением к античности они заражались горячим, хотя и недолговечным реализмом. Когда молодые живописцы возвращались домой, они распространяли эти веяния и, раньше чем большинство из них умерло, гуманистический переворот был полностью завершен; за исключением отдаленных горных долин, нигде не оставалось больше художников, которые воспринимали бы и изображали окружающий мир по-старому.
В толпе молодых людей, устремившихся в Падую, никто не был одареннее, чем Козимо Тура, глубоко впитавший в себя искусство Донателло и имевший к тому же наиболее интересную судьбу. Он положил начало поколению художников, процветавшему не только в его родном городе Ферраре, но повсюду во владениях герцогов д'Эсте и в прилегающих к ним областях от Кремоны до Болоньи. Судьбе было угодно также, чтобы он породил Рафаэля и Корреджо.
И в то же время ничего не могло быть менее сходным между собой, чем благородное изящество Рафаэля или экстатическая чувственность Корреджо и стиль их патриархального предка Козимо Тура.
Его люди, словно высеченные из кремня, высокомерны и неподвижны, как статуи фараонов; подчас конвульсивно изогнутые в приступах небывалой энергии, они уподобляются искривленным стволам олив. Их лица редко озарены нежностью, их улыбки готовы превратиться в гримасу, их руки, похожие на когти, не знают легких прикосновений. В его картинах архитектура громоздка и барочна, не в пример работам мастеров раннего Возрождения, это, скорее, великолепные дворцы, построенные для мидян или персов. Его пейзажи – это суровый скалистый мир, веками не знавший цветов и деревьев, потому что в нем нет ни земли, ни почвы, ни дерна. Тура редко находит место даже для сухого кизилового дерева, столь излюбленного другими падуанцами.
И все же во всем этом существует великолепная гармония. Его будто высеченные из скал люди не могли бы обитать в менее «кристаллическом» мире и были бы неуместны среди смягченных и легких архитектурных очертаний. Твердые как алмаз, они должны быть отлиты в окаменевшие формы или так искривлены в своих движениях, что их лица застывают в гримасе. Но там, где присутствует гармония, должна быть и цель, а цель Туры ясна – выразить сущность предмета с почти маниакальной твердостью. В воображаемом им мире нет ничего мягкого или неопределенного, все покорно его жестоким, почти смертельным объятиям. Его мир – наковальня, его восприятие – молот, и ничто не должно заглушить гулкого удара. Лишь кремень и алмаз могли служить строительным материалом для такого художника.
Возможно, Тура слишком глубоко впитал в себя искусство Донателло и был слишком очарован ранними работами Мантеньи. И кто знает, какое средневековое изображение, подобное засушенному цветку или тени прошлого, так неистово оттолкнуло его от себя, что привело к единственной для него, сильно преувеличенной манере изображения, усвоенной им в Падуе? Хокусаи в глубокой старости имел обыкновение подписывать свои картины: «Человек, помешанный на рисунке», и с таким же основанием Тура мог обозначать свое имя, как «Человека, помешанного на осязательной ценности».
Этой единственной задаче он принес в жертву всю свою гениальность, родственную по духу Поллайоло и, быть может, не уступающую ему. Не обладая особенно глубоким умом и, как все провинциалы, лишенный тонкого и критического отношения к своим серьезным соперникам, Тура никогда не выходил за пределы узкосформулированной творческой программы в более интеллектуальную область искусства. Поэтому его можно сравнивать не с его флорентийскими собратьями, а с другим художником падуанской школы – Карло Кривелли. Один преувеличивает четкость очертаний предмета, другой преувеличивает их точность, и подобно всем одаренным живописцам, не представляющим себе художественной цели своего искусства, они кончают гротеском. Но не такой уж это злой жребий, если художнику есть что высказать.
Рядом с Джотто, Мазаччо, Леонардо, Микеланджело и их славными собратьями мы должны поместить художников, которые, обладая высоким чувством стиля, никогда не забывали о рисунке, придававшем максимальную жизненность каждой детали их картин. Но рисунок, возникший лишь как следствие восхищения какой-либо одной, пусть даже реалистической деталью, неизбежно приводит к гротеску, и создатели таких рисунков всегда мастера в своей области, как, например, японцы.
Быть может, они обладают меньшей ценностью, но трудно не любить их, так же как великих живописцев, потому что любить – это значит испытывать волю и радость к жизни, а эти чувства охватят вас при взгляде на любимое произведение искусства. Итак, Тура любим, потому что был великим мастером гротеска, в самой утонченной его форме. Он любил изображать символических животных, и в картине «Св. Георгий с драконом» пишет лошадь с такой гордой геральдической головой, как это сделал бы настоящий рисовальщик гербов.
Допустимо и другое понимание Туры. Возможно, его цель была чисто иллюстративной и он любил свой бесплодный каменный мир, населенный древними витязями, рожденными из скал, как иные любят пустыню, ледники или Арктику. На некоторых людей такие ландшафты действуют успокаивающе, а в своем эстетическом выражении они нравятся всем. Художник-иллюстратор, который может приобщать нас к идеальным чувствам, который вливает в нас такое мужество, гордую стойкость и выносливость, – несомненно большой художник. Какое из двух истолкований Туры правильно, не имеет значения, ибо, как каждый законченный мастер (а он был таковым, несмотря на свою узость), он сочетал воедино в своей живописи иллюстративное и декоративное начала.
VII
Не потребуется значительных изменений, чтобы страницы о Туре отнести и к его более младшему соотечественнику – Косее. Они образуют двойное созвездие, и каждая из звезд так похожа одна на другую, что неизвестно, какая является центральной, а какая вращается вокруг другой. Более длительное знакомство с ними все же обнаруживает различие между их целями и качеством, вызванными отчасти разницей в орбите. Тура ближе к Падуе, в то время как Косса увлечен больше живописностью Пьеро делла Франческа, могучего тосканца, некоторое время работавшего в Ферраре.
Косса полностью воспринял мир, воплощенный Турой, и, насколько было возможно, даже преувеличил его. Его пейзажи так же грандиозны и бесплодны, а для того чтобы усилить впечатление их пустынности, он вместо зданий изображает руины. Его фигуры не менее конвульсивно изгибаются, и если они не так высокомерны, то только потому, что они наглы. Косса заимствовал от Туры неистовое выражение сущности предмета, но был избавлен от последствий этого преувеличения тем, что воспринял от Пьеро делла Франческа широкие планы и спокойные композиции. Благодаря этому он сумел придать рельефу выпуклость, которая у Туры превращалась в выпячивание. Пьеро делла Франческа возбудил у Коссы интерес к свету и наделил его умением передавать рассеянное освещение, но лишь своему таланту Косса обязан мастерством в передаче движения.
Там, где Косса в изображении фигур отходит от Туры, он придает им большую подвижность и детально разрабатывает механику движения. Подобно всем художникам, обладающим необычайным чувством движения, Косса понимал значение линии, а контуры его фигур усиливают их осязательность так же убедительно, как у Поллайоло или молодого Боттичелли. Даже выражение дерзости его персонажей вызвано приданным им резким движениям, а дерзость есть не что иное как возбужденное высокомерие. Косса припадает к тому же источнику, что Поллайоло и Боттичелли, когда неожиданно для нас изображает на фресках дворца Скифанойя в Ферраре праздничную жизнь своего времени. Он пишет состязание в беге лошадей, мужчин и женщин, придавая каждому индивидуальные движения и сливая их вместе в один общий узор рисунка. На это состязание с явным удовольствием смотрят зрители, среди которых виднеются элегантные придворные дамы, сидящие на балконах и вытягивающие вперед свои прелестные, стройные шеи. Для того чтобы передать такое быстрое движение и такие гибкие очертания, линия Коссы достигает удивительной пластичности. Ни на одной греческой вазе или барельефе мы не встретим такого стремительного рисунка.
А для того чтобы создать такую женскую фигуру, как «Осень» (Берлинский музей) (Сейчас это произведение приписывается Галассо Галасси, – Прим. пер.), нужны способности самого высокого уровня. Она так мощна в своем сложении, так крепка, так твердо стоит на ногах, как если бы ее писал сам Пьеро делла Франческа, а своей воздушностью картина напоминает нам Милле и Сезанна.
Кто знает, что мог бы оставить своим потомкам Косса, обладавший такими данными и такой живописной манерой, если бы он имел еще ясно выраженную цель и, будучи молодым, поселился бы вместо Болоньи во Флоренции.
VIII
Неистовые и первобытные создания Туры и Коссы, обитавшие в бесплодных, каменных пустынях, несколько видоизменили свой облик и предстали перед нами в ином виде, когда к ним обратился один из способнейших учеников и последователей этих двух художников – Эрколе Роберти. Будучи с ранних лет одаренным живописцем, он гораздо больше внимания уделял иллюстративным задачам, нежели декоративным. Поэтому он был особенно восприимчив к «литературным» элементам в работах своих предшественников и пользовался ими, уверенный в силе их эмоционального воздействия. Однако подлинной удачи Эрколе Роберти мог достигнуть при условии самостоятельной работы над сюжетами, что привело бы его к новым результатам, не заимствованным у других мастеров. Лишь тогда его сюжет приобрел бы новый смысл и возбудил поэтическое настроение, в противном случае, не выражая ничего нового, он превращался в мираж.
Но с Эрколе Роберти это случалось редко благодаря некоторым положительным качествам. Потому ли, что у него не было того ощущения сущности предмета, как у Туры и Косса, или потому, что последние сами были недостаточно развиты, чтобы учить его, но так или иначе работы Эрколе Роберти никогда не производят того впечатления, какое внушают картины его учителей.
Его образы несколько каллиграфичны, как и должно быть, когда фигурная композиция не столько объемна, сколько растянута по плоскости, когда конечности уменьшены по сравнению с силуэтами фигур, причем последние скорее парят над землей, чем ступают по ней ногами, а руки ничего не могут схватить или сжать.
Стоя перед дрезденскими пределлами Роберти – «Взятие Христа под стражу» и «Несение креста», вы настолько не чувствуете крепости в изображенных фигурах, что делаете заключение, будто они пусты внутри и подобны тонким металлическим штампам. Но, с другой стороны, Эрколе Роберти обладал чувством линии, которая давала ему возможность если не изображать движение, то выражать действие так, что оно успешно передает смысл реально происходившего события.
Так же хорошо, как его умбрийские современники или как Милле среди художников XIX века, Роберти понимал все величие линии горизонта и глубокую значительность, которую она придает фигурам, возвышающимся над ней, как это видно по его «Иоанну Крестителю» (Берлинский музей).
Возвращаясь к дрезденским пределлам, надо отметить, что, несмотря на подчеркнуто силуэтные фигуры, словно оттиснутые в металле, зритель, забывая о недостатках, все же очарован их своеобразием. К тому же колорит, выдержанный в тонах поздних осенних листьев, удивительно гармоничен.
Но все выше сказанное не раскрывает нам очарования Эрколе Роберти, который по своим дарованиям является, скорее, иллюстратором. Его способности были блестящими, хотя и не очень разносторонними. В уже упомянутых работах, как и в «Оплакивании» (Ливерпульский музей) и в «Медее» (из собрания Кука), а также в монохромных, декоративных пределлах на алтарной иконе в Брера (Милан), ощущается такая страстная сила, такая необузданная, сверхчеловеческая свобода, что мы преклоняемся перед ним, как преклоняемся перед благородным человеческим порывом, счастливые уже тем, что являлись его свидетелем.
Если человек когда-либо изображался с глумящейся усмешкой и властным выражением лица, то это был именно Ирод в жестокой сцене «Избиение младенцев» кисти Роберти. Но ее выполнение в виде мелкого, почти живописного рельефа, украшающего подножие трона на алтарном образе в Брера, не вызывает в нас ничего, кроме удивления перед бессердечной трактовкой столь драматического сюжета; подобное отсутствие чувства встречается лишь в «Исландских сагах» или в «Сказаниях о Нибелунгах».
Как иллюстратор Эрколе Роберти напоминает своих учителей Туру и Коссу, и описание его картин выдает это, но работы Эрколе Роберти как иллюстратора имеют известное преимущество перед ними хотя бы потому, что он преследует определенную цель; однако и его работы показывают нам довольно ясно, насколько малую роль для искусства играет даже самая привлекательная иллюстрация.
В своих лучших произведениях Эрколе Роберти варьирует темы Козимо Туры, а своими худшими вещами, вроде «Лукреции» (Модена, Музей), доказывает, что может служить подходящей темой для проповеди о том, что иллюстратор, не обладающий мастерством в области формы и движения, не имеет преимущества перед другим художником, образцами которого он пользуется после того, как исчерпал свои собственные.
IX
Если даже на долю Эрколе Роберти выпал жалкий жребий, который достается тому, кто познает жизнь через вторые или третьи руки, то чего же мы можем требовать от его ученика Лоренцо Коста, знакомство которого с реальной действительностью и развитием художественной мысли происходило через третьи или четвертые руки.
Коста начал с таких произведений, как «Портреты семьи Бентивольо» и изображений «Триумфов» на стенах церкви Сан Джакомо в Болонье, которые отличались от последних работ Эрколе только более вялой манерой и банальностью построения. А кончил картинами (одна из них находится в церкви св. Андрея в Мантуе), в которых осталось только отдаленнное подобие его прежних замыслов. Однако в промежутке между этими периодами у него все же были счастливые мгновения.
Несмотря на пристрастие к типам, напоминающим американских краснокожих, алтарный образ Лоренцо Коста, находящийся в церкви Сан Петронио в Болонье, отличается не только блестящим колоритом, подобным мозаике, но и торжественным достоинством изображенных в нем персонажей. Но не все они обладают реальным существованием. Часто фигура выглядит так, как будто это шест с перекладиной, завешанный одеждой, к которому привинчена голова, и то не всегда прямо. Однако, несмотря на ошибки, Коста повествует так весело, композиция его так приятна, колорит так чист и нежен, что он совершенно пленяет вас, когда вы смотрите, например, на его картину «Изабелла д'Эсте в саду Муз» (Лувр).
Коста нравится своими пейзажами, одними из самых прелестных среди современной ему пейзажной живописи, хотя они и не особенно серьезны по выполнению. Мерцающая дымка, отливающие серебром быстрые речки, рассеянный солнечный свет, купы тонкоствольных деревьев с прозрачной перистой листвой заставляют мечтать нас о чудесной жизни на лоне природы, помогают забыть о том, каким плохим художником был Коста, и мы отдаем ему место среди любимых нами мастеров. Конечно, имена, которые я назвал, это самые высокие деревья в маленькой роще феррарского искусства. Многие другие прячутся под сенью их ветвей, некоторые цепляются, как омела, за сучья самых крепких дубов. Местами стволы и ветки так перепутаны и переплетены, что до сих пор трудно разыскать отдельно растущие корни.
Бианки, например, если действительно он написал производящего сильное впечатление «Св. Иоанна Крестителя» (Бергамо) и «Портреты семьи Бентивольо» (Вашингтон, Национальная галерея), занимает видное положение в феррарской школе. Но еще более почетное место принадлежит автору алтарной иконы, находящейся в Лувре и приписываемой Бианки. Строгая дева Мария, молодой воин, одновременно суровый и нежный, задумчивые ангелы, высокая простая композиция, спокойный пейзаж, виднеющийся сквозь стройные колонны, неподвижное небо – все это производит впечатление, подобное тихому солнечному закату, когда чувствуешь себя во власти какой-то высшей ритуальной силы и гармонии окружающей нас природы. Раньше чем расстаться с феррарской школой, надо сказать несколько слов о Франческо Франча и Тимотео дель Вите.
Франча, известный мелочной законченностью своих вещей, изящными лицами ангелов и присущим ему чувством душевного равновесия, был с точки зрения мирового искусства небольшим художником. Золотых дел мастер, он стал живописцем только в зрелом возрасте и поэтому был мало знаком с фигурной живописью. Но созерцательное, религиозное чувство Франческо Франча было столь же поэтичным и тонким, как у Перуджино, до тех пор пока оно не перешло в экзальтированность; последняя же опередила подобные переживания его сограждан почти на целое столетие.
Даже у умбрийских мастеров нельзя найти более торжественной и в то же время изящной, нежной и полной тихого благоговения картины, чем его «Мадонна» (Мюнхен, Музей) со скрещенными на груди руками, поклоняющаяся младенцу, лежащему около изгороди из роз. Даже Перуджино, при всей его магии пространственных эффектов, не мог бы нас так тронуть, а Франча заслужил свою скромную славу главным образом пейзажами. Кто из нас не ощутил их изысканную прелесть и не испытал сладостное чувство покоя при взгляде на его тихие и глубокие озера, sine labe lacus, sine murmure rivos («Без единой ряби на их водной глади, без журчания ручьев...» (лат.)), на низкие зеленые берега и небесные горизонты, которые составляют главное очарование его алтарного образа в церкви Сан Витале в Болонье.
Тимотео дель Вите оставил после себя две картины – «Марию Магдалину» (Болонья) и «Благовещение» (Милан), которые в смысле фигурной живописи так же хороши, как любое произведение Франча. Но все же Тимотео дель Вите заслуживает здесь упоминания не из-за них. Он известен потому, что был первым учителем Рафаэля, и благодаря ему гениальный мальчик унаследовал многие традиции, которые в свою очередь перешли к Тимотео от его великого предка – Козимо Туры. Правда, это наследие дошло до Рафаэля в таком виде, что лучше было бы не пользоваться им совсем. Во всяком случае, если бы он не прибавил к нему живописные богатства Флоренции, то само по себе это наследие ничего ему не дало.
X
Мы возвращаемся в Верону, на этот раз не как в столицу всех искусств или к хозяйке той части Италии, которая расположена между Альпами и Апеннинами, но как к провинциальному городу, чьи гордые воспоминания служили Вероне только помехой в том, чтобы в нужный момент плодотворно примкнуть к новому направлению в живописи. Мало кто из молодых веронцев был в Падуе, когда там разразилась художественная революция, вызванная пребыванием Донателло. Большинство оставалось дома, угрюмо дожидаясь того, чтобы революционный поток достиг их порога.
Приезд в Верону Мантеньи именно тогда, когда его дарование находилось в полном расцвете, был торжеством, а алтарный образ, написанный им для церкви св. Зенобия, можно уподобить триумфальной арке, воздвигнутой в честь его гения. В течение двух поколений Мантенья – полноправный властелин Мантуи – держал у своих ног Верону, подобно зачарованной пленнице.
Со многих точек зрения это было неудачно, так как веронские живописцы не знали ни Донателло, ни его скульптур и потому были далеки от реализма; они не могли понять, чем вдохновлялся Мантенья, и могли только подражать ему. Как мы помним, Мантенья не поддался влиянию флорентийцев, утверждавших, что основа рисунка заключается в форме, движении и пространстве. Он же стремился выразить свое восприятие римской античности на ее языке. К счастью, мертвая рука древнего мира, охватившая живую и крепкую руку Мантеньи, не совсем парализовала ее, а только ослабила жесткую напряженность его контуров, особенно по сравнению с твердыми чеканными линиями, к которым были пристрастны его соученики по мастерской Беллини и Тура. Подражания Мантеньи вначале были удачны и сохраняли кое-что от превосходных качеств оригинала, но последующие копии привели к обычным последствиям – к упадку и гибели подражательной живописи.
Если веронская живопись была спасена от подобной катастрофы и, продолжая существовать, даже могла похвалиться своим великим мастером Паоло Веронезе, то этим она была обязана солидному наследию, полученному от Альтикьеро и Пизанелло – природной наблюдательности, чувству цвета и сильной технике. А это, как уже указывалось выше, составляло ту часть капитала, который Верона совместно с остальной Северной Европой вложила в общее достояние итальянского искусства.
XI
В искусстве веронских художников эпохи кватроченто отчетливо проявляются две различные тенденции: одна наиболее ясно и сильно прозвучала в творчестве Доменико Мороне, который, отступив от идей средневековой живописи, воспринял новый образный строй, введенный в нее Мантеньей.
Выразителем другой был Либерале да Верона, склонный сохранить старый типаж и некоторые из старых методов, могущие вступить в компромисс с новым мировосприятием; причем приверженцы старых традиций были так упорны, что им удалось перенести их в живописные школы чинквеченто.
Доменико Мороне известен нам только своими последними работами. В его выдающейся картине «Изгнание герцогами Гонзага семьи Буонакколси» (Мантуанский дворец) мы видим одну из тех битв Возрождения, которые больше напоминают театральный костюмированный парад, нежели поле кровавой бойни. Аристократические всадники на холеных конях делают элегантные выпады оружием, иногда склоняются друг перед другом, будто охваченные недобрыми намерениями, но ясно, что они никому не причинят вреда. Они только принимают изящные позы и осанки, демонстрируя стройные фигуры и ретивость коней, образуя прелестные группы среди широкой городской площади, окруженной необычайными фасадами зданий на фоне дальних гор.