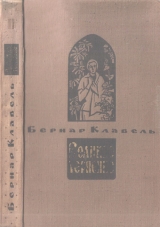
Текст книги "Тот, кто хотел увидеть море"
Автор книги: Бернар Клавель
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц)
12
Дожидаясь Жюльена, мать думала о тетради, которую отдала директору. Несколько раз она ловила себя на том, что шепчет: «А ну как он заметит, что тетради нет!» Но она тут же старалась улыбнуться. Что это, право, не будет же она теперь бояться своего мальчика!
В семь вечера Жюльена еще не было. Отец то и дело поглядывал на будильник и барабанил пальцами по столу. Мать подошла к двери, вернулась к плите, затем вышла на балкон и наклонилась над перилами.
– Что ж это, каждый вечер теперь так будет! – не выдержал наконец отец. – Если он кончает в половине седьмого, мог бы в семь уже быть дома. Придется есть при свете.
– Все равно, дни теперь быстро становятся короче. А потом сегодня особенно темно.
Отец повысил голос:
– Это не оправдание, незачем ему привыкать после работы шляться неизвестно где!
Мать вздохнула, но ничего не ответила. Она опустила висячую лампу и зажгла свет. Отец следил за каждым ее движением. Она, и не оборачиваясь, чувствовала на себе его взгляд. Ей казалось, что из темных углов наплывает томительное молчание и свет лампы не в силах прогнать его. Для матери оно сливалось с ее тягостной думой о тетрадке. Она представляла себе возвращение Жюльена, она боялась того, что скажет по поводу опоздания отец; мысленно она видела, как Жюльен подымается к себе в комнату и выдвигает ящик. Сколько она ни убеждала себя все настойчивее и настойчивее, что зря волнуется, мысль эта не выходила у нее из головы. Она потихоньку шептала слова из стихотворений, даже целые запомнившиеся ей строчки, и ей казалось, Жюльен рассердится, если узнает, что она прочитала его стихи. Только теперь ей пришло в голову, что между рисунками, изображавшими девушку с болезненным лицом, и некоторыми стихотворениями есть какая-то связь. И чем больше она раздумывала, тем сильнее возрастало ее беспокойство. В конце концов она уже не могла разобрать, чего она боится – гнева Жюльена или чего-то другого, чего-то неопределенного, что теперь уже жило в ней и все разрасталось, и против чего она была бессильна.
Отец развернул газету, но она видела, что он ежеминутно отрывается от чтения, прислушивается к каждому шуму на улице и то и дело глядит на часы. Подойдя к плите, как бы для того, чтобы заняться готовкой, она нагнулась и попыталась прочитать заголовок. Несмотря на все ее старания, ей все-таки пришлось спросить:
– В газете пишут, что мы захватили немецкую подводную лодку, верно?
Отец посмотрел заголовки.
– Ага, вот, – сказал он. – «Наша подводная лодка…» – Он замолчал, прочитал про себя и пояснил: – Нет, наша подводная лодка захватила немецкое торговое судно.
– Да, возможно, что и так, – сказала она. – Я только мельком видела, газеты я не раскрывала.
Отец поговорил немного о войне на море, затем снова взялся за газету.
– Ишь ты, наконец они все же решились поприжать коммунистов… «Отдан приказ об аресте господ Раметта и Флоримона Бонта. Триста семьдесят семь коммунистических муниципалитетов распущены или в скором времени будут распущены…» – медленно прочитал он.
Мать делала вид, что слушает. Время от времени она говорила:
– Да, да… вот и хорошо… Они правы…
Но на самом деле она прислушивалась к звукам, доносившимся с улицы. Вскоре ей почудились голоса. Она подошла к двери и, убедившись, что говорят в саду, сказала:
– Помолчи, я слышу чьи-то голоса.
Отец перестал читать. Оба прислушались, затем мать открыла дверь.
– Это Жюльен, но он не один, – сказала она.
Отец положил газету и скорчил недовольную мину, однако ничего не сказал. Услышав шаги на лестнице, он проворчал:
– Опаздывает, да еще гостей с собой привел…
– Помолчи, – шепнула мать.
Она услышала, как Жюльен сказал:
– Входите, господин Мартен.
И тут же в кухню вошел новый хозяин Жюльена. Мать отступила на шаг, а отец положил очки на стол около своей тарелки и поспешил встать. Господин Мартен поздоровался, снял свою серую шляпу и сейчас же начал быстро говорить, жестикулируя обеими руками и вертя головой, от чего дрожали его дряблые щеки. Это был человек лет шестидесяти, сухощавый и бледный, того же роста, что и Жюльен.
– Я задержал вашего сына, – объяснил он. – И вижу, что вы дожидаетесь его и не кушаете.
– Ничего-ничего, – сказал отец, – подумаешь, важность какая!
– Дело в том, что у меня большие неприятности. В Лионском филиале моей фирмы почти не осталось старых работников, новых я не знаю, а тут вдруг уходит мастер.
Отец с матерью слушали его стоя и покачивали головой. Мать пододвинула ему стул, он отстранил его рукой.
– Нет-нет, я на минутку. У меня еще куча дел; завтра надо с самого раннего утра выехать.
Он запнулся, поглядел на Жюльена, который стоял рядом, затем опять на стариков Дюбуа.
– Я увожу с собой вашего сына, я вынужден это сделать, мне нужен там человек, на которого можно положиться.
– Но… – робко вымолвила мать.
Господин Мартен прервал ее:
– Да-да, понимаю, – сказал он. – Вы возразите, что я не знаю, справится ли он, но это ничего. В Лионе на него возлагается не работа, а надзор. Работа там налажена, но мне нужно доверенное лицо.
Он замолчал, все еще упорно глядя на отца с матерью, затем, когда отец хотел что-то сказать, опередил его:
– Понимаете, господин Дюбуа, я вас давно знаю и уверен, что на вас можно положиться.
– Но ведь надо бы… – начала было мать.
Господин Мартен пожал им обоим руки и открыл дверь.
– Не беспокойтесь. Он там будет как сыр в масле кататься, я сам его устрою… – сказал он. – Не беспокойтесь… И жалованье ему прибавлю. Доверенное лицо, понимаете, мне нужно… доверенное лицо… Не думайте, я знаю, как оплачивают доверенное лицо…
Мать слышала, как он спускается по лестнице, повторяя все те же слова.
После его ухода Жюльен затворил дверь, и тут наступило долгое молчание. Все трое смотрели друг на друга. Жюльен чуть улыбался, отец поглаживал свою лоснящуюся плешь и морщил подбородок; мать чувствовала, как все сильней и сильней колотится у нее в груди сердце.
– Да как же так… да разве так можно, – сказала она.
Жюльен рассмеялся.
– Очень даже можно. Такой уж это человек. Говорят, у него все – раз, два и готово. Он ведет свое дело очень решительно.
– Но ведь ты только что вернулся, неужели ты опять уедешь.
Голос ее дрожал. Она уже, как сквозь туман, видела Жюльена.
– Мама, не надо плакать! – сказал он. – Мне подвезло: поехать в Лион – это во! Понимаешь? Лион – это сила!
Она только махнула рукой и опустилась на стул. Отец медленно сел, и она услышала, как он говорит:
– Да, чудак он, чудак. Мне так и говорили. И это верно. Совершенно верно. Можно сказать, налетел, прямо как ураган. И подумать только, так ведет дело, а заработал миллионы. Во всяком случае, надо думать, он знает, что делает.
Мать старалась не плакать, но слезы навертывались на глаза. Она чувствовала, что это не от горя в полном смысле слова, но потому, что она сегодня переволновалась.
– Ну, хныкать не стоит, – сказал отец. – Конечно, неприятно, что он уже уезжает, но как-никак господин Мартен остановил свой выбор именно на нем, а это что-нибудь да значит!
Она подняла голову и вытерла глаза носовым платком. Отец улыбался. Губы его чуть дрожали, он морщил подбородок, от чего на нем яснее обозначалась ямочка. Мать чувствовала: он сдерживается, чтобы не показать, как он рад. Жюльен сел за стол.
– А тебе не грустно уезжать из дому? – спросила она.
Сын пожал плечами, словно говоря, что понимает ее чувства; затем он улыбнулся и повторил:
– Понимаешь, мне подвезло, Лион – это блеск!
Она тоже улыбнулась, ставя на стол кастрюлю, от которой шел пар. Отец протянул тарелку, она наполнила ее доверху.
– Глупый ты мой взрослый сын, ну что у тебя за выражения. И подумать только, что ты уедешь… что опять будешь один…
Она подала ему тарелку и сама тоже принялась медленно есть. Нервное возбуждение, бывшее причиной ее слез, постепенно улеглось, но теперь она чувствовала, что к ней в сердце снова закрадывается тот страх, который она так часто испытывала во время двухлетнего отсутствия Жюльена.
13
Мать дотемна укладывала чемодан Жюльена. И все же на следующее утро она встала задолго до света. Она не зажгла висячей лампы, удовольствовавшись коптилкой, которую принесла из спальни и поставила на буфет. Чемодан Жюльена был готов; она заперла его, надеясь, что сын, может быть, забудет про тетрадь. Затем она сварила кофе и подогрела молоко. Только покончив со всеми приготовлениями, она поднялась наверх, чтобы разбудить сына.
Пока он ел, мать сидела напротив, облокотись на стол, и не спускала с него глаз. Помолчав немного, она спросила:
– Тебе правда не грустно, что ты уезжаешь так далеко?
Жюльен рассмеялся.
– Далеко? Смеешься, даже ста пятидесяти километров не будет. Жаль, что хозяин спешит, а то бы я отмахал на велосипеде.
Мать пожала плечами.
– Не говори глупостей!
Жюльен снова принялся за еду. Да, это так, он большой и сильный. Мужчина. И этот мужчина уезжает, может быть, так и не останется жить дома. Этот мужчина уезжает один, и чужой город.
– Будь там поосторожнее.
– Поосторожнее? Это ты о чем?
Она вздохнула.
– Не знаю. Вообще… поосторожней с людьми. Разве можно знать, на каких нападешь. Словом, ты уже большой и сам должен понимать.
Ей хотелось сказать ему очень много, но слова не приходили, а если и приходили, ей казалось, что она не может сказать их своему мальчику. И она молчала и только смотрела на него.
Занимался день, тусклый свет чуть освещал сбоку лицо Жюльена. Другую половину его лица освещала коптилка. Вдруг мать почувствовала, что ее заливает волна безумного страха.
– Города могут бомбить, сказала она. – Нам в Лоне бояться нечего, что такое Лон! А вот на Лион может быть налет. Если будет тревога, обязательно иди в бомбоубежище.
– Конечно, пойду, – успокоил ее Жюльен. – Но ничего не будет, не волнуйся.
– А все-таки, надо было мне спросить у господина Мартена, есть ли у них там в доме подвал, – вздохнула она.
– Он бы только посмеялся над тобой.
Жюльен допил кофе и встал из-за стола. Мать подошла к буфету и задула коптилку.
– Отец наверху ходит, – сказал она.
Жюльен надел куртку и плащ.
– Когда похолодает, одевайся потеплей. И напиши мне, если тебе что-нибудь понадобится.
Отец спустился с лестницы, поставил ночной горшок на нижнюю ступеньку и спросил:
– Ну как, готов?
– Все в порядке.
По его голосу мать поняла, что муж счастлив. Ей хотелось упрекнуть его, но она удержалась.
– Я провожу тебя до калитки, – сказала она Жюльену. – Заодно отнесу молочный бидон.
Жюльен обнял отца, тот сказал:
– Главное, работай как следует.
Мать с сыном молча шли по дорожке, где вдоль бордюра, окаймлявшего грядки, намело кучи листьев. Утро было свежее. Мать плотнее натянула шаль на плечи. Бидон, который она держала перед собой, звякал, ударяясь о пуговицы на ее кофте, да ручка чемодана, который нес Жюльен, слегка поскрипывала – это были единственные звуки. Утро еще не стряхнуло с себя ночной тьмы. Но несколько окон, выходивших на улицу, было открыто.
– Утром люди забывают о противовоздушной обороне, и никто им ничего не говорит, – сказала мать.
Жюльен не ответил. Они подошли к калитке. Мать достала из кармана кофточки ключ и отперла калитку. Она долго не выпускала сына из своих объятий. Чтобы поцеловать его, ей пришлось стать на цыпочки, хоть он и наклонился к ней.
– Не забывай того, что я тебе сказала, – прошептала она. – И пиши мне… такие письма, чтобы я знала, как тебе живется.
Жюльен ушел. Она хотела еще что-то добавить, но у нее сжалось горло. Стоя у ограды, она смотрела, как он удаляется. Он несколько раз обернулся и помахал ей. Когда он проходил мимо школы, на глаза матери внезапно набежали слезы. Все затуманилось. Жюльен был уже не в коричневом плаще, а в длинном черном фартучке; он нес не чемодан, а кожаный школьный ранец. Вот сейчас он войдет во двор с высокими каштанами, и перед тем как переступить порог школы, обернется еще раз и махнет ей рукой.
Она опустила голову и вытерла глаза концом кофточки. Когда она опять подняла голову, Жюльен стоял в конце улицы, гораздо дальше школы, как раз на углу. Он помахал рукой. Мать помахала ему в ответ. Они стояли и махали рукой, прощаясь друг с другом, потом она увидела, что Жюльен опустил руку и быстро скрылся за углом дома.
Тогда мать вернулась в сад, затворила калитку и медленно пошла к дому.
У крыльца она прислушалась: за домом, там, где парники, отец разговаривал с соседом. Она бесшумно прошла мимо крольчатника; кролики, увидя ее, стали обнюхивать решетку. Дойдя до угла дома, она остановилась.
– Понимаете, рабочих, может быть, и найдешь, – говорил отец, – но чего не найти, так это людей, на которых можно положиться: и толковых и работников хороших. Такой человек, как господин Мартен, не доверит свой лионский филиал кому попало.
– Само собой, зная вас, он может быть спокоен, – ответил Пиола. – Он, конечно, убежден, что ваш сын заслуживает доверия. Только вот какое жалованье ему положат, он еще так молод!
Наступило молчание. Выглянув из-за угла, мать увидела, что муж закурил.
– Еще бы они ему хорошего жалованья не положили! Положат. Понимаете, ведь в отсутствие господина Мартена – а он больше бывает здесь, чем в Лионе, – Жюльен будет всем заправлять. Возраст ничего не значит, если у тебя голова на плечах.
– Как ни верти, а во время войны молодежи приходится брать на себя многое.
– Да, это само собой, – сказал отец.
– А вас это не беспокоит?
– Подумаешь, мне беспокоиться нечего. Я отлично знаю своего сына. Да, кроме того, я в его возрасте уже давно один развозил заказы…
Мать не стала слушать дальше. Она пошла обратно к крыльцу. Живший в ней страх не прошел, но все же раннее утро повеяло на нее каким-то покоем, словно в нем еще сохранилось летнее тепло, которое она вдруг ощутила.
14
Мать кончала стелить постель, когда услышала голоса в саду и шарканье шагов на вымощенном дворе. Она выглянула из окна, но все уже завернули за угол дома. По громким голосам она поняла только одно – с ее мужем разговаривало несколько человек. Она быстро застелила постель и вышла на балкон; внизу во дворе она увидела солдат в касках и при оружии. Трое стояли. Двое других сидели на ступеньках лестницы, ведущей в погреб. Две винтовки были прислонены к невысокой ограде, отделяющей двор от сада господина Пиола. Вскоре из погреба вышел отец с бутылкой красного вина в одной руке и стаканом в другой. Солдаты принялись за вино, а мать тем временем сошла к ним во двор. Они пили по очереди, передавая друг другу стакан, предварительно стряхнув на землю одним и тем же движением оставшиеся капли. Светловолосый солдатик снял каску и поставил ее на железный стол. Он выглядел совсем юным, и мать подумала о Жюльене.
– Они пришли рассказать нам про Бутийона, помнишь, тот сержант, сын Мариуса Бутийона.
– Да-да, помню, – ответила, улыбнувшись, мать.
На рукаве у одного из солдат она заметила небольшую золотую нашивку. Он был без винтовки, но на поясном ремне висела револьверная кобура. Он посмотрел на мать и тоже улыбнулся.
– Да, я вам скажу, это парень, что надо! – сказал он. – Кто с ним хоть раз имел дело, до конца жизни его не забудет.
– Так что же такое с ним случилось? – спросила мать.
– Вот сержант тебе сейчас расскажет, – ответил отец.
Сержант рассмеялся и, обведя рукой своих солдат, объяснил:
– До сегодняшнего дня он, как и я, ходил с патрулем, как говорят, нес тыловую службу. – Сержант минутку помолчал. – Это значит, его обязанностью было забирать пьяных солдат и тех, что дебоширят на улице.
Солдаты тоже засмеялись.
– Он не приказывал нам забирать их, – пояснил один из солдат. – Он говорил: «Узнайте фамилию, отметьте как явившегося вовремя и положите где-нибудь в сторонке, когда проспится, сам найдет дорогу в казарму».
Солдаты все еще смеялись.
– Ну, а дальше что? – спросила мать. – Бьюсь об заклад, что его наказали!
Опять раздались смешки, но затем наступило молчание; сержант посмотрел на стариков Дюбуа.
– Наказанием это не назовешь, потому что по его же просьбе, – сказал он, – но как-никак, а номер с ним выкинули подлый.
– Почему подлый, он сам того хотел, – сказал один из солдат.
– Смеешься, а если он там свои косточки сложит!..
Матери показалось, что солдаты забыли о ней с отцом. Некоторое время она вслушивалась в их разговор, затем, поняв, что сержанта Бутийона отправили в район Саара, она сразу подумала о его жене и четырнадцатилетием сыне, которых знала только по фотографии. Жену она нашла серьезной, можно сказать, даже грустной, а сына очень красивым.
– Так, значит, его послали воевать, это в его-то возрасте, просто потому, что он не отправлял пьяных на гауптвахту? – спросила она.
Она чувствовала, как в ней закипает гнев. Мужчины молча посмотрели на нее, затем сержант пояснил:
– Нет, ему просто поставили на вид, что он не исполняет своих обязанностей.
– Надо сказать, что капитан как следует намылил ему голову, он у нас насчет службы придирчивый, – заметил один из солдат.
– Так-то оно так, но офицер, брат, это офицер, когда он на тебя орет, надо молчать.
– Это чтобы тебе Бутийон да смолчал…
Они расхохотались. Отец тоже смеялся. Он снова налил им вина, а сержант тем временем закончил:
– Вот что было дальше: когда капитан его отчитывал, он сказал, что его призвали драться с фрицами, а не шпиком быть. Кажется, он даже обругал капитана.
– Верно, – подтвердил один из солдат, – мне дневальный говорил, Бутийон сказал: «Если вам нравится отсиживаться в тылу, ваше дело. А меня или отправьте на передовую, или я пошлю к черту всю мою амуницию – нате, подавитесь! – и буду считать себя демобилизованным». Верно, он так и сказал, а потом вышел и хлопнул дверью.
Солдаты покачали головой. Сержант был как будто смущен.
– Ну, точно никто не знает… – промямлил он.
Говоривший перед тем солдат перебил его:
– Так все и было, в точности так. Дневальный мне еще сказал: «Ты бы видел капитана, я думал, его вот-вот удар хватит». – Он замолчал, а потом с восхищением прибавил: – Да, Бутийон никогда труса не праздновал!
– Чтоб им нашей амуницией подавиться – это его любимая поговорка была, – прибавил другой.
– Во всяком случае, через день он получил назначение на передовую, – сказал в заключение сержант.
– Подумать только, подумать только! – прошептала мать.
Мужчины потолковали еще о том, о сем, но мать уже не слушала. Их присутствие и отправка на фронт Бутийона напомнили ей о войне. Хоть и говорили, что никто не воюет по-настоящему, что никому не хочется воевать, все же угроза войны не исчезла, и в сердце матери ожили воспоминания о войне четырнадцатого года, о тех зимах, когда погибло столько солдат.
И печальные думы не покидали ее еще долго после того, как солдатские шинели одна за другой скрылись из виду.
15
За столом отец много рассказывал о Бутийоне и о том времени, когда он вместе с Мариусом Бутийоном был на фронте. Мать не слушала. От той войны в ней живы были только воспоминания о раненых, эшелоны с которыми приходили на вокзал, и об извещениях о смерти, которые получали семьи погибших. Остальное ее не интересовало. Она вдоволь наслушалась солдатских рассказов, историй о подвигах и злоключениях тех страшных лет, которые, как ей иногда казалось, не оставили даже глубоких ран в сердцах фронтовиков. Как будто им запомнились только соленые шуточки или мелкие, совершенно незначительные факты.
Покончив с завтраком, мать поспешила убрать со стола; затем она подождала, пока отец подымется наверх, чтобы соснуть, и вышла из дому. Остановившись у приоткрытой калитки, она наблюдала за ребятами, которые пришли первыми и теперь играли у входа в школу.
Вскоре в конце улицы показался господин Грюа. Мать вышла за калитку ему навстречу. Как только ученики заметили директора, поднялся громкий крик, и все ребята наперегонки пустились к нему. Директор, на котором было длинное серое пальто и черная шляпа, остановился среди школьников, окруживших его гурьбой. Ребята висли на нем, дергали его за полы пальто, протискивались поближе, локтями прокладывая себе дорогу. Он забирал в свои большие руки несколько тянувшихся к нему детских ручонок и крепко пожимал их. Наклонившись вперед, он выхватил из толпы совсем маленького мальчугана и поднял его на руки. И сразу же раздались голоса:
– И меня… и меня… и меня!
Мать остановилась в нескольких шагах. Господин Грюа поздоровался с ней издали – подойти ближе он не мог – и махнул рукой по направлению к школе. Впрочем, ребята всей гурьбой двигались к школьному двору. Директор отпер ворота, дети пошли во двор и с веселыми криками разбежались во все стороны. Господин Грюа поставил на землю мальчугана, которого нес на руках.
– Ступай, ступай скорее играть с ребятами, – сказал он.
Малыш убежал, весело смеясь, и господин Грюа пожал матери руку.
– Каждый день повторяется то же самое представление. Ничего не поделаешь.
– Удивительно, как дети вас любят.
Директор покусывал усы.
– Одно только досадно – с молодыми учителями ребятишки совсем не так свободно себя чувствуют, и это, как вы понимаете, меня немного стесняет.
Мать улыбалась. Она отлично понимала, что привлекает детей к господину Грюа, только объяснить не умела.
– А ведь я бываю очень строг, – заметил он. – И все же…
Как бы извиняясь, он развел руками.
– Это естественно, – сказала мать, – вполне естественно.
Они сделали несколько шагов по двору, затем господин Грюа вытащил из кармана свернутую в трубку тетрадь и протянул матери.
– Ну как, посмотрели? – спросила она.
Господин Грюа казался смущенным. Он достал большую медную зажигалку, закурил, громко окликнул двух дравшихся школьников и только потом ответил.
– Конечно, посмотрел, даже прочитал с начала до конца, да. Все это несомненно свидетельствует, что ваш сын юноша с сердцем, что он хочет… что он хочет выразить свои чувства.
Он мялся, подбирая слова. Время от времени, продолжая говорить с матерью, он обводил взглядом двор.
– Понимаете, это неплохо, – говорил он. – Ничего не скажешь, очень даже неплохо. Но только, что это ему даст? В его годы все пишут стихи.
Мать грустно улыбнулась.
– Нет, господин Грюа, не все… во всяком случае я не писала, уверяю вас.
Директор вертел в руках свою широкополую шляпу.
– Судить о чем-либо очень трудно, – сказал он. – Очень трудно. Но еще труднее советовать. Не могу же я вам сказать: «Надо, чтобы Жюльен снова взялся за книги». Ради чего? Ради того, чтобы рисовать, писать картины? Я думаю, что специальность, которую сейчас приобретает ваш сын, прокормит его куда лучше, чем профессия художника.
Мать рассказала, что Жюльен уехал в Лион.
– Вот видите, он может преуспеть гораздо скорее, чем вы думали, – заметил господин Грюа.
Они помолчали. Дети с криками носились по двору, вздымая ногами облака ржавых листьев. Господин Грюа следил за ними, время от времени он хлопал в ладоши так звонко, словно прачка стучала вальком по белью, или громко окликал какого-нибудь ученика, напрасно стараясь придать своему голосу строгость. Мать не спускала с него глаз. За эти два дня она все думала, что он ей скажет. И вот он поговорил с ней и не сказал того, что она ждала. И все же от него словно исходила какая-то невидимая успокоительная сила.
Молодой помощник преподавателя прошел мимо, поклонился и зашагал по двору, заложив руки за спину и останавливаясь, когда группа школьников слишком стремительно проносилась мимо.
Мать стояла в нерешительности. Она посмотрела на калитку, потом снова подошла к господину Грюа.
– А война, господин Грюа, что вы о ней думаете? – почти помимо воли вырвалось у нее. – Моему Жюльену семнадцать; а потом ведь в больших городах опасность куда сильнее, чем в таких, как наш?
Казалось, ее вопрос очень смутил господина Грюа. Он несколько раз провел рукой по усам, потом медленно произнес:
– Да, война, война. Кто знает, куда она нас заведет?
На глаза его словно набежала какая-то тень, и это взволновало мать. Он умолк и опустил голову. Наступив на упавший каштан, он перекатывал его под ногой. Мать больше не спрашивала. Она ждала, не отводя взгляда от лба господина Грюа. Так прошло некоторое время, показавшееся ей вечностью; потом господин Грюа поднял голову и подошел к ней; вытащив из кармана газету, он развернул ее и сложил теперь так, что сверху оказалась одна статья.
– Вы помните о такой мамаше Бизолон?
– Как же. Солдатская мамаша. В ту войну о ней много говорили: хорошая лионская женщина, выходившая на перрон к поездам и поившая вином отпускников.
– Да-да, хорошая женщина. Я тоже помню; в семнадцатом году она угостила меня подогретым вином.
Он опять замолчал. Казалось, он колеблется, продолжать ли; все же он поднес газету к глазам и прочитал вслух:
«Маркитанка, выходившая к поездам в ту войну, снова дежурит на вокзале». Я пропускаю описание, но вот конец статьи: «Поверите ли, – сказала она нам, – на площадках вагонов я вижу знакомых солдатиков, но теперь это уже седые бородачи; они узнают меня и говорят: «Опять отправляемся, но на этот раз наши сыновья уже там». И добрая женщина утирает слезы».
Господин Грюа замолчал и глубоко вздохнул. Рука с газетой опустилась.
– Как, по-вашему, разве это не ужасно? – спросил он, понизив голос.
Мать покачала головой. Она не совсем понимала, что именно ужасает господина Грюа, и предпочла промолчать, тем более что он опять заговорил все так же негромко, но теперь уже быстрей и слегка дрожащим голосом:
– Вы сказали, хорошая женщина. И самое страшное, что это верно. Она хорошая. Все они хорошие. Такие вот хорошие люди и воюют. Люди, которые плачут от умиления, а не от горя, не от ярости или отчаяния. Люди, которые с гордостью говорят: «Наши сыновья уже там».
Он вдруг замолчал, посмотрел в направлении двора, где молодой учитель все еще шагал взад и вперед. Затем еще тише надломленным голосом сказал:
– Мой сын тоже на днях уехал на войну. Ему двадцать три года… Так вот, уверяю вас, я гордости не чувствую. Я бы предпочел, чтобы он был где угодно, только не там.
– А где он? – спросила мать.
Он сделал неопределенный жест.
– Полевая почта, – сказал он. – Но не все ли равно где: он на войне, это главное. И там их миллионы. Иногда я задаю себе вопрос: а может быть, мы, и правда, созданы для войны. Может быть, мир – просто передышка перед новой войной, усовершенствованной… Им кажется вполне естественным, что они отправляются на войну в первый или уже во второй раз… – Он опять вздохнул и продолжал все более и более устало: – За всю мою учительскую жизнь, которая уже приходит к концу, я перевидал немало ребят. Многого для них сделать не можешь, но я неизменно всеми силами старался показать им бессмысленность войны. И величие подлинного мира. Так вот, понимаете, я вижу многих из моих прежних учеников, которые сейчас отправляются на фронт. Отправляются они не с легким сердцем, что и говорить. Есть среди них и трусы, есть такие, что напускают на себя храбрость, есть и настоящие храбрецы. Есть такие, что горланят, есть такие, что прощаются со своей девушкой, или с матерью, или с детьми, словом, у всех найдется тысяча причин, чтобы проклинать эту чертову войну. Но чтобы кто-нибудь понимал всю бессмысленность войны… Нет, никто не понимает! Можете мне поверить, никто!
Мать чувствовала, что у нее сжимается сердце. Ей вдруг показалось, что господин Грюа вот-вот расплачется. Но он только поморгал глазами да покусал усы. А когда мать хотела еще что-то сказать, он указал подбородком на молодого учителя, остановившегося посреди двора.
– Простите, – сказал он. – Мне пора.
– Да, да. Спасибо, господин Грюа.
Он пожал ей руку, отошел на несколько шагов, потом обернулся и сказал:
– Надо делать свое дело. Надо, даже если это ни к чему не ведет… Даже если это ни к чему и не приведет.
Он быстро отвернулся и пошел прочь. Последние его слова мать едва разобрала, должно быть, у него сжалось горло. Она стояла и смотрела ему вслед. Он шел медленно, тяжело ступая. Его широкая спина, казалось, сгорбилась сильнее, словно под тяжестью склоненной седой головы. Он размахивал длинными руками; в одной он все еще держал шляпу, а в другой – сложенную газету.
Он не сказал ничего, но как только он появился на пороге, ученики выстроились перед ним. В опустевшем дворе, усыпанном опавшими листьями, сразу воцарилась тишина.







