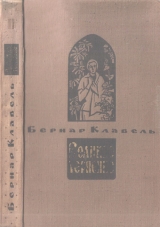
Текст книги "Тот, кто хотел увидеть море"
Автор книги: Бернар Клавель
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц)
9
К тому времени, когда вернулись отец с сыном, сержант Бутийон уже успел снять военную куртку и галстук и засучить рукава. Он даже набрал в лейку воды и принес из сарая корзину дров. Мать долго не решалась, но в конце концов пригласила его позавтракать с ними.
Отец как будто остался доволен. Он поспешил переодеться и, как только облачился в свою латаную рубаху и синий фартук, спустился в погреб за бутылкой белого вина.
Сержант с раскрасневшимся лицом, взмокший от пота, сильно жестикулируя, рассказывал о своих начальниках, о снаряжении армии, о приказах и контрприказах. И каждый раз, как он останавливался, отец торопился вставить:
– Ничего не изменилось. Я помню в четырнадцатом году, вот хоть у вашего отца спросите, когда мы были в…
Но он так и не мог договорить. Не слушая его, сержант, говоривший гораздо быстрее и громче, начинал новую историю. И как только кончал рассказ, поворачивался к матери и спрашивал:
– А что, разве не так, разве я не прав?
И мать кивала головой, повторяя:
– Ну конечно. Ну конечно, вы правы.
Один Жюльен молчал. Он сидел на ступеньках лестницы, которая вела в комнаты, и слушал.
Когда мать подала суп, на время наступило молчание. Отец ел медленно, поэтому сержант управился раньше него. Он уже начал было новую историю, но мать предложила ему еще тарелочку. Он поблагодарил и замолчал, снова принявшись за еду. Мать заметила, что никогда раньше отец так не спешил покончить с едой. Кроме того, он не налил себе еще. Он положил ложку в пустую тарелку, обтер усы тыльной стороной руки и тут же начал:
– Я помню, в четырнадцатом году, когда мы с вашим отцом…
И это была единственная история, которую ему за весь день удалось досказать до конца.
Сержант оставался у них до того времени, когда надо было идти на перекличку. Он пошел с ними в сад, помогал во всех работах, но ни на минуту не закрывал рта. Мать опасалась, что дело дойдет до ссоры.
– Это буржуазия довела нас до ручки, – вопил сержант, – буржуазия надеялась, что Гитлер покончит с коммунизмом!
– Однако Народный фронт… – решился вставить отец.
Но солдат не дал ему договорить.
– Что Народный фронт! – кричал он. – Да его прикончили! И прикончили его буржуи. Они называли это «политика умиротворения», Мюнхен и вся прочая музыка. Ерунда, нас предали, говорю вам, предали. Гитлер сделал ловкий шаг и обезопасил себя от франко-советского союза. А буржуи сразу на это и клюнули, потому что всегда были трусами и дураками. Ведь это пресловутый кардинал Иннитцер, примас Австрии, посоветовал добрым католикам два года тому назад, во время аншлюса, не поддерживать Шушнига и голосовать за Гитлера. Всех бы их в один мешок – и попов и буржуев!
Он горячился все больше и больше.
Затем он обрушился на генералов.
– Они тоже из буржуев! – кричал он. – Всем известно, что нас предали. Почему мы сразу не перешли в наступление? Потому что они не хотят разгромить Гитлера. Фашизм – для них самое разлюбезное дело. Решительное наступление, пока он еще не разделался с Польшей, вот что было нужно!
– В четырнадцатом году… – попытался было вставить папаша Дюбуа.
Но Бутийон тут же завопил:
– Знаете, что говорили в четырнадцатом году: кровь рядовых служит главным образом для поливки генеральских рукавов, чтобы на них скорее росли звезды. Вот увидите, на этот раз будет то же самое. Они начнут наступление, когда это будет им выгодно.
Отец как будто хотел возразить, но сержант уже несколько успокоился.
– Я вам сейчас кое-что скажу, и вам сразу станет ясно, что здесь не все чисто, – объяснил он, обращаясь к матери. – В моем отделении есть один очень серьезный человек, ему можно верить. Он стоял на берегу Рейна. Его отослали в тыл, потому что у него болят глаза. Так вот: им там запретили стрелять в бошей.
Мать пожала плечами.
– Не преувеличивайте, – сказала она.
– Я не преувеличиваю. Это совершенно точно: официально запрещено обстреливать железнодорожную линию на правом берегу Рейна между Базелем и Карлсруэ. Ну, ребята только сидят и смотрят, как проходят поезда с пушками, вот вам и все!
– В конце концов, если можно кончить войну, никого не убивая, чего уж лучше, – сказала мать.
Сержант расхохотался. Потом, снова распалившись, начал честить фабрикантов оружия, объединение предпринимателей, буржуазию и духовенство.
Мать, уставшая от его крика, отошла подальше. Она обрывала сухие листья на бобах, обвившихся вокруг длинных ореховых жердей, в то же время наблюдая за мужем. «Он, верно, из себя выходит. Вот сейчас взорвется. Господи боже, ну и парень, просто какой-то сумасшедший», – эта мысль не оставляла ее. И она упрекнула себя за то, что пригласила его, что угостила вином.
Однако отец был невозмутим. До самого ухода сержанта он продолжал спокойно работать в саду. Только каждый раз, когда тот его спрашивал: «Разве не правда, разве я не прав?» – отец кивал и говорил:
– Ей-богу, знаете ли, я…
Но сержант его не слушал. Надо думать, он удовлетворялся кивком головы, принимая его за выражение согласия со стороны папаши Дюбуа.
Когда, наконец, сержант отправился к себе в казарму, мать, вместе с отцом закрывавшая соломенными щитами парники, с облегчением вздохнула.
– Уф! Совсем заговорил.
Отец усмехнулся:
– Да, шутник-парень, с ним не соскучишься. И подумать только, что отец у него такой спокойный человек.
– Ты говоришь: шутник. А я думаю, просто сумасшедший, – возразила она.
– Ну, ты всегда преувеличиваешь, скажем лучше – малость горячий. Кстати, его отец всегда говорил: «Голова отчаянная, зато сердце доброе».
– Он говорит, что не коммунист, – заметила мать, – но ты слышал, как он о буржуазии отзывался?
Отец беспомощно развел руками. Он был как будто смущен. Мать выпрямилась, потерла занывшую поясницу, потом спросила:
– Выходит, тебе все равно, когда тебя ругают?
– Но ведь не хотела же ты, чтобы у нас с ним дошло до ссоры. Человек возбужден, надо дать ему выговориться. Мы с его отцом всю войну вместе провоевали, не стану же я из-за пустяков ссориться с сыном.
Он остановился, чтобы отдышаться. Выражение лица у него было напряженное, взгляд жесткий. Мать не могла понять почему. Их разделял парник, прикрытый стеклами, в которых отражалось уже низко стоявшее почти багровое солнце.
– В конце концов, что такого он сказал? – заметил отец. – Ничего, абсолютно ничего плохого. Разве ты в политике что-нибудь смыслишь? Ничего не смыслишь, ну а тогда бери пример с меня – молчи и все. Мы уже не в том возрасте, чтобы о таких вещах рассуждать.
Работа была закончена. Мать еще минутку молча смотрела на мужа. Но он стоял все в той же позе, с тем же напряженным выражением лица, и она пошла к дому, куда уже вернулся Жюльен.
– Если бы наш сын был такой, я бы слушала про него, слушала и наслушаться не могла. Да, и чего бы я только не наслушалась!
Но она отошла уже достаточно далеко, и отец не мог разобрать ее слов. Когда она оглянулась, он все еще стоял на том же месте и скручивал сигаретку. Она пожала плечами и пробормотала:
– Кури, кури, видно, не накурился еще с этим чумовым. А ухаживать потом за тобой мне придется.
10
Первая пятница октября для матери тянулась бесконечно. Сын ушел на работу в шесть утра, и она не успела с ним двух слов сказать. Небо было пасмурное, всю ночь на совсем уже пожелтевший сад лил дождь.
Около десяти часов мать, полоскавшая у колонки белье, услышала, как за оградой на школьном дворе шумят ребята, у которых началась перемена. На мгновение перед ее мысленным взором предстал этот двор с гигантскими каштанами, усеянный опавшими листьями, которые столько раз собирали в кучи и столько раз вновь разбрасывали ногами школьники. Ей на миг почудилось, будто она выжимает над тазом с чистой водой не синюю рабочую блузу кондитера, а черный фартук школьника. Она даже рассердилась на себя, что думает о той поре. Попробовала отвлечься от этих мыслей, которые нет-нет да возникали в голове.
Развесив выстиранное белье, она стала помогать отцу, дергавшему свеклу. Взяла одну из корзин, которые он оставил на средней дорожке рядом с тачкой, и пошла к грядкам. Отец разогнул спину, в одной руке он держал лопатку, другую упер в бок.
– Брось, не надо, – сказал он. – Тут не так много, я и один управлюсь.
– Нет-нет, я помогу. Может опять начаться дождь.
Отец посмотрел на небо между Монтегю и дорогой в Нанси.
– Что-то не похоже, над Макорне небо немного очистилось, если дождь и будет, то к вечеру.
Но мать стояла на своем. Ей не терпелось поговорить о Жюльене, узнать побольше о фирме, где он начал работать. И она принялась подбирать свеклу, которую отец выдергивал из грядки. Она отряхивала ее от земли, затем срезала ботву и клала в другую корзину. Они молча трудились несколько минут, потом мать спросила, словно продолжая только что прерванный разговор:
– А других, кто работает у Мартенов, ты знаешь?
– Конечно, – ответил отец. – Я ведь тебе уже говорил, что хорошо знаком с мастером.
– С мастером, это само собой, а с остальными?
– Ну, знаешь, с тех пор как мы воюем, остальные успели перемениться. Теперь это или молодежь, вроде Жюльена, или старики, которые заменили мобилизованных и снова пошли на работу.
Отец повторил то, что уже двадцать раз рассказывал о своем посещении кондитерской Мартена, о хозяине, о мастере и обо всем, чему Жюльен там научится. Обычно, когда он часто повторял одну из своих бесконечных историй, которые мать уже много раз слышала, она прерывала его:
– Голубчик, ты бы что-нибудь новое придумал. Я все это наизусть знаю, ты мне уже раз сто рассказывал.
И отец неизменно хмурился и ворчал:
– Ладно, ладно, если тебе неинтересно, мне остается одно – молчать. Видно, меня пора на свалку, да!
Но сегодня наоборот – сегодня она подгоняла его. Как только он замолкал, она придумывала, о чем бы еще спросить. Они дошли уже почти до конца грядки, когда она, наконец, решилась:
– Ты думаешь, мне можно будет как-нибудь пойти посмотреть? – спросила она.
Отец воткнул свою лопатку в землю, потом, насупив брови, повернулся к ней.
– Посмотреть? А на что, спрашивается, там смотреть? На кондитерскую? На небольшую фабрику с машинами для конфет и шоколада? А больше там и смотреть не на что.
– Так-то оно так, а мне все же хочется посмотреть.
Отец усмехнулся и, снова принявшись за работу, пробурчал:
– Понять не могу, на что ты там собираешься смотреть!
Мать не удивилась. «Он не может понять, – подумала она, – не может». И они, больше не разговаривая, дошли до конца грядки.
В полдень, когда сын пришел поесть, мать засыпала его вопросами. Ей хотелось все знать, даже то, чего он сам еще не видел. Жюльен отвечал коротко и часто повторял:
– Ты же понимаешь, ну что я мог увидеть за одно утро!
Он улыбался, но матери, старавшейся все прочесть по его глазам, показалось, что она заметила в них какую-то искорку, которую видела уже раньше, в те дни, когда он возвращался из школы. Она замолчала, сдержалась и не задавала больше вопросов. Да и Жюльен сейчас же после завтрака взял велосипед и уехал. Оставшись одни, старики молча допили кофе, потом отец налил в чашку немного водки.
– Он как будто не в восторге, как по-твоему? – спросил он.
– Что ты придумываешь? – отозвалась она. – Мне, наоборот, показалось, что он очень доволен.
– Может и так, только что-то по нему этого не видно.
Он остался при своем мнении, матери это было ясно.
– В конце концов он же сказал: «Что можно увидеть в таком большом деле за одно утро», – заметила она.
Отец встал из-за стола и вышел, ничего не ответив. Оставшись одна, мать принялась за работу: убрала со стола и вымыла посуду. Но какая-то новая мысль не давала ей сосредоточиться на том, что она делает. Убирая в шкаф тарелки, она чуть не уронила чашку, которая стояла с краю.
– Опять дает о себе знать ревматизм, – пробормотала она.
Как только мать подмела кухню, она сразу же поднялась в комнату Жюльена.
Это была небольшая комнатка в мансарде, со слуховым окном, выходившим на крышу. У окна – письменный стол; на стенах – несколько полок с книгами и картонными коробками. Над кроватью к стене приколот портрет Джо Луиса, на лице которого отражалась усталость. Мать неохотно глядела на портрет. «Этот человек внушает мне страх», – говорила она Жюльену.
Прежде всего она постелила постель, затем выдвинула ящик письменного стола, достала папку с рисунками и две школьные тетради, которые Жюльен вытащил при ней из чемодана. Она начала с папки и медленно, с большим вниманием принялась рассматривать карандашные и акварельные рисунки. Несколько пейзажей, изображавших берега Ду и старые кварталы Доля. Мать рылась в своей памяти и, когда узнавала улицу, мост или ворота, лицо ее светлело, глаза радостно сияли. Были в папке и портреты. Женские портреты, все более или менее похожие один на другой. И опять она постаралась что-то вспомнить, но в конце концов пробормотала:
– Похожа на киноактрису, которую я видела на афишах, и все-таки это не совсем то лицо.
Мать вглядывалась в это лицо, повторенное много раз, она приблизила рисунки к свету, падавшему из окна, затем положила обратно в папку.
– У этой женщины грустный вид, – пробормотала она. – Меня не удивило бы, узнай я, что она больна.
Затем она перелистала тетради. Там были стихи, сочиненные Жюльеном, и стихи, переписанные из книг. Мать прочитала несколько стихотворений. Она нашла, что те, которые принадлежат ее сыну, красивее и трогательнее, чем, скажем, стихи Бодлера, имя которого часто встречалось в тетради. Она села на край кровати, ее большие руки немного дрожали, когда она переворачивала страницы. Время от времени она переставала читать, прислушивалась, затаив дыхание, успокаивалась и снова принималась за чтение.
Она чувствовала себя виноватой, и все же ей казалось, что это чтение придает ей немного сил. Словно вернулось какое-то давно уже исчезнувшее приятное тепло, с каждой минутой все более ощутимое, все более живое. Закрыв тетрадь, она оставила ее у себя на коленях и долго еще сидела на краю кровати. Ни о чем определенном она не думала. Просто сидела тут, охваченная каким-то оцепенением от того, что исходило от этих рисунков и тетрадей и проникало ей в душу.
Наконец она встала, положила все на место, задвинула ящик и сошла вниз. В кухне она посмотрела на будильник. Был четвертый час. Уже много месяцев, а может быть даже и лет, мать не оставалась так долго без дела, руки ее вечно были чем-нибудь заняты. Однако она не стала упрекать себя. Она сняла домашние туфли, надела сабо, еще раз взглянула на будильник и несколько раз вполголоса повторила:
– Пойду сегодня. Сегодня же, в половине пятого.
11
Отец возился в конце сада у ямы с перегноем. Он работал медленно, но размеренно, только иногда останавливался, чтобы передохнуть и счистить небольшим скребком землю, прилипшую к лопате. Счистив землю, он вешал скребок на пояс, зацепляя его изогнутой железной ручкой за завязки фартука. Иногда он косился на дом, затем доставал из нагрудного кармана окурок, зажигал его и несколько раз затягивался, оглядывая сад. Мать, некоторое время наблюдавшая за ним из окна столовой сквозь задернутые занавески, увидела, что у него еще хватит работы. Она постояла в нерешительности перед часами… Тихо, только часы тикают да кровь стучит в висках. Четверть пятого. Мать глубоко вздохнула, затем вернулась на кухню. Надев башмаки, набросив на плечи черную шерстяную шаль, она быстро прошла в комнату Жюльена. Уже взявшись за ящик письменного стола, мать опять остановилась в нерешительности. Она почувствовала, что лицо ее заливает краска, рука дрожит, грудь сдавливает.
Несколько раз она прошептала: «Это смешно. Господи боже мой, ну можно ли быть такой глупой». Шум в голове не прекращался, в глазах темнело, и все же в конце концов она взяла одну тетрадь и несколько рисунков, аккуратно свернула их трубочкой и спрятала под шаль.
Убедившись, что отец по-прежнему занят своей работой, она поспешила на улицу. На каждом шагу ей чудилось, будто он кричит ей вслед: «Куда это ты торопишься?»
На улице она почувствовала себя спокойнее. Крепче прижала к груди шаль и свернутые в трубку рисунки и, сделав над собой усилие, пошла обычным шагом.
У школы болтали четыре женщины, ожидая окончания занятий. Она знала их только потому, что уже встречала здесь, и теперь кивнула им. Они были моложе ее и лучше одеты.
Большой школьный двор был пуст. Мать сделала несколько шагов и остановилась. У нее все еще сжималось сердце, но теперь уже по-иному. Она не думала ни об отце, ни о людях, которые могли остановить ее в саду или на улице. Из полуоткрытых окон классных комнат доносились голоса учителей. Но мать не прислушивалась. Для нее их голоса были все равно как шелест ветра в каштанах, с которых, кружась, падали листья. Мать чувствовала, что к глазам подступают слезы, и с трудом сдерживала их.
На минуту она остановилась у калитки. Вдруг она вздрогнула от страшного шума. Из дверей – сначала из одной, потом из другой – с громким криком вырвался поток школьников. Часть их пронеслась мимо нее на улицу, другие принялись бегать по двору. Теперь ей уже не хотелось плакать, она улыбалась.
Наконец во двор вышел незнакомый учитель и направился к ней. Мать сказала, что она к господину Грюа.
– Директор, должно быть, еще и классе, – ответил учитель. – Он часто задерживается с отстающими.
– Знаю, знаю, – сказала мать.
Учитель был очень молод. Мать заметила на его лице улыбку, когда он пояснил:
– Такой уж у него метод. Он предпочитает это наказаниям.
Мать не ответила. Они подошли к застекленной двери. Учитель заглянул в класс.
– Так и есть, – сказал он. – Вам придется немного подождать.
– Я подожду, благодарю вас.
Учитель начал прохаживаться по двору. Подойдя поближе к приоткрытой двери, мать увидела господина Грюа. Он сидел на стуле, между кафедрой и партами. Рядом с ним стоял мальчик; другой, сидя на корточках, переставлял на цветной доске какие-то маленькие белые предметы. Мать слышала голос господина Грюа, но из-за крика, доносившегося со двора, не могла разобрать, что именно он объясняет. Ей хотелось войти и сказать: «Не беспокойтесь, пожалуйста, я подожду и послушаю». Немного спустя мальчик, примостившийся на полу, встал, и его место занял другой. Господин Грюа продолжал объяснение, потом обнял мальчика, посадил его к себе на колено и погладил по голове своей большой рукой. У директора были седые всклокоченные волосы, рыжие, очень густые усы, почти совсем закрывавшие верхнюю губу. Вероятно, он продолжал бы объяснение и дальше, но тут он заметил мать. Он осторожно отодвинул мальчика и подошел к двери.
– Вы ко мне, мадам Дюбуа?
– Я вам не помешаю?
– Нет конечно, не помешаете. Я не спешу. Да мы и кончили. Ну, ребятки, уберите все это и бегите домой.
Голос у директора был низкий, и временами из горла вырывалось какое-то клокотание. Он был очень высокого роста, и, хотя слегка горбился, мать смотрела на него снизу вверх. Когда мальчики вышли, он предложил ей свой стул, а сам уселся на парту, втиснувшись между спинкой и пюпитром, повернувшись боком и вытянув длинные ноги поперек прохода; руки его заняли почти всю крышку пюпитра.
Мать молча смотрела на него. Теперь ей уже не хотелось говорить. Ей было как-то неловко сидеть вот так, на стуле, выдвинутом на середину пустого класса. И все же она чувствовала какую-то приятную слабость в ногах, крепко прижатых одна к другой под длинной серой юбкой. Директор достал из кармана кисет с табаком и книжечку папиросной бумаги. Он не спеша свертывал сигарету, а мать смотрела на его большие руки с пожелтевшими пальцами; затянувшись разок-другой, он спросил:
– Итак, вы ко мне, мадам Дюбуа?
Мать вынула из-под шали руку и показала ему свернутые трубочкой листы.
– Может быть, я напрасно надоедаю вам, господин Грюа, – сказала она, – но мне больше не с кем посоветоваться.
Директор покачал головой.
– Когда со мной говорят о моих учениках, мне надоесть не могут.
Мать улыбнулась: он догадался. Теперь все просто. Она встала, чтобы передать ему рисунки.
– В прошлом году вы уже рассказывали мне о Жюльене, как он поживает?
– Он дома. Его обучение закончилось.
– Вот это хорошо. Вы боялись, что он не дотянет до конца.
Мать постояла в нерешительности, потом снова села и вздохнула.
– Я и боялась, и нет, – сказала она. – В сущности, если бы он уже в прошлом году был здесь, он мог бы вернуться в школу.
Она умолкла. Ее слова повисли в воздухе. Директор ничего не ответил. Казалось, он с интересом следит, как от сквозняка из полуоткрытой двери расплывается дым его сигареты.
– Вы мне тогда говорили, что он быстро догнал бы класс, – робко сказала мать.
Учитель покусал усы и только потом ответил:
– Конечно, но за два класса, знаете ли, догнать не так-то легко.
Минутку они молча смотрели друг на друга, потом учитель спросил:
– Вы думаете, он хотел бы продолжать занятия в школе?
– Ах нет, я не знаю, он мне ничего не говорил. Но прибирая в его комнате, я нашла вот это. И принесла вам. Я бы хотела, чтобы вы посмотрели и сказали, нельзя ли… нет ли возможности… я не знаю, в общем нельзя ли что-нибудь сделать…
Она замолчала. Она говорила быстро, словно боясь, что не успеет все сказать. И вдруг почувствовала, что не представляет себе ясно, о чем хотела просить. И снова внутри у нее что-то сжалось, все вокруг заволокло туманом, даже лицо директора, склонившегося над рисунками. Когда он заговорил, матери показалось, что голос его доходит до нее откуда-то издалека, словно приглушенный завесой серого дыма, разделявшей их. А ведь она пришла посоветоваться с ним, ей нельзя пропустить ни одного слова. И она слушала, затаив дыхание, боясь пошевелиться, отодвинувшись от спинки стула, слегка наклонившись вперед и положив руки на колени.
Грюа улыбался, рассматривая рисунки Жюльена.
– Понимаете, когда я вижу такие вот рисунки, я просто диву даюсь. Сам я не способен ничего нарисовать. Если попробую нарисовать лошадь, она выйдет похожей на картофелину, а если вздумаю изобразить картофелину, получится все, что угодно, только не картофелина.
Когда он смеялся, его густые усы вздрагивали и приподымались, открывая зубы, пожелтевшие от табака. Мать также засмеялась.
– А как же вы учите их рисованию?
– Что вы, я не учу! Где мне! Скорее они меня научат. Нет, я просто ставлю на стол вазу или кофейную мельницу и говорю, чтобы они срисовывали. Думаю, что рисованию научить нельзя. Вот возьмем хотя бы вашего Жюльена, насколько я помню, он всегда шел первым по рисованию, а я отлично знаю, что никто, ни в школе, ни дома, не учил его рисованию.
Мать не знала, что сказать. Директор поглядел на нее.
– Он вам никогда не говорил, как я ставлю отметки за рисование? – спросил он.
– Что-то не помню.
– Так вот, понимаете – у нас демократия. Я показываю рисунки, и мы их обсуждаем всем классом. Отметку определяют ученики. Я считаю, что это гораздо справедливее, и так по крайней мере моя совесть чиста.
Он все еще с улыбкой восхищения рассматривал рисунки Жюльена.
– Конечно, если бы Жюльен не бросил учиться, – сказал наконец директор, – он мог бы поступить в школу живописи, но, с другой стороны, знаете, виды на будущее там не очень-то блестящие. Нет, я не против физического труда. И думаю, если у молодого человека есть в руках ремесло и он любит свое дело, то это нисколько не хуже, чем свободная профессия.
Мать почувствовала, что язык у нее прилипает к гортани и она не может сказать то, что хотела. Директор все еще любовался рисунками, складывая один на другой. Она подождала, пока он кончил их рассматривать.
– Я не знаю, но мне кажется, он не очень любит свою специальность, – прошептала она.
Директор почесал в затылке, погладил усы и наконец заметил:
– Во всяком случае ему вряд ли понадобилось бы два года, чтобы понять это… Почему вы так думаете? Он говорил вам?
Мать пожала плечами, подняла было руки и опять уронила их на колени.
– Иногда незачем говорить… Мать, знаете, часто догадывается, ей объяснять не нужно.
– Понимаю, понимаю, но, знаете, иногда кажется, что догадываешься, а выходит, что ошибся.
Она покачала головой и выдавила улыбку, говорившую: «Я не ошиблась. Я Жюльена знаю. Может, я лучше, чем он, понимаю, что у него на душе».
Они помолчали; со двора доносились крики школьников и голос молодого учителя, хлопавшего в ладоши.
– Пора на уроки, – сказал господин Грюа.
Мать встала.
– У нас есть еще минутка времени, – сказал он. – В этом классе занятия не ведутся…
– Я не хочу вам надоедать.
– Вы мне не надоедаете, я вам уже сказал. Напротив, я с удовольствием слушаю, когда вы рассказываете о Жюльене. Но только, что я могу вам сказать? Вы ставите меня в затруднительное положение. Ученик он был не плохой, это верно, но и исключительно одаренным его не назовешь. Не во всем он был силен.
– Я знаю, хотя бы в арифметике.
– А это очень важный предмет.
Казалось, он раздумывает, потом он вдруг спросил:
– Жюльен мог бы в один из ближайших дней зайти поговорить со мной?
– Конечно, конечно, он придет.
Она все еще стояла. Грюа оперся обеими руками о пюпитр, чтобы вытащить свое тело, втиснутое в слишком тесное пространство, и тоже встал. Он подошел к матери, и тогда она показала ему на тетрадь, которую он так и не раскрыл.
– Эту тетрадь я тоже вам принесла.
Он раскрыл тетрадь.
– А, так он и стихи пишет. В сущности, это меня не удивляет.
Из вестибюля доносилось топотание учеников и громкий голос молодого учителя, призывавшего к порядку.
Грюа закрыл тетрадь и сунул ее под мышку.
– Я посмотрю, – сказал он. – Во всяком случае, хоть орфографические ошибки исправлю.
Мать, направившаяся к двери, остановилась и призналась, что взяла тетрадь без спроса. Господин Грюа громко рассмеялся и успокоил ее.
– Завтра, в час дня, по дороге в школу верну вам тетрадь. Не бойтесь, ничего исправлять не буду.
Мать почувствовала, что он пожал ей руку, она сделала несколько шагов по опустевшему двору и услышала, как за ней захлопнулась дверь. В другом классе зажгли лампы. Еще не стемнело, но солнце уже скрылось за холмом. В глубине двора сгущались сумерки, ветер усилился, и листья вихрем кружились в воздухе.
Матери вдруг почудилось, будто вокруг все мертво, все застыло. Проходя мимо окон, она посмотрела на головы учеников, склонившиеся над партами; она туже стянула на груди концы шали и быстрым шагом направилась к дому.







