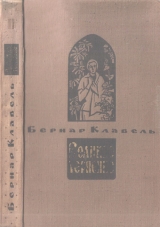
Текст книги "Тот, кто хотел увидеть море"
Автор книги: Бернар Клавель
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 19 страниц)
Часть третья
34
Когда мать вернулась домой, солнце еще не вышло из-за гор, но лучи его уже озаряли небо. В садах серые предрассветные тона растворились в ярких красках.
Мать опустилась на стул. Она уже не плакала; она совсем обессилела. В кухне все было в беспорядке, но она не представляла себе, что может взяться за работу. На одном конце стола стояли чашки, хлеб, масло, повсюду были крошки. На другом конце – таз и все для перевязки раны. И сейчас у нее перед глазами была черная запекшаяся кровь вокруг гноя, от которого ей так и не удалось полностью очистить рану. Тогда она перевязывала, в сущности не вникая в то, что делает. А теперь, только теперь почувствовала, как к горлу подступает тошнота.
Мать просидела, ни за что не принимаясь, до прихода отца. Когда он вошел, она встала и спросила:
– Ну как?
– Идут и идут.
– Вот горе-то!
Она принялась убирать со стола. Отец остался стоять на пороге. Для него это было непривычно. Когда мать взглянула на него, он негромко спросил:
– Что теперь будем делать?
– Почем я знаю!
Она вытирала стол, как вдруг услышала машину, гудевшую гораздо ближе к ним, чем другие. Она прислушалась.
– Что там такое? – спросил отец.
– Верно, какой-то грузовик перед нашим домом разворачивается.
– Ты думаешь? Пойду посмотрю.
Отец вышел. Она кончила вытирать стол, смахнула крошки в чугунок, в котором готовила еду кроликам, и вышла на балкон.
У самого их сада слышались громкие мужские голоса, звон лопат. С балкона ей ничего не было видно, она сошла вниз. Отец стоял около настежь открытой калитки и, сильно жестикулируя, спорил с солдатами.
Мать поспешила к ним. Они говорили все сразу и очень громко. Когда она подошла, солдаты замолчали, отец обернулся к ней.
– Ты понимаешь, – крикнул он. – Хотят срубить сирень, вырыть яму и поставить в саду пулемет!
– У нас приказ есть, – сказал военный, у которого были такие же нашивки на рукаве и кепи, как у Бутийона.
– Мне на ваш приказ начхать! – кричал отец. – Ройте в другом месте, а к нам не суйтесь!
– Мне сказали рыть здесь, потому что тут перекресток; здесь и буду; скажут в другом месте…
Отец перебил его:
– А я сказал вам: ройте в другом месте. Не все ли равно где: на улице или чуть подальше.
– На улице нельзя, здесь сподручнее, земля мягкая.
Сержант повернулся к трем солдатам:
– Ну, чего стали, пошевеливайтесь!
Солдаты, прислонившие кирки и лопаты к каменному бордюру, не успели взять их в руки, как отец, упредив их, схватил кирку, поднял ее над головой и завопил:
– Только суньтесь, черт вас возьми!.. Что же это такое, теперь, выходит, надо свое добро от французских солдат защищать!
Мать подошла ближе.
– Гастон, – крикнула она, – ты с ума сошел!
Отец не сдвинулся с места, и тогда она повернулась к солдатам, отступившим на шаг:
– Ну, какой теперь в этом толк? – сказала она.
Сержант, казалось, смутился; это был юноша лет двадцати, высокий, худой, с узким лицом. Он посмотрел на солдат. Один из них, тоже худой, но пониже ростом, устало махнул рукой:
– Ну что ты хочешь, не драться же с ними? Что тут, что там, все одно!
Отец уже не потрясал киркой, но все же не выпускал ее из дрожащих рук. Мать заметила, что он очень бледен. Грудь его быстро-быстро вздымалась. Он громко дышал. Она открыла было рот, но тут прибежал Пиола. Он уже стоял у калитки, когда мадемуазель Марта тоже вышла из дому и перешла через улицу.
– Что тут такое? – спросил Пиола.
Все наперебой начали объяснять. Не дослушав до конца, Пиола сказал сержанту:
– Пулемет сюда? Да вы с ума сошли. Кого вы вашей трещоткой остановите? Самолеты и танки? Да из-за вас весь квартал с земли сотрут.
– Верно, – подтвердила мать.
– Верно, – подтвердила и мадемуазель Марта.
– Только всех нас зазря перебьют, – заметил отец.
– Врага не по выходе из города, а при въезде в него останавливают, – сказал Пиола. – Надо ваш пулемет на Безансонской дороге поставить.
– Там другие стоят, – объяснил сержант. – А здесь мы по ним с фланга бить будем.
Пиола засмеялся несколько деланным смехом, вслед за ним засмеялся отец и обе женщины. Госпожа Пиола, почти не выходившая из-за больных ног, открыла окно.
– Что случилось? Что случилось? – крикнула она.
– Ничего, – сказал муж, – иди ложись.
– Иди домой, – позвала она.
– Да, да, иду.
Она закрыла окно. Помолчав немного, Пиола снова начал:
– Надо было ставить пулемет не здесь, а в Страсбурге или на бельгийской границе. Здесь уже поздно.
– Чем больше их злить, тем больше они ожесточатся, – заметил отец.
Сержант как будто заколебался, потом повернулся к солдатам и выругался:
– Э… в конце концов черт с вами, остановят в Марселе. Мне эта война в печенку въелась. Куда ни придешь, всюду тебя трусом обзывают, а хочешь драться, так на тебя же орут.
– Надо было на Марне драться! – не унимался Пиола.
Солдаты уже забрали шанцевый инструмент и двинулись к машине. Сержант, шедший последним, круто повернулся. Его подбитые гвоздями башмаки с резким звуком чиркнули по бетону.
– Вы что, воевали в четырнадцатом году? – спросил он с злым видом. – Бьюсь об заклад, что так.
– Воевал.
– Так вот, на Марне саперы минировали мост, а ветераны той войны обезвредили мины. Ну, что вы на это скажете?
Пиола как будто смутился, но тут вступилась мадемуазель Марта:
– Что было на Марне, нам плевать, но мы не хотим, чтобы весь квартал разбомбили.
Мотор уже заработал. Сержант стоял у изгороди и направлял машину. Шофер приоткрыл дверцу и крикнул:
– Не беспокойтесь, фрицы все равно до ваших погребов доберутся, даже если и не разбомбят их. Только больше вина им достанется.
Пиола побежал домой. Грузовик дал задний ход. Когда Пиола прибежал обратно, сержант уже сидел рядом с водителем и машина вот-вот должна была тронуться.
– Нате, держите! – крикнул Пиола, принесший два литра красного вина. – По крайней мере хоть это им не достанется.
Он подал одну бутылку шоферу, другую солдатам, сидевшим, свесив ноги, в кузове; они, смеясь, поблагодарили.
Грузовик медленно тронулся.
– Знаете, может быть, вы спасли нам жизнь, – крикнул один из солдат, когда они уже немного отъехали. – Во всяком случае на какое-то время.
Другой солдат взмахнул бутылкой и, как горнист, протрубил в нее:
– Сейчас промочим горло! Промочим горло!
Шум мотора заглушил их смех. Мать видела, как они по очереди прикладывались к бутылке.
Грузовик задержался на углу, ожидая, когда сможет влиться в общий поток. Наконец шофер улучил удобный момент, и солдаты на прощание махнули своими кепи.
35
Мать уже не плакала. Ей уже не хотелось плакать. Как только соседи ушли, она вернулась на кухню. Отец пошел вместе с ней. Молча поднялись они по лестнице и сели за стол, как будто собрались есть. И так они просидели долго, только время от времени с немым вопросом глядели друг на друга, отвечали вздохом на вздох.
Отец заговорил первым.
– Не придумаю, что теперь будем делать, – снова сказал он.
– А что нам теперь делать!..
Наступило молчание. Шум, доносившийся с улицы, стал уже неотъемлемой частью этого молчания; как тиканье часов, как дробь капель, падающих из водосточной трубы, когда дождь зарядит надолго.
– Остается только ждать, – вздохнула мать.
Она посмотрела на мужа, лицо его показалось ей бесконечно усталым. Помолчав, она чуть слышно прибавила:
– Ждать, когда он вернется.
– Я все думаю, все думаю, правильно ли мы поступили, – сказал отец.
Последние слова застряли у него в горле. Он не подымал глаз, губы его дрожали, подбородок с ямочкой жалко морщился. Когда он снова заговорил, мать поняла, что он сдерживается, чтобы не заплакать. Он несколько раз сильно ударил ладонью по столу, должно быть, ему хотелось совладать со своим горем, заглушив его раздражением.
– Черт, – выругался он. – Никогда не знаешь, что лучше. Думаешь, невесть как умен. В наши годы воображаешь, будто ты опытней всех, а на самом деле ничего подобного: случится что-нибудь… что-нибудь неожиданное, и все.
Он остановился, левая рука сама потянулась к груди, совсем как во время еды, когда он придерживал этой рукой нагрудник фартука. Но сейчас это было не то, казалось, рука невольно нащупывает больную точку.
Мать боялась неверно истолковать его жест.
– Что с тобой? – спросила она. – Тебе нехорошо?
Отец посмотрел на нее. Лицо его стало суровее, глаза подозрительно блестели. Он усмехнулся.
– С чего ты взяла? – сказал он, вставая. – А тебе хорошо? Ты себя, правда, хорошо чувствуешь? Ну что ж, твое счастье.
Последние его слова она едва расслышала, он их произнес почти шепотом, опуская за собой штору.
– Гастон! – крикнула она ему вслед.
Она слушала, как он сходит с лестницы. Как шлепают по ступенькам парусиновые туфли, как звякает по чугунным перилам обручальное кольцо.
– Боже мой, боже мой, – вздохнула она. – Какая мука!
Она с трудом поднялась. До сих пор она не чувствовала усталости. Но теперь, просидев столько времени, она с большим усилием поднялась со стула. Болела не только грыжа, не только руки и ноги ныли от ревматизма, нет, ныло все тело, какое-то недомогание проникло в ее плоть и кровь, во все косточки, во все жилки, ощущалось при каждом движении. Мать страдальчески сморщилась, оперлась на стол, дошла до крыльца. Свесившись через перила, она увидела за деревьями силуэт медленно удалявшегося отца. Она спустилась в сад, дошла до средней дорожки и там остановилась.
Отец стоял уже у калитки. Он был такой щуплый, так весь сгорбился, казалось, его серая каскетка лежит прямо на узких плечах.
Когда он скрылся из виду, мать еще некоторое время не спускала глаз с калитки. Что-то притягивало ее туда, и все же она направилась в глубь сада. Около сарая она свернула налево по маленькой дорожке, которая шла вдоль школьной ограды и выходила прямо на бульвар.
Она постояла на тротуаре. Здесь машины шли не таким густым потоком, как на Солеварной улице, и все же не скорее, чем там, из-за пробки, которая все время образовывалась у заставы Монморо, где скрещиваются дороги. Между машинами и мотоциклами протискивались велосипедисты. У матери, когда она глядела на них, уже не щемило сердце. Внутри у нее все словно очерствело. Она чувствовала себя оторванной от этих людей и от их страданий, одинокой, живущей как бы в другом мире.
Она поднялась по деревянной до блеска натертой лестнице на второй этаж и позвонила. Ей открыл дверь Робен. Они поздоровались.
– Я вам помешала, – извинилась она. – Мне так хотелось узнать, что передают по радио.
– Вы мне нисколько не мешаете, но, к сожалению, ничего особенного не передавали. Да к тому же те новости, что сообщают по радио, малоутешительны.
– Кто-то говорил, что боши уже в Полиньи.
– Нет, – сказал Робен, – не думаю, что они уже так близко.
Они замолчали. Мать разглядывала современную очень чистую кухню Робенов. Господин Робен подошел к радиоприемнику, повертел ручки. Вскоре послышалась музыка, потом отдаленный голос, говоривший не по-французски, потом опять музыка и потрескивание. Робен выключил радио.
– Вот видите, ни по швейцарской, ни по французским станциям никаких сообщений сейчас не передают, – сказал он. – Садитесь, потом я опять попробую.
Мать села и рассказала, как уехал Жюльен.
– Я думаю, вы поступили правильно, – сказал Робен. – Не жалейте, я думаю, вы приняли правильное решение.
Они посидели несколько минут молча, потом Робен опять заговорил. Мать не слушала. Она знала только, что он рассказывает о жене и ребенке. Он был счастлив, что ему удалось отправить их в деревню. Время от времени она только кивала головой и что-то одобрительно бормотала.
Иногда от проезжавших мимо грузовиков дрожал дом и дребезжали стекла в окнах. Голос Робена сливался с этими звуками. Мать чувствовала, что все вокруг становится каким-то зыбким.
Робен замолчал. Мать напрягла слух и услышала, как он сказал:
– Верно, вы очень устали.
– Да, – призналась она. – Пойду домой.
– Вы бы прилегли, если передадут что-нибудь важное, я вам сейчас же скажу.
– Да-да, вы очень любезны… Спасибо, большое спасибо.
Она вышла и, уже стоя на площадке, обернулась и спросила:
– Может, вы покушаете с нами в полдень, ведь вы же один.
– Что вы, что вы, я не хочу вас беспокоить.
– Нет-нет, приходите… Вы… вы нас нисколько не побеспокоите.
Робен хотел что-то сказать. Мать опередила его.
– Приходите, – сказала она, – мы так одиноки теперь, когда остались вдвоем. Нам будет легче.
Он улыбнулся:
– Ну, если так, спасибо, скоро увидимся.
Мать сошла с лестницы, на этот раз она не остановилась поглядеть на машины, которые запрудили бульвар. Она повернула за угол и быстро дошла до сада.
Она чувствовала все ту же усталость, но идти ей все-таки было легче.
Отца она застала у крольчатника, он кормил кроликов.
– Что случилось? – спросил он. – Ты откуда?
– От господина Робена. Но случиться ничего не случилось. Радио молчит.
– Ах, вот что! Мне показалось, что ты торопишься.
Она удивленно пожала плечами.
– Нет, я не тороплюсь, – сказала она. – Но я пойду приготовлю поесть. Господин Робен один, вот я…
Она посмотрела на отца, он запускал руку в мешок и пригоршнями бросал кроликам траву. Кролики старались выглянуть, тыкались мордочками в решетку и принюхивались. Когда отец закрывал дверку, они отходили, опустив уши, полузакрыв глаза.
– В чем дело? – спросил отец. – Ты начала про господина Робена…
– Да, дело в том, что он остался один, вот я и позвала его к нам завтракать.
– А-а!
Отец как будто удивился. Не выпуская мешка из рук, он выпрямился и посмотрел на мать. Казалось, он раздумывает. Его лицо, вначале суровое, постепенно смягчилось.
– Ей-богу, ты хорошо придумала, может, время пройдет скорее. – Он нагнулся, открыл дверцу в другой крольчатник, и мать услышала, как он бормочет: – Господи, ничего-то, ничего мы не знаем!
36
Господин Робен пришел задолго до двенадцати. Все было готово, и они тут же сели за стол, чтобы потом, не теряя времени, послушать последние сообщения.
– Я поставил на холод бутылку вина, – сказал Робен, – разопьем ее, это нас подбодрит, и боши не попользуются.
Отец усмехнулся.
– Мы точно сговорились, – сказал он. – Я тоже достал из погреба бутылку.
– Значит, напьемся пьяными, – пошутил Робен.
– Это в первый раз мы пьем за завтраком старое вино, – заметила мать.
– Эх, кабы знать, что мое вино выпьют немцы, я бы его на навозную кучу вылил.
– Вы, конечно, лучше меня это помните, но мне кажется, в четырнадцатом году на севере и на востоке люди так и делали, – сказал Робен.
– Да, а когда боши дознались, кто это сделал, они их прикончили.
– Этого я не слышал, – сказал Робен. – А вот мой отец жил у людей, которые вылили на землю вино из своих бочек и разбили бутылки, все до одной, а немцы до них так и не дошли.
Все трое посмеялись.
– Значит, надо пойти на риск, – сказал отец. – Выпить, сколько можешь, и сохранить, что останется, так будет умнее.
За столом мужчины много разговаривали. То и дело слышался нервный громкий смех, но смех этот всякий раз обрывался.
Затем наступало долгое, тягостное молчание.
Тикал будильник, мухи жужжали вокруг висячей лампы; оса билась об оконное стекло, устремлялась оттуда к опущенной на двери шторе и снова летела к окну.
В этот раз супруги Дюбуа узнали многое о Робене, а он наслушался рассказов о войне четырнадцатого года.
Отец рассказывал одну историю за другой, и мать не проявляла ни усталости, ни раздражения.
Та война, уже больше двадцати лет как похороненная, вставала теперь из гроба и вытесняла нынешнюю, с ее мучениями и горем, ту, что была тут, на улице. Миллионы убитых в ту войну вспоминались с каким-то благодушием. Без радости и без грусти и, уж во всяком случае, без ужаса. Славные были ребята, еще не окончательно позабытые, но ни у кого не вызывавшие уже желания проливать слезы. Охотнее всего о них говорили, как о бравых солдатах, которые, до того как были убиты, здорово пили, здорово смеялись, здорово волочились за трактирщицами и за хозяйками ферм, где стояли на отдыхе.
Вино, которое отец наливал в стаканы, было почти того же возраста, что и эти покойники. Может быть, оно дало уже маленький осадок, но мать, не привыкшая пить такое вино, чувствовала, как по всему телу разливается приятное тепло, от которого немного умерялось ее горе.
Она почти не говорила. Ей не хотелось вставать из-за стола. Все вокруг опять было словно в тумане, как и утром, когда она сидела у Робена, но теперь сквозь эту муть просачивался мягкий свет, приятный для глаз.
Когда Робен сказал, что пора идти слушать радио, мать встала.
– Нельзя же оставить все так на столе, – сказала она.
– Даже если немцы придут, они с вас за это не взыщут, – заметил Робен.
Они вышли, и мать заперла дверь на ключ.
У Робенов старики Дюбуа сели в кресла перед полированным столиком. Все вокруг сияло чистотой. На столике стояла ваза с фруктами. Комната была светлая. Матери нравился тон обоев. Робен пошел на кухню, чтобы включить радио и откупорить бутылку шампанского, которую вынул из комнатного ледника.
– Комнатный ледник – это очень удобно, – сказала мать.
– Да, очень удобно.
– У нас колонка, и вода там очень холодная.
Робен рассмеялся:
– Завтра, если захочу охладить вино, пойду к вам.
– А почему?
– Потому что ледник – это, конечно, удобно, но надо еще, чтобы был лед. А сегодня мне не доставили льда, боюсь, что и завтра не доставят. Тогда прощай мой ледник.
Мать уже год или два не пила шампанского. Сейчас оно ей очень понравилось. Она выпила два бокала.
Они перестали говорить, слушая диктора, читавшего сводку, но никаких интересных сообщений не было, и Робен выключил приемник.
– Не стоит и слушать, – сказал он. – Такой неразберихи никогда еще не было, никто ничего не знает.
Мать не слушала, она удобно сидела в кресле, вытянув ноги под столик, в котором отражалось окно. Все вокруг еще больше затянуло туманной дымкой. Но туман этот мягко светился, и сквозь него проступало улыбающееся, радостное лицо Жюльена.
37
Мать боялась, что задремлет в кресле у Робенов, а отец любил днем соснуть, поэтому они вернулись домой.
Было душно. Гул идущих машин не прекращался. Даже в сад долетали порою пыль и запах бензина. Самолеты двумя волнами прошли очень низко над городом, но какие они – немецкие или французские – разобрать было невозможно.
Отец ушел в спальню, а мать поставила под грушей шезлонг. Должно быть, пока их не было дома, приходила мадемуазель Марта, потому что на скамейке лежал номер «Иллюстрасьон». Мать открыла журнал. Попробовала читать, но буквы прыгали перед глазами, и вскоре журнал выпал у нее из рук. Некоторое время она боролась со сном, потом отяжелевшая голова откинулась на парусиновую спинку шезлонга.
Когда она открыла глаза, у нее было такое ощущение, будто две огромные руки сжимают ей череп. Она приподнялась.
– Проснулись? Вы, верно, очень устали.
На скамейке сидела мадемуазель Марта со своим вечным вязаньем.
– Я, верно, минутку вздремнула, – пробормотала мать.
Мадемуазель Марта рассмеялась.
– Минутку? Я уже больше часа здесь сижу, а вы за все время даже не пошевельнулись. Только два раза говорили во сне.
– Больше часа? Не может быть?
– Должно быть, прошлой ночью плохо спали.
– Так-то оно так, но… почему вы меня не разбудили?
– Почему не разбудила? А зачем?
Мадемуазель Марта вздохнула. Мать с трудом поднялась с шезлонга. И тут же со стоном схватилась за поясницу.
– Пока сидишь – хорошо, а вот встать с него совсем другое дело.
Мадемуазель Марта улыбнулась, поглядев на мать, и той показалось, будто улыбается она неспроста.
– Что я говорила во сне? – спросила мать.
– Не знаю, нельзя было разобрать.
– Который час?
Мадемуазель Марта посмотрела на золотые часики, которые носила на цепочке вокруг шеи.
– Скоро четыре.
– Боже мой, муж не встал?
– Нет, не слышала.
Матери показалось, что земля уходит у нее из-под ног. Дом шатался, небо вертелось, но только одно мгновение, потом все опять стало на место. Она с опаской дошла до лестницы, взялась за перила. Она не оглядывалась, но и без того знала, что мадемуазель Марта не спускает с нее глаз.
– Боже мой… Боже мой… – повторяла она, подымаясь на кухню.
По-прежнему она видела все, как сквозь туман. Она протерла глаза. Слюна во рту тягучая, шершавый язык прилип к нёбу. Ощущение такое, словно она наглоталась пыли. Туман застит ей свет, и никак она его не прогонит, и вдруг дымка будто разорвалась.
– Господи боже, – пробормотала мать, – господи боже, мы выпили все вино!
Со стола еще не убрано. Пустая бутылка стоит на месте рядом с почти полным кувшином воды.
Перед глазами матери встает и та бутылка шампанского, которую они распили у Робена.
Все встает перед ее глазами, и головная боль усиливается. Но это уже не та боль. Совсем не та. Теперь боль какая-то сверлящая, и не только в голове, но и в сердце.
Она подошла к раковине, налила в таз холодной воды. Не спеша смачивает она мокрой перчаткой виски и затылок, выжимает воду на потный лоб, на щеки.
Когда она разогнулась, по груди и по спине у нее стекали капли. Она вытерлась, повесила полотенце, затем залпом выпила два стакана воды.
В голове у нее прояснилось. Она тяжело вздохнула. Теперь, когда все прояснилось, ей стало страшно.
– Мы пили вино. И смеялись. И я спала как убитая.
Она замолчала. Попробовала внушить себе, что ничего не случилось, но, помимо ее воли, с губ сорвалось имя сына:
– Жюльен!
Она выпила еще воды.
– Да-да, прилетали самолеты!.. И, кажется, слышны были взрывы, где-то очень далеко, точно откуда-то из Бреса.
Она быстро вышла в сад. Мадемуазель Марта, прямая как палка, сидела на скамье и вязала.
– Скажите, – обратилась к ней мать, – вы не слышали взрывов – оттуда, со стороны равнины?
Мадемуазель Марта повернула к матери свое вытянутое лицо.
– Был налет, – сказала она. – Должно быть, они бомбили где-то в стороне Бурка. – Мадемуазель Марта глубоко вздохнула и, снова взявшись за вязанье, прибавила: – И когда только кончится эта мука!
Мать ее уже не слушала. Не сказав ни слова, вернулась она на кухню. Ноги отказывались служить. Она села на стул. Руки дрожали.
– Боже мой, – повторяла она, – я пила вино и смеялась… и спала, а мой мальчик на дороге… Был налет… сбрасывали бомбы… Может быть, есть раненые, убитые… Господи боже, за что ты меня наказываешь?
Она словно окаменела. Сидела, уставившись на пустую бутылку.
– И подумать, ведь я не пью вина… и смеюсь редко… Господи, верни мне его… Верни, молю тебя… господи. Ведь это я, я настояла, чтобы он уехал…
Она замолчала. Ей показалось, что наверху скрипнула половица. Она прислушалась. Отец встал. Ходит, пошел к окну. Вот стукнули ставни, крючок ударился о стену. Сейчас отец сойдет вниз.
Мать сразу выпрямилась. Сложила на груди руки. Ей сдавило горло, она с трудом шепчет слова.
– Господи, я не хожу в церковь… мне вечно некогда… но не в этом дело… я знаю, что это не такой уж тяжкий грех… Но, – она остановилась: скрипят ступени, – верни мне моего мальчика. И я обещаю не пить больше ни капли вина… не… не… – она придумывала, какой еще обет дать господу богу, от чего еще отказаться, но не могла ничего придумать, – я обещаю не делать ничего ради своего удовольствия… Обещаю тебе…
Дверь с лестницы открылась. Отец вошел, смотрит на нее.
– Ну что? – спросил он.
– Знаешь, я уснула в шезлонге, – сказала она.
– Слышала какие-нибудь новости?
Она колебалась.
– Нет, – сказала она наконец, – ничего не слышала.
Отец пошел к раковине и тоже умылся.
– Шампанское у господина Робена отличное, – сказал он. – Но у меня после шипучих вин всегда голова трещит.
– Хочешь таблетку?
– Да, неплохо бы.
Мать достала таблетку. Потом начала убирать со стола. Она взяла пустую бутылку и вышла на крыльцо.
– Оставь, – сказал отец. – Я отнесу.
– Ладно, раз уж я взяла.
Она быстро спустилась, поставила бутылку у порога погреба и поспешила к мадемуазель Марте. Нагнувшись к ней и все время поглядывая на дверь в кухню, она зашептала:
– Послушайте, если муж будет спрашивать, что делается, не рассказывайте про бомбежку… Не стоит, он и так уже нервничает.
Старая дева кивнула, не отрываясь от вязанья.
Мать вернулась на кухню. Отец растворил таблетку в полстакане воды с сахаром. Она поглядела на него, потом докончила убирать со стола. Отец выпил воду, налил в стакан еще немного и, запрокинув голову, разом проглотил; затем встал, чтобы вымыть стакан.
– И подумать только, ведь сегодня воскресенье! – вздохнул он.







