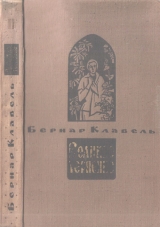
Текст книги "Тот, кто хотел увидеть море"
Автор книги: Бернар Клавель
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 19 страниц)
51
О том, что произошло на площади Лекурба, разговор больше не поднимался, но гнев отца долго не остывал. Он ходил хмурый, неохотно отвечал на вопросы матери, которая в конце концов решила, что он сильно все преувеличил.
Господин Робен и мадемуазель Марта приходили и рассказывали новости, старики Дюбуа слушали, покачивая головой, время от времени равнодушно вставляли «да, да». Так они узнали, что Францию разделят на четыре зоны.
– Очень, должно быть, это затруднительно, – сказала мать.
– Мы будем в свободной зоне, – пояснил Робен. – Ближе всего к нам демаркационная линия пройдет по реке Лу.
– Значит, нам нельзя будет поехать, ну, хотя бы в Доль?
– Нельзя. А впрочем, не знаю. Это будет, пожалуй, вроде как граница. По ту сторону – Эльзас и Лотарингия, аннексированная территория. Другие департаменты войдут в запретную зону, а все остальные составят оккупированную.
Отец что-то проворчал. Мать долго качала головой. Она чувствовала себя придавленной. Не умела разобраться в том, что делается.
– А если, скажем, мой Жюльен был бы сейчас в той зоне?..
Она замолчала. Отец насупил брови.
– Как же он может очутиться на севере, когда все уезжали на юг? – спросил Робен.
– Вы правы, вы правы, – сказала она, – с моей стороны, просто смешно…
Но ее неотвязно преследовала мысль, что Жюльена могли увезти немцы.
Два дня подряд через город шли войска, направлявшиеся в зону, которую им предстояло оккупировать. Отец часами простаивал на перекрестке или у крытого прохода, ведущего на Солеварную улицу, и смотрел на грузовые и легковые машины. Мать не решалась пойти вместе с ним. Она воздерживалась от вопросов. Все же она несколько раз спросила, видел ли он пленных.
Отец неизменно отвечал одно и то же:
– Нет, ничего не видел.
После того как прошли войска, начали возвращаться беженцы. В первый день отец раз двадцать ходил на перекресток. Оставался он там недолго, но в саду то и дело отрывался от работы, шел к калитке и выглядывал на улицу. Мать все время прислушивалась. Она принуждала себя заниматься хозяйством, но она так напрягала слух, ловя каждый звук с улицы, что в конце концов у нее разбаливалась голова.
Все возвращавшиеся были голодны, и те, что жили в их квартале, приходили за овощами. Мать расспрашивала, где они были и не видели ли ее сына. Ответ почти всегда был один и тот же:
– Ах, мадам, это в такой-то сутолоке!
– Он уехал в воскресенье утром, чуть свет.
Они ничего не могли сказать. Они ничего не видели. В памяти осталась только толчея, бесконечные, запруженные людьми дороги. Некоторые попали под бомбежку, а у одной покупательницы был даже тяжело ранен отец.
– Из пулемета, в бедро. Он сейчас в госпитале, в Валансе. И как только он жив остался! Столько крови потерял!
Обычно отец избегал покупательниц. Он терпеть не мог этих кумушек, которые, казалось, только и знают, что чесать языком. Теперь же, если он был в саду, когда появлялась покупательница, он подходил, приподымал каскетку или шляпу и слушал. Иногда даже задавал вопросы.
Сад страдал от засухи. Надо было собирать фрукты, сеять поздние овощи; но отец словно ничего не видел. Он целые дни проводил у фонтана. Иногда доходил даже до заставы или шел по направлению к Монморо.
Как-то вечером он вернулся в полном изнеможении и признался матери, что прошел больше десяти километров по Лионской дороге.
– Ну скажи, пожалуйста, о чем ты думаешь, ну о чем ты думаешь?
Он пробормотал еле слышно:
– О чем думаю… о чем думаю… Скажешь, ты не думаешь?..
Она попыталась прочитать по глазам его мысли, но строить догадки не решилась.
Они сидели за столом и молчали, к пище оба почти не притрагивались. Вечер был хмурый. Свет медленно уходил из кухни через широко открытую в сад дверь.
– Ты бы заставил себя поесть, – сказала мать.
– Что-то не хочется.
– Верю, но надо себя заставить.
– А ты почему не ешь?
– Я совсем другое дело.
– Почему ты другое дело?
– Я женщина, а потом…
– Что потом?
– Ты же знаешь, что в жару у меня всегда пропадает аппетит. Да, кроме того, я наедаюсь за день фруктами.
Она говорила неправду. Ей все было противно. Но она не могла поверить, что и отцу тоже все опротивело. Поэтому она настаивала:
– Поешь сыра; сыр должен быть вкусным, он со слезой.
Отец отрицательно покачал головой.
– Кусок в горло не идет, – сказал он. – Меня тоже изводит жара. Ты же видишь, просто сил нет за что-нибудь взяться. Никогда еще я себя так плохо не чувствовал, а работы хоть отбавляй.
– Э, бог с ней.
– Нет, нельзя, надо работать.
Он встал из-за стола, взял ключ от калитки и вышел. Мать убрала посуду и пошла посидеть в саду. Было жарко, но такая духота бывала и в прежние годы. Вечерело. С холмов даже повеяло свежестью. Листья затрепетали, тишина оживилась, казалось, земля начинает жить ночной жизнью.
Мать сидела на скамейке, дожидаясь отца, и прислушивалась к дыханию сумерек. Он долго не возвращался; тогда она встала и дошла до конца средней дорожки. За калиткой его не было. Она вышла на улицу и, дойдя до угла, увидела его – он сидел на тротуаре. На улице было темно и безлюдно. Время от времени медленно, проезжали машина с потушенными фарами или велосипедист.
Она долго простояла молча, потом подошла к мужу и легонько тронула его за плечо.
– Послушай, Гастон, пойдем домой, ждать здесь бесполезно.
Отец встал.
– Я присел только на минутку, здесь после полудня всегда тень, и фонтан дает немного свежести.
И все. Больше он ничего не сказал. И они медленно вернулись домой по Школьной улице.
Мать опять провела бессонную ночь. Но на этот раз другие думы не давали ей спать. У нее было предчувствие какой-то беды.
С каждой минутой в ней крепла уверенность, что завтрашний день принесет несчастье. Она силилась прогнать навязчивые картины. Все виделось ей, как сквозь туман – мутное, серое, все, кроме лица сына. И лицо это было отчетливо – печальное, бледное, изможденное. Да, это было лицо ее сына, Жюльена Дюбуа, но от усталости оно стало похоже на лицо того безвестного юноши из Домбаля, до смерти напуганного бомбежками.
52
Мать встала с кровати, на которой похрапывал муж. Она боялась, что будет ворочаться и разбудит его, и легла на другую. В конце концов она все же заснула.
Вероятно, она спала недолго, но во сне она опять видела лицо сына. И от этого внезапно проснулась – она была вся в поту и сидела в постели. Ей приснилось залитое кровью, покрытое грязью лицо мертвого Жюльена. А позади ее сына, распростертого среди незнакомого пейзажа, стояли и смеялись какие-то люди. Язвительным смехом, уже где-то слышанным ею.
Когда мать совсем проснулась, она постаралась уяснить себе, кто это: позади мертвого Жюльена стояли и смеялись Поль и его жена.
– Это же глупо, совсем глупо, – пробормотала она. – Я отлично знаю, что они нас не любят, но все же…
Из-за одолевавшей ее мигрени она поднялась задолго до света. Вскоре встал и отец. Она не зажигала лампы, зажгла только спиртовку, чтобы согреть кофе. И села у отворенной двери. Голубоватые, розовые на концах язычки огня лизали дно кастрюли и по временам отражались в медной крышке бачка.
Ночь была не очень темная, так что передвигаться по кухне было нетрудно. Отец тоже сел, покашлял, повздыхал, потом проворчал:
– Старушка ты моя, какие мы с тобой бедные!
– Да-да, конечно, – вздохнула она и замолчала.
Когда кастрюля запела, она налила кофе в чашку и подвинула ее мужу.
– Нет, – сказал он, – я позавтракаю потом.
Она молча выпила кофе. Отец ощупью достал из стенного шкафа стакан и кувшин с водой. Стояла такая тишина, что слышно было, как он пил, – громко, большими глотками.
– Совсем это не полезно, не успел встать, и уже залпом пьешь холодную воду.
Отец ничего не ответил. После того как мать надела колпачок на спиртовку, из кухни ушла жизнь. Не было жизни и в том подобии света, что наползал снаружи, не свет, а какая-то муть, в которой слились последние меркнущие тени ночи с первыми, еще белесыми проблесками утра. Деревья были серые, стена была серая, железные перила на лестнице были серые, мир был обесцвечен.
День, который зачинался так, не обещал ничего хорошего.
Мать вышла на крыльцо, чтобы посмотреть на небо. И оно тоже было серое. Над горами, скрывавшими восходящее солнце, чуть проступила какая-то хилая желтизна.
Она сошла в сад. Кролики забегали по клетке.
«Обычно они не бегают так при моем приближении», – подумала мать.
Этот день не такой, как другие. Разве утро всегда такое серое? Разве заря всегда такая бесцветная?
«Правда, уж не заболела ли я?»
Мать дошла до сарая. Она собиралась принести сена кроликам, но тут вспомнила, что не взяла ключ, и вернулась на кухню. Отца там уже не было.
– Гастон, где ты? – спросила мать.
Она догадывалась, что он пошел к заставе или на площадь к фонтану.
Она взяла ключ и вышла. Небо чуть окрасилось. Желтизна на востоке стала ярче, земля уже была не такой однотонно серой.
Мать долго вглядывалась в эту полосу света, словно надеясь прочитать в ней ответ на все вопросы, которые задавала себе ночью.
Незаметно сад снова становился садом с зелеными деревьями, с выбеленной солнцем, растрескавшейся землей, с цветами, которые за ночь не подняли головок и как будто уже со страхом ждали полудня.
Каждый день мать видела то же самое, но прежде она никогда не смотрела так на свой сад. На деревья она смотрела как на плоды; на цветы – как на заказанный у нее букет; на небо она смотрела, стараясь понять, что оно сулит – дождь или вёдро. А сегодня она чего-то искала, всматривалась во все затененные уголки, стремилась проникнуть в тайну, от которой в то же время пыталась отмахнуться.
Господин Пиола вышел в свой сад. Мать заметила его слишком поздно и не успела уйти. Ей не хотелось никого видеть. Кроме того, она знала, что он не сообщит ей ничего нового. Они поздоровались. Сосед нес две лейки с водой.
– Сегодня опять будет жарко, – сказал он.
– Да, наверное.
Мать вернулась на кухню. Было уже совсем светло. Она подняла штору и в первый раз за это утро посмотрела на будильник.
53
Мать дала себе слово не ходить на угол. Ждать там было еще томительней. Она думала, что мужу, напротив, лучше было оставаться как можно дольше на улице, среди людей, где есть с кем поговорить и кого послушать.
Полно, только ли потому ходит он туда? Она задавала себе этот вопрос. Но чтобы получить ответ, ей достаточно было посмотреть на заброшенный сад, на незаконченную работу.
В полдень, когда отец вернулся, мать по выражению его лица поняла, что он что-то скрывает. Она видела, что ему до смерти хочется что-то рассказать, но он сдерживается. Каждый раз, когда мать поворачивалась к нему спиной, она чувствовала на себе его пристальный взгляд; она тут же оглядывалась, но отец опускал голову.
За работой, к которой она себя принуждала, ее тревога несколько улеглась, но теперь снова вернулась. Все же какое-то время она терпела, но наконец не выдержала.
– Ну? – спросила она.
Отец пожал плечами. Он помолчал и только потом, словно нехотя, сказал:
– Что поделаешь, не могут же все вернуться в один и тот же день.
Мать перестала есть. Она чувствовала, что за этими словами должны последовать другие. Отец снова принялся жевать хлеб и картошку, тогда она спросила:
– Вернулся кто-нибудь из тех, кого ты знаешь?
Отец кивнул и посмотрел на нее. Он казался очень несчастным. Он никак не мог собраться с духом и ответить.
– Твой сын с женой, да? – спросила она.
Выражение его лица сразу изменилось. Он сощурился, между бровями залегла глубокая морщина.
– Все-таки нельзя же ставить им в упрек, что они вернулись? А уж я-то тут, во всяком случае, ни при чем. Я предвидел, что мне и за это отдуваться придется. Лучше бы я молчал.
– Ты ничего не умеешь скрыть. – Это звучало почти как желание его оправдать. Однако она прибавила более суровым тоном: – Видишь, если бы они захватили Жюльена, он был бы уже дома. Он бы уже вернулся. Только они постарались от этого уклониться.
– Они уехали неожиданно… У них не было времени.
– Не рассказывай сказок. У них хватило наглости говорить это? Уж лучше бы молчали. Им было по дороге мимо нас.
– Они уехали ночью…
– Неправда!
– Почем ты знаешь?
– Даже если они уехали ночью, они могли заехать. Должны были заехать. Они вели себя как последние мерзавцы.
– Замолчи…
Отец попробовал накричать на нее, но голос изменил ему. Да и мать все равно не слушала. Ее как прорвало: она уже не могла остановить неудержимо рвущийся на волю поток.
– Если б ты слышал, как Поль уверял, что нет никакой опасности, что Жюльену незачем уезжать.
– Если бы он не уехал…
Мать не остановилась, и отец опустил голову.
– А Мишлина обещала мне взять его с собой, если только они уедут.
Вдруг она замолчала. Отец посмотрел на нее. Взгляды их встретились, и он сейчас же опустил глаза. Мать почти беззвучно, свистящим, как удары бича, шепотом прошипела:
– Если бы ты слышал, если б ты только слышал его смех, ведь он издевался надо мной, когда говорил, что не надо уезжать…
И опять она остановилась. Она заметила, что дрожит. О каком смехе говорит она, о смехе Поля тогда, когда она ходила к ним, или о том, от которого проснулась прошлой ночью?
И, верно, только потому, что следующие слова уже давно сложились у нее в голове в готовую фразу, она сказала:
– Они всегда были такими. Они ненавидят меня. Они ненавидят Жюльена. Им мало того, что ты им дал, они хотели бы получить все. Все, говорю тебе! И они ждут случая… – тут голос у нее оборвался. Она замолчала, собралась с силами и крикнула: – Ну, теперь они вернулись, можешь успокоиться и опять приняться за работу в саду!
Отец встал, с силой толкнув стол, так что запрыгали тарелки, и вышел. Когда он отодвинул штору, чтобы пройти, мать заметила, что он побагровел.
Она долго еще не могла прийти в себя от гнева. Она вся кипела, ночной кошмар опять властно напомнил о себе.
Но постепенно перед ее мысленным взором встало и лицо мужа, на которое время и нелегкая жизнь наложили свой отпечаток, лицо, чем-то напоминавшее лицо Жюльена. Она считала годы. Вспоминала день за днем, когда они с утра до ночи трудились бок о бок.
– Как волы, – пробормотала она, – совсем как волы.
Часто, когда он так уставал, что принужден был на четверть часа прерывать работу, он повторял: «Будь мы одни, мы могли бы удовольствоваться меньшим. Тогда можно было бы отдохнуть». Он так говорил, но всегда опять принимался за работу. И по мере того как иссякали его силы, он становился ей ближе, с каждым днем она старалась помогать ему больше и больше.
Да, так они и живут. И всегда так жили. И так, верно, доживут до самой смерти.
Интересно, чувствуют ли иногда ненависть друг к другу волы, которые ходят в одном ярме? Не возникает ли у них иногда желание укусить друг друга?
Мать встала, убрала со стола. Когда она подошла к двери, чтобы бросить остатки еды в кроличий чугунок, она услышала удары тяпки за домом. Она поспешила в сад. На самом солнцепеке отец, еще более худой, еще более сгорбленный, чем обычно, согнувшись в три погибели, полол грядку с бобами.
– Да ты с ума сошел, Гастон!
Он даже не поднял головы, она подошла и сердито крикнула:
– Гастон, сейчас же брось тяпку!
Отец на минуту разогнулся, обтер тыльной стороной руки лоб.
– Оставь меня в покое! – крикнул он.
Он уже хотел снова приняться за работу, но тут их взгляды встретились. Он остановился. Наступило короткое молчание, потом мать сказала ровным голосом:
– Гастон, послушай меня. Брось полоть, пойдем домой. Ты заболеешь.
Он пожал плечами, сдвинул шляпу на затылок, чтоб обтереть лоб, потом положил тяпку на навес крольчатника.
– Ты даже не кончил есть. Ты даже не выпил кофе, – сказала она.
Они пошли домой. Мать согрела кофе, налила в чашки.
В кухне с закрытыми ставнями и спущенными занавесками было все-таки прохладнее. Все в ней жило замедленной жизнью.
– Бедный ты мой, – вздохнула мать.
– Но ведь ты такого наговорила…
– Знаю… Уж очень нервы издерганы.
– Что делать… Что делать.
Тишина. Снаружи жужжит какое-то насекомое, отец все время звенит ложечкой о чашку, и, однако, тишина в кухне так же тягостна, как и та тишина, что придавила дом.
54
Дождь начался к вечеру. Перед закатом небо подернулось тучами. Отец вошел со словами: «Багровый закат – подставляй ушат». Они с надеждой ждали дождя для своего страждущего сада, у них уже не хватало сил поливать его целиком, но теперь, когда дождь пошел, мать слушала его шум и представляла себе Жюльена в пути, промокшего до костей, озябшего, может быть, больного, голодного.
Ветра почти не было, дождь шел частый. Сначала по дну цинкового бака, стоявшего под водосточной трубой, забарабанили капли, а теперь стекавшая уже широкой струей вода с бульканьем заполняла бак. Порой ставни поскрипывали, словно скреблась крыса, – это дождь хлестал по фасаду.
Дождь лил уже час, и в комнату стал проникать насыщенный благоуханием воздух. Матери дышалось легче, и она заснула, убаюканная монотонным шумом дождя.
Когда она проснулась, дождь все еще шел. Сквозь щели в ставнях просачивался бледный свет. Рядом с ней кашлянул отец.
– Ты спала, – сказал он.
– Да. Я уже давно не спала так крепко. После дождя посвежело.
Он вздохнул.
– А ты не спал? – спросила она, помолчав.
– Нет, можно сказать, что нет.
– Плохо себя чувствуешь?
– Неважно.
– Ты болен?
– Нет.
– Что с тобой?
Он опять вздохнул.
– Послушай, скажи мне, что с тобой?
– Я устал…
Она почувствовала, что он хотел еще что-то прибавить. Она ждала.
– У меня на сердце твои вчерашние попреки. Знаешь, это не так-то легко переварить, – наконец сказал он.
– Если бы я обращала внимание на все, что ты мне говоришь, когда разозлишься!..
– Тебе куда меньше нужно, чтобы ты разревелась и потом долго мне припоминала.
Отец замолчал, мать не знала, что ему сказать. Пора бы уже вставать, светает. Но зачем вставать? Словно угадав ее мысль, отец вдруг сказал:
– Бак, верно, полон. Если вода пойдет через край, натечет в погреб, а там на земле овощи.
– Пойду уберу.
– Я тоже встаю, пойду опорожню бак.
Они поднялись одновременно. Сидя спиной к спине, каждый на своей стороне кровати, они сунули ноги в домашние туфли. Мать сошла вниз, она всегда одевалась на кухне. Вскоре пришел и отец.
– Если он едет по такой погоде, надеюсь, у него хватит ума переждать где-нибудь дождь, – сказал он, входя. – В такую погоду не трудно и простудиться.
Матери хотелось сказать: «Если бы он сидел в машине твоего сынка, он бы не вымок. Впрочем, он был бы уже дома и спал в теплой постели». Но она ничего не сказала. Отец стоял перед окном, положив одну руку на шпингалет, а другую спрятав в большой карман своего синего фартука.
За окном все заткано серой паутиной дождя, смывшей очертания домов и деревьев. На небе не видно туч, вернее, не видно неба. Только дождь. Отец стоит совсем подавленный. Посмотреть на него, так покажется, будто всей своей тяжестью легла ему на плечи тоска, струящаяся с неба, стекающая с деревьев, отражения которых в лужах такие же бесцветные, как и дождь, а ветки под мокрыми листьями совсем черные. Виноградные лозы трепещут. Капли скатываются по жилкам листьев, останавливаются, мгновение дрожат, потом падают в грязные лужи.
Каким тщедушным кажется отец, стоящий у окна!
Он не шевелится. Он застыл на месте, дожидаясь, когда согреется кофе. Мать окликнула его, он медленно обернулся, сел за стол, но почти не притронулся к еде.
– Ты больше не хочешь?
– Не хочу.
Он повернулся к окну.
– Раз уж ты затопила плиту, может, приготовишь еду кроликам? – спросил он.
– Да, я уже об этом подумала.
– Я спущусь в подвал, а потом принесу дров.
Мать покрыла голову и плечи большой черной шалью; отец взял на крыльце мешок и, сложив, сделал из него капюшон.
Они поставили корзины с овощами на перевернутые вверх дном ящики. Вода уже просочилась под дверь. Отец собирал ее консервной банкой, сплюснутой с одного боку.
– Вылью воду из бака, а потом схожу за дровами.
Мать вернулась на кухню. Ей было слышно, как он черпает лейкой воду из бака и выливает в большой резервуар у колонки. Он четыре раза прошел туда и обратно. Потом направился к сараю. Вот он уже вернулся. Его сабо стучат по каменным ступеням.
– Дрова на крыльце! – крикнул он, не открывая двери.
Матери хотелось его позвать. На улице ему больше делать нечего. Однако она ничего не сказала, только подошла к окну – посмотреть, пойдет ли он опять к сараю. Она прижалась, лбом к холодному стеклу. Подождала. Вот показался отец. Он на боковой дорожке, но вместо того чтобы повернуть к сараю, идет к калитке. Мешок, который он не снял, уже совсем темный на голове и на торчащих лопатках. Скоро промокнет насквозь.
Мать знает, куда он пошел. Она еще долго всматривается в чуть виднеющийся сад. Струйки воды стекают по стеклам. Огонь в плите сейчас погаснет. Весь дом пронизан холодом и сыростью, мать чувствует, как по спине у нее пробегает холодок.







