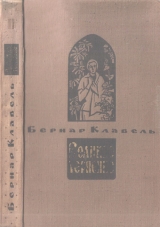
Текст книги "Тот, кто хотел увидеть море"
Автор книги: Бернар Клавель
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 19 страниц)
55
Отца не было дома почти все утро. Вернулся он не один. Мать слышала, как он с кем-то разговаривает, подымаясь по лестнице. На мгновение ей показалось, что сердце у нее сейчас остановится. Но только на мгновение – до нее долетел голос, но не голос Жюльена.
Она не знала человека, которого привел отец, и все же ей показалось, что она его уже видела.
– Я вымок до нитки, – сказал пришедший, – испачкаю вам пол, извините, пожалуйста.
Он остановился в дверях, неестественно растопырив руки, чтобы не касаться своего черного дождевика, с которого ручьями стекала вода. Мать принесла ему под ноги половичок. Отец взял у него плащ и повесил на балконе на вешалку.
– Ничего, это линолеум, – сказала мать.
– Ты его не узнаёшь? – спросил отец.
Мать неуверенно покачала головой.
– Я тоже его не узнал. Штатское платье очень меняет, но он меня сразу признал.
– Надо сказать, что и был-то я тут всего один раз.
Мать улыбнулась.
– Ага, вспомнила, – сказала она. – Вы приходили от Бутийона, он просил передать нам привет. Теперь я вас узнаю.
– Н-да… невеселый привет, – заметил отец.
– Что случилось? – спросила мать.
По голосу мужа она поняла, что гость принес печальную весть.
– Он тебе сам расскажет. Мне он уже в двух словах сообщил. Бедняги Бутийона нет в живых. Господи, какое горе для отца, мы с ним вместе воевали в четырнадцатом году. – Он повернулся к гостю и спросил: – Вы думаете, он уже знает?
– Его должны уведомить, но извещения доходят сейчас не очень-то скоро.
Они пригласили гостя присесть, мать заварила кофе.
– Расскажите, пожалуйста, как это случилось, – попросил отец.
Гость начал не сразу.
– Когда я вас увидел, я подошел просто так, но если бы я подумал, то, верно, предпочел бы уклониться от встречи.
Старики Дюбуа переглянулись. Гость покачал головой и прибавил:
– Потому что теперь, когда я тут, я не знаю, как быть. Понимаете, говорить об этом не так-то легко.
Отец настаивал. Гость взял со стариков слово, что они никому не расскажут.
– Будьте спокойны, – сказал отец. – А потом что может случиться, родители не приедут, пока не получат извещения… Да и вообще не известно, приедут ли…
Гость перебил его:
– Не в этом дело, но, может, вообще не очень желательно, чтобы узналась правда.
Снова наступило молчание. Старики ждали, немного испуганные. Наконец, уступая настояниям отца, гость начал:
– Помните, Бутийон был откомандирован на передовую, в наш же батальон. Он был в районе Саара, служил в отряде разведчиков и получил благодарность в приказе…
– Меня это не удивляет, – сказал отец, – уже в четырнадцатом году…
Мать перебила его:
– Дай послушать, Гастон.
– Перед тем как его отправили, – продолжал гость, – он, если вы помните, сцепился с капитаном, которого обозвал окопавшимся.
– Да, это так на него похоже. Голова отчаянная, а сердце доброе.
– Так вот, когда его часть отступала, они соединились с нами в Сансе. Чистая случайность. Неразбериха была полная. Мы могли и разминуться. А вот встретились. – Он сморщился и совсем тихо, как бы про себя, сказал: – Для Бутийона эта случайность оказалась роковой. – Он отхлебнул кофе, потом продолжал: – Говорят, он опять сцепился с тем же самым капитаном, правда, меня при этом не было. В общем, мы все время отступали, пока нас не остановили для охраны моста на Соне, не скажу уже, в каком именно месте.
– Мостов, значит, не взрывали? – спросил отец.
– Этот не взорвали. На той стороне еще оставались наши… Мы там стояли двое суток, а через мост все шли и шли войска. Потом, наконец, отступавшие солдаты нам и говорят: «Немцы идут за нами по пятам, скоро здесь будут». Уже некоторое время была слышна канонада. Прошло четверть часа. Мы поставили два ручных пулемета у входа на мост. Службу нес как раз взвод Бутийона.
Мать слушала всем своим существом. Она сидела на краю стула, уронив руки на колени, с трудом глотая слюну. Она ясно представила себе реку, мост, солдат, Бутийона, его добродушное красное лицо, его хриплый голос. Солдат на минуту остановился.
– Ну, а дальше что? – спросила она.
– А дальше, полковник развернул весь батальон вдоль реки. Наш взвод стоял рядом со взводом Бутийона. Капитан, с которым он поругался, был позади нас… Никого и ничего… Стоим и ждем… Через десять минут на дороге показались три немецких мотоциклиста. Катят себе спокойненько к мосту. Слышу Бутийон говорит своему пулеметчику: «Отойди, дай мне уложить первых». Солдат отошел. Я, точно предчувствовал, говорю ему: «Бутийон, ты ведь знаешь, что без приказа стрелять нельзя!» «Ступай к черту!» – крикнул он. Я посмотрел на капитана, он лежал в своем окопчике позади нас.
Гость замолчал. Мать напряженно слушала, подавшись к нему всем телом. Отец, облокотившись на стол, тоже не спускал глаз с рассказчика. Он сцепил пальцы, и руки его нервно двигались по клеенке.
– Ну, а дальше что? – спросил он.
Солдат вздохнул и заговорил медленно и серьезно, словно с сожалением произнося каждое слово:
– Конечно, утверждать это трудно, но теперь я уверен, что капитан понял то, что должно было произойти. Он ничего не сказал. Но он не мог не слышать. Я твердо помню, что он усмехнулся. Совершенно твердо помню, могу чем хотите поклясться… Усмехнулся злой усмешкой. – Он опять остановился, потом продолжал: – Бутийон лег на место пулеметчика. Я слышу, как он говорит своим солдатам: «Подпустите их, чертей, поближе, я их сам уложу». Я отлично помню его слова, никак они у меня из головы не идут. И я уверен, капитан тоже слышал. Мотоциклисты на минуту остановились у моста, поговорили между собой и повернули обратно. Далеко они не отъехали. Бутийон выпустил очередь и кокнул двух немцев. Капитан заорал: «Стойте, не стреляйте. Приказываю не стрелять!» Бутийон выстрелил по последнему, который пошел на утек, но не попал в него. Капитан подскочил к Бутийону. Они смотрели в упор друг на друга. Мы подумали, что он сейчас убьет Бутийона. Но он начал его честить. Бутийон побледнел. Он стоял и слушал, как тот лаялся, а потом как крикнет: «Все потому, что вы бошей жалеете, ну и целуйтесь с ними. Но тогда какого черта мы тут торчим?» И не успели мы его остановить, как он уже отстегнул поясной ремень, снял каску, швырнул на землю и крикнул: «Начхать мне на вас! Расхлебывайте эту кашу без меня! А я демобилизовался!»
Отец криво улыбнулся и, когда солдат остановился, чтобы допить кофе, пробормотал:
– Узнаю Бутийона!
– Точно, – подтвердил солдат. – Он всегда говорил, что хочет швырнуть им в физиономию свое обмундирование. Только капитан подошел к этому иначе. Он начал кричать, чтобы Бутийон остановился, вернулся обратно. «Приказываю вернуться на место!» А Бутийон оглянулся и крикнул: «Чихал я на вас!» Кое-кто засмеялся. Капитан приказал тем, что были рядом: «Стреляйте, стреляйте в него!» Вы, конечно, понимаете, что никто не выстрелил… Бутийона в батальоне любили!
Голос рассказчика дрогнул. Отец боялся дышать. Он часто-часто моргал необычно блестевшими глазами.
– Тогда выстрелил капитан, – продолжал солдат прерывающимся голосом. – Он еще раз что-то крикнул, но Бутийон шел по дороге и даже не оглянулся. Тогда капитан наклонился, выхватил винтовку у того солдата, что был к нему ближе других, и выстрелил… Всего один раз… Бутийон подскочил. Я думал, он сейчас обернется, но он только что-то крикнул. Те, кто был ближе, говорят, что он крикнул: «Сволочь!» Я не расслышал… Потом он согнулся вдвое и рухнул на землю.
Солдат замолчал. Опустил голову. Мать и отец переглянулись.
Было тихо. Только дождь, о котором они позабыли во время рассказа, стучал в окна.
Солдат поднял голову.
– Вот и все, – сказал он.
Но отец спросил:
– А дальше что было?
– А дальше пришли немцы. Мы открыли огонь. Были большие потери. Бой шел до самой ночи, а потом мы отступили. Такая неразбериха была!
Он сказал также, что ему удалось смыться и что он хочет добраться до Парижа. В Лоне он потому, что надеялся получить обратно чемодан, который оставил в кафе, но кафе на замке, владельцы уехали.
Мать уже не слушала. Когда солдат замолчал, очень долго никто не нарушал тишины. Только время от времени отец бормотал:
– Ну и негодяй!.. Ну и негодяй!.. Бедный Мариус… когда он узнает!.. Господи… такая нелепость… такая ужасная нелепость…
Наконец мать поднялась.
– Я сейчас приготовлю обед, покушаете с нами, – сказала она.
– Я не хотел бы вас беспокоить.
– Какое там беспокойство, две лишние картошки, подумаешь, великое дело!
Солдат согласился. И отец, так же как в тот день, когда приходил Бутийон, принес из погреба бутылку старого вина.
56
Всякий раз как на столе появлялась бутылка старого вина, сладкое блюдо или кушанье, которое мать любила, она испытывала даже какую-то радость, ее сердило только одно: приходилось уверять мужа, что она не голодна, что боится за печень или что совсем больше не переносит вина. Отец пожимал плечами:
– Скажи лучше, что тебе сейчас, как и мне, все опротивело.
Она ничего не говорила, но ей казалось, будто своим воздержанием она помогает сыну. Собирая фрукты, она не разрешала себе съесть яблоко или грушу.
На этот раз после обеда отец достал еще бутылку виноградной водки. Он уже хотел налить гостю рюмочку, но тут вмешалась мать.
– Может быть, вы предпочитаете пьяные вишни? – спросила она. – Домашнего приготовления, вот увидите, очень вкусные.
– Ну, конечно, – ответил гость, – конечно, предпочитаю, будьте так добры.
Она влезла на стул, чтобы дотянуться до большой банки на верхней полке шкафа. Вишни были темно-красного цвета, а прозрачный сок при тусклом, словно декабрьском свете отливал солнцем. Мать очень редко пила водку, так разве капельку на сахар, но пьяные вишни – это совсем другое дело. Когда она доставала банку с пьяными вишнями, она охотно съедала пять-шесть вишен и запивала глотком сока.
Она открыла банку, вытерла серебряную ложку с длинной ручкой и стала доставать вишни, чтоб угостить солдата. По кухне распространился вкусный запах. Мать с удовольствием вдыхала его; она клала вишни медленно, брала по две на ложку.
– Спасибо, спасибо, хватит, – сказал гость.
Она нагнула банку.
– Немного соку, это ведь не спирт, а хорошая виноградная водка.
Она налила ему в стаканчик две полные ложки соку, подождала, чтобы стекли капли, и закрыла банку.
– А почему себе не взяла? – спросил отец.
– Что-то не хочется.
– Ну, если уж ты не хочешь пьяных вишен, значит тебе действительно нездоровится.
Она смотрела, как ел гость, и у нее текли слюнки. Он глотал вишни, а она – собственную слюну.
– Замечательно вкусно, – сказал он. – Вы настоящая мастерица.
Когда он допил до конца, мать закрыла глаза и, не разжимая губ, повторила раз десять, очень быстро:
– Господи, сделай, чтоб он вернулся. Господи, сделай, чтоб он вернулся, я готова все отдать.
За столом старики Дюбуа все время расспрашивали гостя, что он видел при отступлении. Он рассказал им о разных случаях, когда немецкие и итальянские самолеты бомбили или обстреливали из пулеметов дороги. Но потом, поняв, что они очень волнуются, постарался их успокоить. Однако до самого его ухода мать продолжала настойчиво расспрашивать его. Она думала, что то же могло выпасть на долю ее сына. Она все надеялась – вдруг по какой-то примете он вспомнит, что встретил юношу на велосипеде и что этого юношу звали Жюльен Дюбуа.
Наконец гость поднялся, собираясь уходить. Он поблагодарил хозяев.
– Я провожу вас до калитки, – сказал отец.
– Что вы, дождь не перестал, – возразил гость.
Мать поддержала его, но отец настоял на своем.
– Хоть зонтик возьми, – сказала она.
Отец взял зонтик и пошел проводить гостя, которого даже не знал по имени.
Мать машинально убрала со стола, подкинула полено в плиту и стала мыть посуду. В недрах ее существа возникал сейчас новый, трепещущий жизнью мир, мелькали, быстро сменяясь, наплывали одна на другую бесчисленные картины.
Весь хаос войны. Войны, которую она, можно сказать, почти не видела, но которую представляла себе по рассказам только что ушедшего солдата.
Теперь, когда она напрасно старалась мысленно воспроизвести какую-нибудь из описанных им сцен, она начинала жалеть, что не обратила больше внимания на беспорядочный поток беженцев, катившийся мимо них. Но тогда она хотела позабыть о войне, может быть невольно надеясь, что и война забудет о ней.
– Неужто нет такого уголка, где можно жить спокойно? Мы же ничего и ни от кого не требуем!
Она разговаривала сама с собой, и это успокаивало ее. Впрочем, она вела долгие разговоры и при отце – но, разумеется, про себя. И всегда это были беседы с сыном. Начинала она с чего-нибудь незначительного, но под конец почти неизменно говорила о том, о чем никогда не решилась бы заговорить с ним, будь он тут.
Вот она убирает шкаф, берет в руки сетки Жюльена. Приподнимает всю стопку, чтобы положить под нее веточку мяты, которую сорвала в саду. Жюльен входит в комнату. Она говорит:
– Слушай, взрослый мой сын, ты на этой неделе не менял сетки. Все-то тебе надо напомнить.
– Да она, мама, не грязная.
– Нет, грязная, ты не видишь, но она грязная. Надо переменить. Носить долго белье вредно, да и мне отстирывать заношенное белье труднее. Приходится тереть щеткой, а от этого оно рвется.
Жюльен ворчит, но снимает рубаху и отдает сетку. Для нее большая радость смотреть на его обнаженный торс. Сын такой красивый. Высокий, сильный, весь бронзовый от загара. Да, ему незачем подбивать ватой куртку, он и без того широк в плечах. Совсем не такой, как те тщедушные юнцы, которые обязаны скорее своему портному, чем той, что носила их в своем чреве.
И подумать только, что она носила в животе такого молодца! Ишь ведь, какой здоровяк, даже не умещается в зеркале ее шкафа! Да, вот она жизнь! Уж и заглядываются, верно, на него девушки!
– Пора тебе самому заботиться о своем белье. Я не всегда буду ходить за тобой, как нянька… К сожалению.
Последнее слово она произносит еле слышно, только для себя.
Жюльен не отвечает. Надевает чистую сетку. Белая сетка, по контрасту с которой он кажется еще более загорелым, плотно обтягивает ему грудь, выгодно обрисовывает спину, широкую в плечах, узкую в талии, как у Ригуло на цирковых афишах.
– Хорошо, если тебе попадется заботливая жена, – опять говорит она. – Но если она будет вроде тебя, не знаю, как вы проживете. Придется тебе очень много зарабатывать, иначе вы не сведете концы с концами.
Жюльен только улыбается в ответ. Она смотрит на него краешком глаза, а коленом толкает дверцу шкафа, которая так туго закрывается.
И вот тут-то она и приступала к тому, чего, конечно, не решилась бы ему сказать:
– Послушай-ка, взрослый мой сын, раз уж мы заговорили о женщинах… Та девушка, которую ты все рисовал, когда жил в Доле, вы с ней…
Даже так, себе самой, было трудно это выговорить.
– Ведь не может быть, чтобы ты так просто, ни с того ни с сего… Ведь не мог же ты выдумать из головы все эти портреты, уж очень они похожи один на другой. Ты, должно быть, на кого-то смотрел? Да просто смотреть еще мало… Я отлично знаю, что с годами ты сделал большие успехи, но ведь когда ты был маленький, ты не любил рисовать женские портреты. Я тебе всегда говорила: «Посмотри, в книжках, где рассказывается о жизни великих художников, всегда есть портреты старух, и под ними подпись: «Мать художника» или «Портрет матери». Тебе не хотелось бы нарисовать мой портрет?» И ты как-то попробовал… Я сказала тебе, что портрет очень хороший… Но теперь я могу признаться, я просто испугалась. Я вышла похожей на старого казака, как их изображают на картинках в «Истории Франции».
Такие разговоры она могла вести часами. По поводу всего, что было для нее тайной в жизни сына.
Это несправедливо, мать должна знать все!
– Послушай, ведь не даром же тебе так удался портрет этой девушки?
Тут она каждый раз запиналась. Выговорить это было так трудно!
– Надо думать, она тебе очень дорога!
Одно слово она никак не решалась произнести. Но она прибавляла очень быстро:
– Я ведь не ревную, понимаешь, Жюльен, не ревную. Я знаю, это совершенно разные вещи… Но все-таки это меня заботит. Ничего не могу с собой поделать. Надо и меня понять. Ведь я, может, как раз ее, эту девушку, видела тогда, в машине, больную! Знаешь, она, кажется, очень слабенькая.
И сегодня, пока отец провожал гостя и, верно, пережидал дождь где-нибудь под крышей, и сегодня мать опять долго болтала с Жюльеном. Затем, и на этот раз вслух, потому что была одна, она сказала:
– Господи, наступит ли такой день, когда я решусь ему это сказать? И потом, господи… смогу ли я… вернешь ли ты мне его?
57
Отец возвратился около пяти вечера.
– Надо быть сумасшедшим, чтобы так мокнуть, – сказала мать.
– Я на дожде не мок. Я переждал в будке у заставы, там даже огонь зажгли.
Он поставил зонт, повесил на крыльце мешок, вошел в кухню и затворил дверь.
– Можно подумать, что на дворе ноябрь, – проворчал он.
Мать вязала. Отец сел на свое обычное место – между столом и окошком.
– Ты ничего не узнал?
– Нет, – сказал он. – По такой погоде народу меньше едет. К тому же у многих нет бензина. Поговаривают даже, что будет нехватка во всем.
– Знаю, – сказала мать, – я хотела взять пять кило сахару, лавочник отпустил мне только кило; да и то, говорит, потому, что я постоянная покупательница.
– Еще и не то будет. Отец нам рассказывал, как в семидесятом году пруссаки заняли Францию. Боюсь, как бы нам не пришлось еще хуже!
Мать сначала слушала, но он опять начал свои бесконечные рассказы, которые она знала уже наизусть. Однако она не прервала его, не сказала: «Ты это уже рассказывал, ты повторяешься, Гастон, повторяешься». На этот раз она не сказала ничего. И мало-помалу монотонный голос отца включился в тишину так же, как и шум воды, льющейся в бак из водосточной трубы.
Еще тогда, когда отец упомянул про ноябрь, мать жила уже не этим летним вечером 1940 года. Несколько минут она, пожалуй, была еще здесь, старалась за что-нибудь ухватиться, вступить в разговор, но, когда отец пустился в размышления о 1870 годе, она тоже пошла по своей дорожке. У отца была потребность размышлять вслух. Она это знала, его голос действительно стал неотъемлемой частью этого вечера, и поэтому, когда отец замолкал, мать, не прерывая нити собственных размышлений, бормотала:
– Да, да… Конечно… Что поделаешь, это так.
Она не слышала, что он говорит, но такой ответ, вероятно, удовлетворял его, раз он тут же снова принимался рассказывать.
Матери, чтобы уйти от настоящего, чтобы обрести покой, в котором ей отказывал сегодняшний день, не надо было переноситься назад так далеко, к 1870 году. Для нее сейчас был ноябрь, моросил дождь, деревья и виноградные лозы почти совсем облетели, и кухня тоже была пронизана холодом и сыростью. Сетка дождя заволокла очертания холмов Монтегю, дальше них ничего не видно, но за высокой и унылой школьной оградой была жизнь и надежда. Вот сейчас откроется дверь, войдет мальчик в пелерине с капюшоном, опущенным на самые глаза. Ставни закрыты, зажжена лампа. Он готовит письменные уроки, отвечает ей устные…
Мысленно она видит целый альбом с картинками, неторопливо переворачивается страница за страницей, – а в руках матери по-прежнему мелькали спицы; отец по-прежнему тянул нескончаемую нить рассказа, дождь по-прежнему барабанил в окна, водосточная труба, не переставая, лила слезы.
Есть в альбоме страницы долгих дневных часов, полных ожиданием вечера; есть страницы со снежными зимами, с салазками, которые смастерил отец, а мать ждала с ними у ворот школы, когда кончатся уроки…
Все вперемежку. Никакой логической последовательности в ее альбоме нет. Разрозненные страницы постоянно нарушают порядок. Так, картинка, изображающая детский сад – большой зал со скамейками, а вокруг печки решетка, – может оказаться после картинки, на которой Жюльен уже большим мальчиком получает на рождество мольберт.
Рождество! Ах, сколько страниц в альбоме отведено рождеству! Рождеству и рождественским каникулам. Да, для нее были настоящие каникулы, когда Жюльен из-за плохой погоды принужден был сидеть тут, на кухне.
После того как началось отступление, не было еще ни одного такого дня, как сегодняшний. В первый раз время пролетело так быстро.
И все же, когда надо было отложить вязание, чтобы приготовить еду, тяжесть, которую мать ощущала уже много дней, опять налегла ей на плечи.
Никто не пришел, не рассказал новостей. Дождь не прекращался. Стемнело раньше обычного. Да, вот оно настоящее одиночество…
Сад вокруг дома расширился, городские дома отступили, в городе нет жизни, совсем никакой жизни.
Война притихла. Но успокоения все нет, есть только пустота, и никак эту пустоту не исчерпать до дна.
Сумерки заволокли все: холмы, ограду, намокшие деревья. Отец дремлет на стуле, усыпленный собственным голосом. Подбородок опустился на грудь, шея исчезла, голова клонится все ниже, и спина тоже согнулась дугой, только, может быть, не так сильно. За шумом воды не слышно его свистящего дыхания, плечи чуть приподнимаются.
А вдруг он умер?.. Вдруг все умерло?..
Мать встрепенулась. Она сделала над собой усилие, чтобы прогнать тоску, которая вместе с темнотой вползала в дом; но мысль о смерти не оставляла ее.
И в первый раз мать подумала, что они совсем одни, далеко, очень далеко ото всех и что оба они умрут, так и не увидев сына.







