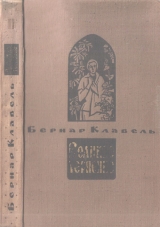
Текст книги "Тот, кто хотел увидеть море"
Автор книги: Бернар Клавель
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 19 страниц)

Бернар Клавель
Тот, кто хотел увидеть море
С дружеским чувством Арману Лану, который плакал, рассказывая мне о своей матери
Под песню матери у колыбели уснуть должны и ненависть и бури.
Т. Ботрель
Я улыбался, потому что дверь открывалась в будущее, мать была печальна, потому что дверь закрывалась за прошедшим.
Шарль-Луи Филипп
Часть первая
1
Первого октября 1939 года мать проснулась еще задолго до света. Она посмотрела в сторону окна, но щели ставень чуть виднелись. Она не шевелилась, чтобы не разбудить отца, который спал рядом, вытянувшись на спине и присвистывая при каждом вздохе.
Она медленно выпростала правую руку из-под одеяла и положила ее поверх него. И сейчас же почувствовала боль в кончиках пальцев, боль отдалась в кисти, дошла до локтя, усилилась и, как вода, прорвавшая плотину, докатилась до плеча. Мать повздыхала, выпростала левую руку, нывшую не так сильно. И принялась медленно растирать кисть и всю руку до локтя. Казалось, боль убегает под ее ладонью. Из мускулов и жил она перекинулась в кости, а оттуда пошла бродить по суставам. Время от времени мать переставала растирать руку, сдерживая стон. Она долго лежала молча, потом чуть приоткрыла губы и прошептала:
– Только бы дождь не застал его по дороге.
Она полежала еще, вытянув руки на стеганом одеяле, прохлада которого приносила ей облегчение. В тишине дома жили едва уловимые звуки, и разобраться в них можно было, только привыкнув к ним издавна. Где-то поскрипывало дерево, но, скажем, балки скрипели не так, как лестница. Где-то что-то шуршало, но это не крыса скреблась на чердаке, это проснулся голубь, поселившийся под крышей. Кролик стучал лапками или бегал по своей дощатой с железной решеткой клетке, стенки ее дрожали, и тогда казалось, что слышишь приглушенную барабанную дробь.
Мать приподнялась на локте, чтобы поправить подушку. Отец пошевелился.
– Что случилось? – спросил он. – Тебе не спится?
– Скоро начнет светать.
– Всю ночь ты ворочалась; не зря я говорил, что лучше бы тебе спать на другой кровати.
Она ответила не сразу.
– Вот и видно, что не ты стираешь простыни.
Она вдруг замолчала. А когда муж снова хотел что-то сказать, тронула его за плечо и прошептала:
– Помолчи, дай послушать!
Несколько мгновений они прислушивались, потом она снова опустилась на подушку, бормоча:
– Нет, мне показалось. Это, верно, на улице.
– Что тебе показалось?
– Кто-то дернул калитку.
По тому, как сдвинулась с места подушка, она поняла, что он пожал плечами. Отец закашлялся, сел в кровати, плюнул в носовой платок, потом, отдышавшись, проворчал:
– Тоже скажешь, кто-то дернул калитку! Разве отсюда услышишь, да еще при закрытых ставнях.
– Ночью, когда все тихо, слышно даже, если идут по улице. Ты-то, конечно, не слышишь, ты ведь туг на ухо, а я знаю, что говорю.
Отец повысил голос:
– Может, я и туг на ухо, однако отлично слышу, как ты ворочаешься, сегодня я почти всю ночь не спал.
Она только вздохнула. В темной спальне водворилось молчание. Казалось, затихли даже привычные домашние шорохи. Отец опять закашлялся, потом заговорил снова:
– Да, так тебе Жюльен и приедет среди ночи!
– Ах, тебе не понять… Я отлично знаю, что не приедет раньше полудня, но разве сердцу прикажешь? Хорошо тебе, ни о чем ты не думаешь.
– Лучше уж скажи прямо: чурбан.
– Я просто говорю, что ты только о себе думаешь. И так оно и есть. Заботы не мешают тебе спать. – Она на минутку замолчала, потом, усмехнувшись, прибавила: – Разве только помидорной рассаде будут грозить заморозки или град деревьям…
Он сердито прервал ее:
– Так, по-твоему, это неважно?
– Нет, важно. Я тоже из-за этого не сплю, и чаще, чем ты думаешь. Да только сын для меня еще важнее. А послушать тебя, так нипочем не скажешь, что мальчик уже два года как из дому.
Отец не ответил. Он натянул одеяло до самого подбородка и лежал не шевелясь. Снова наступило долгое молчание. Мать все еще вглядывалась в ставни, на которых теперь уже яснее проступали щели. Серым, постепенно расширяющимся пятном обозначился потолок.
Когда мать встала, отец не сказал ничего. Он лежал, дыша чуть прерывисто, как обычно.
Она накинула на плечи старое пальто, сунула ноги в домашние туфли, и, только когда она открыла дверь, он спросил:
– Ты уже вниз? Чего ради, скажи на милость? Еще совсем темно. Только керосин даром жжешь.
– Лампу я зажигать не собираюсь, – сказала она. – Пока я оденусь и растоплю плиту, рассветет.
Он опять что-то проворчал, но она уже закрыла дверь и слов не разобрала.
На верхние ступени деревянной лестницы сквозь чердачное окно падал слабый свет. Мать спустилась ощупью, внизу рука ее сразу легла на щеколду.
В кухне было совсем темно – со дня объявления войны отец прибил к ставням, чтобы закрыть вырезанные в них отверстия, старые почтовые календари. Но мать шла уверенно, и тут тоже ее рука сразу нашла окно и повернула шпингалет.
Воздух был no-утреннему свеж. В саду, окутанном тьмой, притаились какие-то серые расплывчатые тени. Стена, отделявшая сад от парка педагогического училища, чуть виднелась. Но за Монтегю на небе уже проступала желтизна. Холмы еще чернели сплошной грядой, словно вздувшейся там, где росло одинокое дерево, крона которого напоминала балансирующий шар, – кажется, он вот-вот покатится вниз по склону. Все остальное тонуло в темноте. Завода, расположенного значительно ближе, не было видно, только цистерна с водой на четырех цементных столбах и труба вырисовывались поверх холмов. Слева на фоне неба четко выделялись здание педагогического училища и кедр, возвышавшийся над домом.
Мать высунулась из окна, чтобы закрепить отворенные ставни, потом закрыла окно. Кое-где на плите тускло поблескивала медь. Она отыскала кочергу, сняла конфорки и принялась разгребать золу. Найдя несколько горячих угольков, тлевших под не остывшей еще золой, она смяла два листа газеты, прибавила горстку сухих веточек. Вскоре из круглого отверстия поднялось пламя, осветившее стену и потолок. Мать прикрыла огонь двумя полешками, потом положила на место конфорки. Огонь разгорался, потрескивая и ворча, и замирал в дымоходе. По временам на высоте вьюшки вспыхивал огонек. Сквозь решетку пламя отбрасывало на пол большое светлое пятно, оно плясало, лизало ножку стола. На потолке трепетал золотистый кружок.
Мать придвинула к огню стул, на котором лежало ее платье, и начала одеваться.
На востоке уже заметно посветлело, и стена педагогического училища приблизилась. Вскоре на заводской водонапорной башне стали видны красные пятна рекламы «Смеющаяся корова». Верхушки холмов округлились, вдоль склона вырисовались изгороди, протянулись желтые полосы деревьев. У основания заводской трубы завод, казавшийся прежде бесформенной массой, начал принимать очертания, появились каменная площадка, большие окна, в которых отражалось уже голубевшее небо, а дальше – крыши гаражей.
Мать поставила на огонь кастрюлю с водой, и та вскоре затянула свою песенку. Одевшись, мать взяла молочный бидон и вышла из дому.
Уже совсем рассвело. От багрянца листьев сад казался почти таким же сияющим, как небо. Дорожка под большой грушей была усыпана золотом.
По Школьной улице шли пешком и ехали на велосипедах рабочие с солеварен Монморо. Какая-то женщина поздоровалась с матерью, которая стояла у отворенной калитки, спрятав руки под большую черную шаль, свисавшую с ее плоской груди. Мать прождала довольно долго, всматриваясь время от времени в конец улицы. Немного погодя открылось окно в доме напротив. Из него высунулась мадемуазель Марта, посмотрела в другую сторону, спросила:
– Ну, как, мадам Дюбуа, погода обещает быть хорошей?
Мать поглядела на восток, сделала неопределенное движение, не высвобождая рук из-под шали, и сказала, покачав головой:
– Ей-богу не знаю, что вам ответить.
– Молочницу дожидаетесь?
– Да, а который час, точно не знаю.
Старая дева отошла от окна.
– Раньше половины она не приходит, а сейчас только четверть, – сказала она, вернувшись.
– До войны было хорошо, по гудку каждое утро знали точно, который час.
Мадемуазель Марта усмехнулась.
– Да о чем вы думаете, мадам Дюбуа, ведь сегодня воскресенье, война не война, гудка все равно не было бы.
– Верно, сама не пойму, что у меня в голове.
– Может, зайдете на минутку? – спросила Марта.
– Нет, спасибо, сейчас ведь не холодно. Обычно я оставляю бидон, она знает, сколько налить; но сегодня нужно взять литр, сегодня возвращается мой Жюльен. Теперь я буду брать по литру, ведь он будет жить с нами.
Старая дева улыбнулась, затем тоже посмотрела туда, где Школьную улицу наискосок пересекает Солеварная.
– Если вы только из-за этого стоите, так оставьте бидон, – предложила она. – Я ей скажу, мне тоже нужно взять молока.
– Спасибо, мадемуазель Марта, так не забудьте – по литру в день.
Мать поставила бидон на каменный бордюр, окаймлявший грядку, под деревянный осмоленный столб, на котором висел почтовый ящик; потом, притворив калитку, пошла к дому.
Она шла медленно, оглядывая сад; посмотрела на дорожку, которую замыкал серый дощатый сарай. Солнце должно было вот-вот показаться из-за гор. Светлело с каждой минутой, а в багрянце и золоте листьев растворялась тьма, еще лежавшая на земле. Но мать ничего не видела. Она просто впитывала в себя утренний свет. Теплую волну света, которая наполняла грудь и подступала к горлу, вызывая желание не то плакать, не то смеяться.
Перед тем как войти в дом, она задержалась на крыльце, откуда дверь вела прямо в кухню, и оглянулась. Между деревьями виднелись фасады домов на другой стороне улицы. Окна кое-где были открыты. Первый луч солнца зацепился за конек на крыше дома, более высокого, чем остальные.
2
В кухне отец, вооружившись кочергой, стоял у плиты. Он обернулся и крикнул:
– О чем ты только думаешь! Поставила воду на огонь, а сама ушла.
– Я относила бидон.
– И пропала на два часа.
– Мне надо было повидать молочницу…
– Вода закипела и убежала на плиту.
– Только и делов!
Отец помолчал. Он сдвинул кастрюлю к черной блестевшей трубе, и теперь кастрюля покачивалась, потому что дно у нее было чуть выпуклое.
– Ну конечно, тебе наплевать, пусть хоть все прахом пойдет, – опять начал он.
– Твоя плита нас обоих переживет. Из-за каких-то трех капель…
Он перебил ее:
– Я не об этой только кастрюле говорю, но ты даже в бачок воды не налила, вот распаяется, понесешь чинить, тогда увидишь, сколько с тебя сдерут.
Мать не ответила. Она развела руками, как бы извиняясь, потом подошла к стенному шкафу и достала две чашки. Отец подбросил в топку полено, посмотрел, хорошо ли тянет, потом повесил кочергу на медный прут, огибавший плиту, сел к окну и опять забубнил:
– Да еще не известно, найдешь ли хорошего жестянщика. Теперь война, почти всех забрали. Вот Анри Майю знал свое дело, это был мастер на все руки; но он умер, а как нынешний работает, я не знаю. Да и того, верно, тоже призвали…
Мать не слушала. Она начала молоть кофе. Сев на ступеньку лестницы, которая вела в комнаты, она поставила мельницу на свой черный в серых цветочках передник и зажала ее между коленями. Она медленно вертела ручку, рассеянно глядя куда-то вверх, в светлевшее с каждой минутой небо, с которого солнце сгоняло последние лиловато-розовые и желтые облачка.
Приступ кашля прервал речь отца. Он плюнул в печку, положил обратно конфорку, мать кончила молоть кофе, и на какое-то время снова стало тихо. Она поднялась со ступеньки и начала высыпать кофе в проволочное ситечко в кофейнике.
– Ну, что ты делаешь? – резко крикнул отец.
Мать вздрогнула. Быстро отдернув руку, она просыпала немного кофе на вылинявшую клеенку в белых и голубых квадратах, которой был накрыт стол.
– Как… как… что я делаю? Да… ты с ума сошел, так раскричался!
– Просто не знаю, что с тобой сегодня, ты же забыла положить цикорий.
Она вдруг почувствовала слабость, поставила на кофейник потемневший от времени деревянный ящичек из мельнички и пошла к шкафу за цикорием.
– Что со мной… что со мной… – повторила она, – я устала, ночью плохо спала.
Отец что-то буркнул и покачал головой.
– Думай, что тебе угодно, – сказала мать, – но вот увидишь, погода изменится, может, уже завтра дождь пойдет. У меня со вчерашнего дня руки и колени ломит. И грыжа разболелась.
– Это потому, что ты стирала. Каждый раз одно и то же.
– Никто другой за меня стирать не станет. За тебя тоже никто в саду копаться не станет. Что ты, что я, все равно. Сам отлично знаешь. Незачем сто раз одно и то же повторять!
Она насыпала в проволочное ситечко кофе с цикорием, чуть смочила кипятком, потом уже в дверях сказала:
– Посмотри, чтоб кофе не ушел, я пойду за молоком.
Теперь добрая половина сада была залита солнцем. Другую часть, ту, что выходила в сторону педагогического училища, еще окутывали голубовато-серые тени. Освещены были только верхушки деревьев. Но солнечный свет, где смелее, где более робко, уже пробивался повсюду, вроде тумана, который прохватывает даже сквозь одежду.
Поравнявшись с большой грушей, мать остановилась. Это было самое хорошее по своему положению место в саду. Отец устроил там два парника, так как соседний дом защищал этот угол от северного ветра. Солнце уже пригревало. Мать чувствовала его тепло у себя на руках, боль немного утихла.
Теперь по Школьной улице шли принарядившиеся люди. Шли чинно, с молитвенниками в правой руке, прижатой к груди. Вот прошли и дети, тоже с молитвенниками, но дети шли быстрее и на ходу подбрасывали ногой старую жестянку из-под консервов.
Мать проводила их взглядом. Ей хотелось крикнуть, чтоб они поберегли обувь, но она ничего не сказала. Когда они исчезли за углом лицея, она взяла бидон и пошла домой. Солнце припекало уже сильней. Мать заторопилась. Отец, верно, ждет, сидя перед пустой чашкой. Солнце светило все ярче, возвещая начало дня, мать следила за тенью, отступавшей к ограде училища, и все же ей казалось, что время вдруг остановилось, что сегодня утро никогда не кончится.
3
Позавтракав, отец отправился в сад. Мать вымыла чашки; подложила полено в плиту и тоже вышла. Она достала в чулане садовые ножницы и моток мочалы, заткнула его за пояс передника, потом надела сабо и пошла в конец сада. На полдороге между домом и сараем в этом году была разбита длинная грядка, где еще пышно цвели запоздавшие гладиолусы. Дорожка, ведущая к колонке, с одной стороны была обсажена циниями и фуксией, а с другой – розовато-лиловыми и белыми астрами, словно легким снегом припорошившими темную зелень самшита.
Мать занялась букетами – срезала цветок и, прежде чем переложить в левую руку, внимательно разглядывала. Она ходила от цветка к цветку, возвращалась обратно, искала яркое пятно, которого недоставало в букете, опять срезала цветы. Время от времени она клала ножницы на землю, вытаскивала за свободно болтавшийся конец мочалу из мотка и дважды обвязывала ею стебли.
Нарезав цветов на три букета, она положила их на железный столик перед домом, чтобы подобрать как следует. Срезала для оживления букетов еще несколько роз, потом налила воду в два ведра и поставила туда цветы.
Отец кончил кормить сеном кроликов и шел к дому, отряхивая ладонью свой синий фартук с большим карманом на груди.
– Для кого букеты приготовила? – спросил он.
– Для одной женщины из Монморо. Она обещала зайти за ними до обеда.
– А других дел у тебя не нашлось?
– Нет. А почему ты спрашиваешь?
Он слегка пожал плечами.
– Да вот, думаю, Жюльен приедет голодный, лучше бы поторопиться…
– Знаешь, ты мне надоел, – рассердилась она. – Он приедет не раньше двенадцати, а то и в час. Куда мне спешить!
Отец поджал губы, словно удерживаясь, чтобы не раскричаться. Он взялся за перила, шагнул на ступеньку и остановился, наблюдая за матерью, которая срезала еще три розы в нескольких шагах от террасы. Теперь она медленно шла к дому, рассматривая розы, и отец не выдержал:
– Мне-то что, делай, как знаешь, – сказал он. – Только помни, что кролик еще даже не разделан.
Она вставила розы в букеты и только потом подняла голову и сказала:
– Эх, Гастон, Гастон! С каждым днем у тебя портится характер. Хотела бы я знать, каким ты будешь через десять лет.
Отец поднялся на крыльцо.
– Не беспокойся, через десять лет меня уже давно черви съедят, – проворчал он себе под нос, – и ты наконец отдохнешь от меня.
Положив ножницы и моток мочалы на каменную скамейку, она посмотрела вслед отцу, который уже входил в кухню.
– Эх, Гастон, Гастон! Хоть бы что новенькое придумал! – вздохнув и покачав головой, пробормотала она.
Мать ополоснула руки в большом цинковом баке, стоявшем у лестницы под водосточной трубой, потом тоже пошла на кухню. Отец нагнулся над ящиком низкого буфета. Он достал длинный кухонный нож, косарь и небольшой заостренный на конце ножичек.
– Вот это дело, наточи их, – сказала мать.
Он взял брусок и принялся оттачивать лезвия, а мать тем временем положила на стол доску, а на нее красного, с перламутровым отливом уже освежеванного кролика, у которого только на лапках осталась серая шерстка.
– Вот это кролик так кролик, – сказала она. – Еще двух таких жирных надо будет зарезать до холодов.
– Мне бы хотелось оставить хорошего самца. Если война затянется, мясо подорожает, кролики будут в цене.
– Так ведь крольчих можно подсадить к соседскому самцу.
– Это как тебе угодно.
Теперь яркое солнце врывалось в окно и заливало стол. Через дверь, выходившую на север, в кухню струился более мягкий свет, от которого словно веяло голубоватой прохладой.
– Ну так как, сегодня приготовишь окорочки под белым вином, а из остального сделаешь на завтра рагу? – спросил отец.
– Конечно.
– В уксусе вымочишь?
– Понятно, вымочу.
– Я схожу за вином и очищу лук.
– Бриться не собираешься? – спросила она.
Отец машинально провел рукой по подбородку. На его загорелом, морщинистом лице поблескивала седая щетина.
– Вот наладим обед, тогда и побреюсь, – сказал он.
– Можно подумать, ты три дня не ел, – проворчала мать.
Он сморщил нос, от чего приподнялась верхняя губа с пожелтевшими от табака усами, но, так ничего и не сказав, вышел из кухни.
Как только за ним закрылась дверь, мать поморщилась и, устало махнув рукой, пробормотала:
– Господи боже мой, как они уживутся, как уживутся!
Она взяла кролика за задние лапки и несколько раз повернула его на доске. Она начала с окорочков, разняла хрустнувшие под ее рукой суставы, перерезала острым ножичком неподдававшиеся сухожилия. Затем взяла косарь и принялась за спинку.
Вскоре вернулся отец, в одной руке он держал графин красного вина, в другой запыленную бутылку, запечатанную желтым воском.
– Я взял вино двадцать девятого года; что останется от кролика, разопьем. Вино очень хорошее, но его у нас всего несколько бутылок.
– Ты прекрасно знаешь, что Жюльен к вину равнодушен.
– Просто не понимаю, стараюсь сделать как лучше, а все никак не угожу.
– Я же ничего такого не сказала.
Некоторое время оба молчали. Отец сел на балконе, положил в фартук три большие луковицы, головку чеснока и горсточку мелких луковок. Он очищал их от шелухи неповоротливыми заскорузлыми пальцами – пальцы были короткие и широкие, с почти плоскими ногтями. Мать время от времени тайком взглядывала на него, потом, убедившись, что он ее не видит, оборачивалась и смотрела на будильник, стоявший на буфете.
Для нее утро тянулось бесконечно долго. Она усердно работала, в то же время пытаясь представить себе дорогу. Но ничего не получалось. Она привыкла ездить в Доль поездом, и каждая платформа, каждая станция на этой линии была ей знакома; а вот шоссе она никак не могла вспомнить все целиком: некоторые участки выпадали из ее памяти. Например, между Дешо и Сельер… все эти леса так похожи между собой… Правда, встречаются отдельные фермы, деревни, но есть и такие места, где разбившийся велосипедист может несколько часов пролежать без помощи.
Отец встал, подошел к столу, положил на него очищенные луковки. Левой рукой он придерживал за концы фартук с шелухою, которую потом сбросил в ящик для дров.
– Зима будет суровая, – сказал он, – «лук в три шкурки одевается, значит, холод надвигается».
– Если война не кончится, туго придется бедным нашим солдатикам – поморозят ноги.
– Как же, кончится! – усмехнулся отец. – Я тебе уже говорил, что на этот раз провоюем дольше, чем в четырнадцатом.
– Тоже скажешь!
– Вот увидишь, увидишь.
Они помолчали. Отец засунул руки в карман на фартуке и следил за матерью, которая уже разделывалась с передними лапками кролика.
– В большой гусятнице тушить будешь? – спросил он.
– Как-нибудь и без тебя соображу, иди брейся.
Он еще немного помедлил, потом пошел за белым деревянным ящичком продолговатой формы, из которого вынул бритву, кисточку и ремень для правки бритвы. Налил горячей воды из бачка, добавил туда воды из лейки и начал намыливать щеки. Потом расстегнул воротник на рубахе, подвернул его, снял каскетку. На оконный шпингалет он повесил овальное зеркальце в деревянной резной рамке. Мать поглядывала на его лысину, лоснящуюся на солнце. Шея у отца была худая, уши оттопыренные, на голове росли отдельные седые волоски, которые он сбривал, как только они достигали двух сантиметров. Рукава сорочки были засучены выше локтя, и на худощавых руках под загорелой кожей, как узлы на веревке, выступали мускулы.
Было тихо, лишь покряхтывал огонь в плите и пел свою песенку бачок. Отец долго правил на ремне бритву, пробовал остроту лезвия на своей мозолистой ладони.
– Когда-нибудь порежешься, – сказала мать.
– Уже двадцать лет ты мне это говоришь, каждый раз, как я бреюсь.
– Вот помяни мое слово, когда-нибудь порежешься.
Он не ответил. Склонив голову на левое плечо, он через голову левой рукой подтягивал кверху кожу на правой щеке, по которой быстро и уверенно водил бритвой. Кончив бриться, он бросил в огонь клочок газеты, о который обтирал бритву, и пошел умыться, захватив тазик для бритья. Не успев утереться, он крикнул:
– Вон кто-то идет, это, верно, твоя кумушка за цветами пожаловала.
Мать вышла на порог, поглядела на дорожку, которая вела к калитке, и, вернувшись, на кухню, сказала:
– Да, это она.
– Смотри, только не застрянь на три часа.
Мать вытерла руки о тряпку, в которую был прежде завернут кролик, и, уже стоя в дверях, сказала:
– Главное, не злись. Твое ворчание на весь сад слышно, мне это неприятно.
– Женщины любят зря время проводить. Ума не приложу, как они с хозяйством управляются, и кто только за них работает, пока они болтают.
Покупательница уже подходила к дому, мать взглянула на будильник и шепотом прибавила:
– Помолчи. Сказала ведь, что торопиться нам некуда. Жюльен раньше двенадцати не приедет. Не будь таким нетерпеливым. Кролик быстро поспеет, мясо у него нежное.
Когда она, приветливо улыбаясь, сходила с крыльца навстречу покупательнице, до нее донеслось ворчание мужа:
– Я и не тороплюсь, да только я знаю, как это бывает. Не люблю есть наспех.







