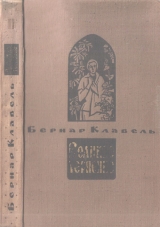
Текст книги "Тот, кто хотел увидеть море"
Автор книги: Бернар Клавель
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 19 страниц)
41
Солдат заснул в шезлонге, и мать тихонько прошла мимо, чтобы не разбудить его. Он морщился, когда на лицо ему садилась муха, которых много летало вокруг. Его неспокойный сон говорил об усталости. Мать постояла, посмотрела, потом пошла на кухню, Немного погодя появился Робен. Он принес новости. По радио сообщили об отставке Поля Рейно и о сформировании нового правительства.
Отец, видевший, как пришел Робен, поднялся на кухню вместе с еще не совсем проснувшимся Гийменом. Мать объяснила, кто это, и Робен сейчас же обратился к нему:
– По-моему, вы хорошо сделали, что удрали от немцев. Теперь, когда к власти пришли военные, война может затянуться.
Солдат казался удивленным и только что-то промычал.
– Могу я попросить у вас стакан воды? – обратился он потом к матери.
Она налила ему воды, а Робен пояснил.
– В кабинет, сформированный Петеном, вошли Вейган – министр обороны, адмирал Дарлан – морской министр и еще два генерала. – Он поглядел по очереди на всех трех и, улыбаясь, продолжал: – Не все еще потеряно. Неизвестно только, где дадут бой.
– Н-да, думаю, что сегодняшнюю ночь мне не удастся поспать в своей постели, – сказал Гиймен.
Он вышел. Они слышали, как он спускается по лестнице. Отец постоял у порога, потом отошел и сказал:
– Этот молодчик – воплощенная храбрость. Да, мы с ним здорово влипли. Интересно, сколько времени он будет сидеть у нас на шее!
– Неизвестно, может быть, он тянул из последних сил, – заметил Робен.
– Не такой уж он замученный.
– Замолчи, – вмешалась мать. – Замолчи, пожалуйста. Он нас не стесняет и, кажется, малый не плохой…
Отец перебил ее:
– Если ты собираешься пускать в дом всех не плохих малых, что шатаются по дорогам, места не хватит, даже если отдать им всю нашу лачугу.
– Ты не понимаешь, – сказала она, – не понимаешь.
– Чего я не понимаю?
Она опустила голову, глубоко вздохнула, и только потом спросила:
– А ты хоть постарался представить себе, где теперь наш Жюльен?
Отец повысил голос:
– Ты, может, думаешь, что я больше тебя спал сегодня ночью? Да за кого ты меня считаешь?
Он вдруг замолчал. Робен, видно, почувствовал себя неловко. Мать поняла, что муж не так уж раздражен, просто ему очень тяжело. Она пожалела о своих словах и придумывала, что бы такое ему сказать, но отец заговорил первый:
– А потом, я не понимаю, какое отношение имеет этот солдат…
– Имеет, имеет… Может быть… – Она не знала, как объяснить ему. Запнувшись на минуту, она быстро сказала: – Разве мы знаем, что будет с Жюльеном? Как знать, может, и ему тоже понадобится чья-то помощь…
Отец казался не в духе. Выражение лица было усталое. Отросшая борода старила его еще больше. Он поднял было руки и опять уронил их на колени.
– Просто уже не понимаешь, как теперь жить, что делать, – сказал он. – Что за жизнь, господи, что за жизнь!
Он вышел. И Робен тоже. Мать слышала, как они спускаются с крыльца. Сквозь спущенную штору она видела сад. Небо было облачное. Стояла жара. Жара и духота.
– Погода меня убивает, – пробормотала она.
Однако она отлично знала, что устала так сильно не только от духоты. Тяжесть легла ей на сердце. Некоторое время она боролась с искушением пойти в комнату к Жюльену и еще раз посмотреть на его рисунки, перечитать некоторые стихотворения. Теперь она думала уже не только о Жюльене, но и о больной девушке, такой похожей на портреты в его папке.
– Все-таки это очень странно, – повторяла она, – очень странно.
И теперь ей представлялось, что эта девушка занимала большое место в жизни ее сына. Столько было в его папке набросков, столько в тетради стихотворений, которые могли относиться только к ней.
Мать приготовила обед. Они поели почти молча. Она убрала со стола, вымыла посуду. И все время видела перед собой два эти лица.
Время от времени она почти безотчетно шептала:
– Почему он мне ничего не сказал?.. А может, это не так серьезно, как я думаю. Все-таки он почему-то столько раз рисовал ее. Неужели могут быть две женщины, до того похожие одна на другую? Ведь он ни разу не сказал мне о ней… Если бы он был с ней близок… Но он слишком молод… Ну, конечно, слишком молод…
И, разговаривая сама с собой, она чувствовала, что у нее все сильнее щемит сердце, все больше сдают напряженные нервы.
Ее так и тянуло к двери на лестницу, которая вела в комнаты. Наверху спал отец. Солдат в саду, должно быть, тоже спал.
Жара стала еще томительней.
Наконец мать вышла в сад. Воздух как замер. Небо, темное и взбудораженное, свинцовой тяжестью легло на холмы. Она обошла дом и посмотрела в сторону Нанси. Там тучи нависли еще ниже. Она ждала, застыв в неподвижности.
Время шло. Но вот точно шквал внес смятение в тучи. По холму пробежал трепет, и ветер обрушился на сад.
Сначала словно пронесся глубокий вздох, затем наступила тягостная, какая-то тревожная тишина. И ветер забушевал с новой силой. Послышались отдаленные раскаты грома – еще… и еще. Гроза быстро приближалась, вот первые крупные капли взметнули пыль.
Мать подняла голову. Закрыв глаза, она подставила под дождь пылающее лицо.
От земли поднимался знойный запах. Листья дрожали от налетавшего порывами ветра, от больно секущих капель.
Сверкнула молния. Мать увидела ее сквозь опущенные веки. Она открыла глаза и пошла домой. И тут же грянул гром, прокатился по склонам холмов.
Солдат нес шезлонг в подвал. Он смеялся.
Мать поднялась на крыльцо.
– Идите скорей, промокнете, – крикнула она.
– Ничего, это только полезно.
– Вы правы, – сказала она.
Он догнал ее на крыльце. Дождь лил как из ведра, стучал по толевой кровле. Из водосточной трубы вода со звонкой песней уже стекала в почти пустой цинковый бак.
– Это всем полезно, – сказал солдат. – И людям, и садам. Все изнемогли от духоты.
Мать поставила к двери два стула. Они сели рядышком, чуть отодвинувшись от порога.
Теперь ветер дул не так сильно. За частой сеткой дождя сад как будто отодвинулся дальше. Между деревьями иногда появлялась дымка. Отдельные капли долетали до середины крыльца.
Матери дышалось легче. Ей казалось, что небо льет бальзам на ее разморенное от усталости тело.
42
Когда отец встал, гроза уже кончилась. Дождь еще шел, и сад умывался, деревья отряхивались от капель, вздрагивая под последними порывами ветра. Черные тучи, изредка озаряемые короткими вспышками, уносили к Бресу еще не совсем отшумевшую грозу. Казалось, гром грохочет где-то высоко в небе.
– Хорошо полило, – сказал отец.
Мать поставила на каменный пол крыльца большой таз, наполовину полный воды, и корзинку сахарной свеклы. Острием ножичка отделяла она листья и бросала в кучу у своих ног, а свеклу разрезала на маленькие кусочки и клала их в таз с чистой водой. Солдат молча следил за ней. Когда пришел отец, он встал и прислонился к косяку двери. Но отец не сел. Он отодвинул стул и, стоя на пороге, смотрел в сад.
Так прошло несколько минут, потом мать вдруг подняла голову, прервав работу.
– Открыли калитку, – сказала она.
Они подождали. У калитки мелькнуло черное пятно: зонт и под ним человек. Слегка наклонившись вперед, черный зонт вступил на дорожку, ведшую к дому. Из-под него видны были только ноги. Подойдя к крыльцу, человек откинул зонт – Вентренье, член муниципалитета, помахал им рукой и поднялся на лестницу. Он остановился на последней ступеньке; все крыльцо было занято матерью, расположившейся там со своей работой. Она отодвинула корзину и таз.
– Входите, господин Вентренье, – сказала она, вставая.
– Входи, Юбер, – сказал и отец.
Член муниципалитета внимательно смотрел на солдата. Мать бросила нерешительный взгляд на отца, казавшегося смущенным. В конце концов пришлось заговорить солдату.
– Я из Вильфранша-на-Соне, мне не удалось вернуться домой, – сказал он просто.
Вентренье покачал головой; он взял стул и тяжело опустился на него.
– Мадам Дюбуа, я бы охотно опрокинул стаканчик, – сказал он.
Мать поспешила принести стаканы, вино и кувшин с холодной водой.
– Я выбиваюсь из сил, – сказал Вентренье. – Почти все члены муниципалитета уехали, просто не знаю, за что браться. – Он залпом выпил стакан, который налила ему мать. – Спасибо. Теперь легче стало, у меня даже нет времени ни выпить, ни на двор сбегать. Лучше бы я удрал, как все остальные.
Отец кашлянул, потом сказал:
– Ты хорошо сделал, что остался. Ты исполняешь свой долг, и этого не забудут. Подожди, еще будешь мэром, а потом депутатом.
– Самое подходящее время.
– Времена изменятся.
– Не шутите, папаша Дюбуа.
– Я не шучу. Я говорю то, что думаю и чего желаю. Ты не за страх, а за совесть трудишься на общую пользу, вполне естественно, чтобы тебя вознаградили.
Вентренье помолчал, почесал затылок, отпил глоток, затем, глядя в упор на отца и на мать, сказал с расстановкой:
– Послушайте, все мы сейчас в одном положении. Я работать не отказываюсь, но надо, чтоб меня поддержали люди доброй воли. – Мать сделала движение, и он заговорил быстрее и громче, смотря на нее в упор: – Подождите, дайте мне кончить. Я знаю, папаша Дюбуа утомлен и ему не под силу печь хлеб, знаю и то, что ваш сын уехал, но я хочу предложить вам следующее: если мне удастся найти крепкого малого, пусть даже не знакомого с этим делом, под вашим наблюдением, с вашей помощью…
Отец рассмеялся:
– Ты думаешь, печь хлеб все равно что орешки щелкать!
– Вы меня не поняли. Людям нечего есть; если вы им дадите неподошедший, непропеченный, скособоченный хлеб, они и то будут рады.
– Ты что, смеешься надо мной? – спросил отец, не повышая голоса.
– Нет, теперь ясно, вы не хотите…
– Хотеть мало, надо мочь!
Эти слова отец уже не сказал, а крикнул. Звук его голоса еще долго отдавался у них в ушах, затем наступило молчание. Матери, наблюдавшей за Вентренье, показалось, что он сейчас встанет и уйдет.
– В конце концов, Гастон, – робко обратилась она к мужу, – можно было бы последить за двумя-тремя выпечками, а потом как-нибудь и без нас справятся.
Отец нахмурил брови. Казалось, он подыскивает слова для ответа, и вдруг его прорвало:
– Ты хочешь, чтобы из хорошей муки черт знает какую мерзость делали и чтоб люди потом говорили: «Это Гастон Дюбуа такую дрянь выпек?» Ты хочешь, чтобы я добро портил в той самой пекарне, где я пятьдесят лет, не жалея сил, трудился и пек такой хлеб, за которым покупатели за двадцать километров приходили! Ты хочешь, чтобы в той самой булочной, где еще мой отец торговал таким хлебом, которого теперь, пожалуй, никто и не выпечет, я…
Приступ кашля помешал ему докончить. Все подождали, чтобы он отдышался. Отец сплюнул, взялся за грудь, из которой дыхание вылетало со свистом.
– Мне очень жаль… – медленно сказал Вентренье. – Если б я знал, что вы так рассердитесь, я бы никогда…
Отец махнул на него рукой, чтобы он замолчал.
– Не ты меня рассердил, а она, – сказал он, все еще тяжело дыша. – С твоей стороны такое предложение понятно, ты не знаешь. Но чтобы моя жена… это уж совсем другое дело!
Мать вздохнула. Она сдержалась и ничего не ответила. Вентренье собрался уходить, но отец взял его за локоть и принудил опять сесть.
– Послушай, голубчик. Я считаю, что я свой долг выполнил. Эта война меня не касается, мои годы уже не те. Да только я не сволочь.
Отец помолчал. Посмотрел на солдата, потом на мать, потом на Вентренье. Мать знала, что он сейчас скажет.
– Ты убьешь себя, – прошептала она.
Отец даже не посмотрел на нее. Сморщив лоб, насупив брови, он подошел к Вентренье, с которого не спускал глаз, и сказал:
– Найди кого-нибудь, чтобы носил мешки и вынимал тесто из квашни, в остальном мне жена поможет; она и прежде помогала. Будет тебе завтра хлеб.
Вентренье открыл было рот, чтобы поблагодарить. Но отец поднял руку.
– Но предупреждаю, это будет хлеб, а не глина, – он опять помолчал, потом сказал как бы про себя: – Такой хлеб, какого у нас в городе, пожалуй, уже давно не едали.
43
Передвигаться по дорогам между Лон-ле-Сонье и Вильфраншем было невозможно, и Гиймен предложил отцу свою помощь. В двенадцать ночи они пошли в булочную. После дождя посвежело, с востока, со стороны холмов, доносилось влажное дыхание ветра.
Они прошли садом, где с деревьев еще падали последние капли. Все блестело при свете электрического фонарика, который несла мать. Улица была погружена в мрак и тишину. За калиткой мать по совету Вентренье выключила свет. Отец не сразу нащупал замочную скважину. Как только они вошли, мать осветила коридор. Вентренье приходил в булочную и оставил у дверей кладовой, где хранилась мука, ключи от пекарни и прочих помещений.
Все трое молчали.
Мать посветила отцу, он отпер пекарню и повернул выключатель. Свет ослепил их; они остановились на пороге.
Мать внимательно смотрела на мужа. Она видела, как сморщился у него подбородок, как все лицо его стянулось в гримасу, которая слегка напоминала застывшую на полпути улыбку.
Он вошел.
Положил руку на деревянный разделочный стол между дверью и тестомесилкой. Так он простоял довольно долго. Мать держалась позади, не решаясь пройти вперед. По тому, как он не спеша поворачивал во все стороны голову, она поняла, что он осматривается, узнает каждый предмет. Отец прерывисто дышал, и плечи его приподымались при каждом вздохе. Наконец он оторвался от стола и через все помещение, длинное и низкое, с почерневшим потолком, прошел к печи, которая занимала всю заднюю стену. Отец слегка наклонился вперед. Левая рука сама невольно поднялась и легла на ручку с противовесом, чугунный заслон открылся; правую руку отец сунул в устье печи, словно пробуя, достаточно ли она нагрета.
Мать, может, сто, а может, и тысячу раз видела этот его жест; этот же самый жест, и всегда он делал его так же быстро и всегда так же отклонял голову влево, чтобы не стукнуться лбом о печь.
– Еще теплая, но все-таки придется повозиться, пока нагреется. Я ее знаю, знаю, какая она, если ей дать три дня отдохнуть… Мы ее чинили, так, я помню, пришлось четыре дня перед этим не топить.
Он снял куртку и верхнюю рубашку. Остался в одной нижней – фланелевой без рукавов. Его обнаженные, коричневые до локтя руки, выше были белые как кипень. Пучок седых волос, которыми густо поросла его грудь, выбился из выреза рубашки. Он снял и каскетку и повесил все на один из гвоздей, вбитых в дверь. Затем взял белый фартук, уже не первой свежести, встряхнул его и повязал вокруг пояса. Мать тоже надела передник. Гиймену, голому по пояс, отец дал мешок и веревку.
– Держите, – сказал он, – сойдет за фартук.
Он велел ему подвязаться веревкой, как поясом, предварительно перекинув через нее мешок.
– Если ты затопишь печь уже сейчас, тесто может перекиснуть, – заметила мать.
– Нет, – ответил он, – сегодня ночь, верно, будет прохладная, мы отворим дверь.
Гиймен носил дрова, а отец занялся топкой. Мать подавала ему поленья, он укладывал их на решетку так, чтобы не мешать тяге. Гиймен внимательно следил за всеми его движениями.
– Для своего возраста вы еще о-го-го какой, – заметил он.
Отец, не оборачиваясь, ответил:
– Все дело в привычке. Кто этим делом долго занимался, у того привычка останется, даже если несколько лет пройдет.
– И все-таки тяжело, дайте лучше мне.
– Дам, дам. Я только хотел тебе показать, – сказал отец.
Мать увидела, что Гиймен улыбается.
– Ты сказал Гиймену «ты», – заметила она.
Отец обернулся.
– Опять же это привычка. Я всегда говорил «ты» своим подручным.
– Но он же не подручный, – возразила мать.
– Все равно что подручный, – сказал отец, тоже улыбнувшись.
– Пожалуйста, – сказал Гиймен, – это же вполне понятно.
Отец вытащил из кармана зажигалку, потер колесико о ладонь, поджег газету и сунул ее под поленья. Пламя пробралось между кругляками, лизало кору. Вот оно притихло в нерешительности, снизилось, поползло вдоль решетки, потом вдруг метнулось вверх, зашипело.
Теперь оранжевые отсветы озаряли кирпичи, дрова трещали веселей; вскоре струя огня расширилась и осветила во всю ширину низкую и глубокую печь. Отец закрыл заслон, шипение и треск стали глуше.
– Ну, сейчас дело пойдет, – сказал он.
Мать, все время следившая, за отцом, не узнавала его. На лысине выступили капли пота, глаза блестели; казалось, он улыбается каждой своей морщинкой.
Отец взял пакет с дрожжами и теперь крошил их над тестомесилкой. Он с удовольствием втягивал кислый дрожжевой дух. Мать наклонилась над тестомесилкой, чтобы тоже вдохнуть этот запах. Они переглянулись. Отец улыбнулся. Она тоже улыбнулась, потом отвела глаза в сторону.
Мать принесла воду, а отец тем временем объяснил Гиймену, как взяться за мешок, разорвать бечевку и высыпать муку в тестомесилку. Затем на доске рубильника затрещали голубые искры, отец крякнул, помогая ремню сделать первый оборот, мотор загудел, и тестомесилка пошла вращаться.
К глухому ворчанию огня прибавились удары металлической лопасти, смешивающей муку с водой, гудение мотора, равномерное хлопанье ремня и дрожание оконных стекол.
Ночь ожила.
Мать стояла, прислонясь к стене, и обводила взглядом пекарню. Все было на месте: и полки, на которых подходит хлеб, и деревянные лопаты с длинными черенками, висевшие под потолком, и куча сложенных вдвое пустых мешков в углу, и большая тушилка из толя, и валек, по которому двигается черенок лопаты, когда сажают в печь или вынимают оттуда хлебы.
Так она простояла довольно долго, потом машинально подошла к стопке плетенок и начала подготовку: привычным движением взяла горсть желтоватой и чуть жесткой муки из отрубей и посыпала на кусок полотна, прикрывавший дно ивовой плетенки.
Отец следил за тестомесилкой. Он наклонялся, на ходу выхватывал правой рукой тесто, растягивал его и снова швырял в чан. Другой рукой он сжимал гладкий, блестящий край чана, умеряя скорость вращения. Его рука вибрировала; мускулы были натянуты, как веревка на пиле.
– Эх, не знаешь ты, как мы прежде работали вручную, совсем другое дело было. Тут одному было не под силу, – объяснял он Гиймену. – Восемь полных печей за день выпекали. А по субботам еще и бриоши. А когда кончали выпечку, я объезжал все подряд: Мессиа, Курбузон, Вернантуа. Я так уставал, что клевал носом, сидя на козлах. Но лошадь дорогу знала. Знала, где остановиться, а как она остановится, я и проснусь…
Мать уже не слушала. Она только смотрела на него. Она дожидалась минуты, когда отец опустит обе руки в чан, чтобы вынуть оттуда тесто, которое бросит потом в старую деревянную квашню на конце разделочного стола. Весы с двумя большими чашками стояли наготове; мать поискала глазами резак, взяла его в руку, словно хотела попробовать, тяжел ли он. На ручке еще осталось присохшее тесто, но стальное лезвие блестело. Она представила себе движение, которым подымет левой рукой раскатанное тесто, разрежет его правой, быстро взвесит и бросит на стол, где отец придаст хлебам форму, а потом она положит их в плетенки.
– Что мы будем делать? – спросила она. – Сейчас люди едят только штучный хлеб – булочки да батоны.
Отец пожал плечами:
– Нечего терять время на глупости. Места в печи они занимают много и продавать их канительно. Съедят и весовой. Испечем в два кило и в кило, половина на половину. Мы не неволим, кому не нравится, пусть идет в другую булочную.
Он опять наклонился к тесту, лишний раз пощупал его, потом, не останавливая вращения тестомесилки, открыл заслон в печи.
Яркое, дрожащее пламя озарило всю пекарню. На фоне огня четко выделялся силуэт отца с кочергой в руке. Он уже не производил впечатления сгорбленного – казалось, он просто наклонился вперед, весь отдавшись работе.
Закрыв заслон, он обернулся.
– В конце концов, если хочешь, можно сделать несколько длинных батонов в полтора кило, – сказал он с улыбкой, – но только для того, чтобы посмотреть, сохранилась ли еще у меня в руках сноровка, только для этого…
И, говоря так, он рассматривал ладони, словно уже подготовляя к работе это свое орудие производства.
44
Когда первая партия была в плетенках, а мука для второй – в тестомесилке, отец сказал Гиймену:
– Ты бы воспользовался минутой передышки и зарыл свое обмундирование в саду.
– Я пойду с ним, покажу, куда лучше зарыть, – сказала мать.
Они ушли вдвоем.
После света и жара от печи, ночь показалась им еще холоднее, еще темнее. Мать с фонариком шла впереди. Два раза она останавливалась.
– Что там такое? – спрашивал Гиймен.
– Ничего, – отвечала мать и шла дальше, но она была неспокойна.
Когда они взяли узел с обмундированием, мать погасила фонарик и в темноте, нащупывая ногой дорожку, пошла вперед, ведя за собой Гиймена, не знавшего, куда идти.
– Почему вы не светите? – спросил он немного погодя.
– Странный вы человек, – сказала она, – в городе как-никак немцы, могут увидеть, спросить, что мы тут делаем…
– По-моему, вы преувеличиваете. А главное, знаете, их здесь, должно быть, немного.
Но она так и не зажгла фонарика. Ночь подавляла ее. Чуть светлевшее небо легло на землю всей своей тяжестью. Вдали еще вспыхивали зарницы. В ветвях деревьев ворчал ветер.
Постепенно они привыкли к темноте, и мать отпустила руку солдата. Они зашли за густые ореховые кусты.
– Здесь нас не увидят, – сказала она. – И земля тут рыхлая, ее, должно быть, можно вскопать лопатой, особенно после сегодняшнего дождя.
Гиймен принялся за работу. Мать нагнулась к узлу, лежавшему на земле. Пощупала добротный материал.
– Придется все-таки вырыть довольно большую яму, – сказал Гиймен. – Уже и сейчас она не маленькая.
– Послушайте…
Она запнулась.
– Да? – спросил он.
– Ей-богу, по-моему, жалко закапывать в землю такой материал. Я думаю, зароем каску, пожалуй, еще и поясной ремень, а все остальное…
Она опять замялась. Гиймен стоял, опершись на лопату; он был ей чуть виден.
– Остальное перешьете, – сказал он. – И точка. Отпорете пуговицы и петлицы, и как еще все это вам пригодится.
Так они и сделали. Зарыли каску, поясной ремень и фляжку, сравняли землю, а узел мать унесла в спальню. Она спрятала обмундирование Гиймена в шкаф, а сверху наложила белье. Ничего плохого тут нет, она была уверена, что действует правильно. Все равно бы пропало. А теперь все-таки не совсем пропало. Но на душе у нее все время было тревожно.
– Должно быть, я и вправду больна, что так всего боюсь, – бормотала она, – да больна, по-настоящему больна.
Гиймен дожидался ее на кухне, где она оставила зажженную коптилку. Когда мать вошла, он сдвинул брови и подошел поближе, чтобы лучше разглядеть ее.
– Что с вами, – спросил он. – Вы больны?
– Больна?
– Не знаю, может, это от лампы, но вы бледная-пребледная.
– Просто немного устала, – сказала она.
Они вышли в сад. Мать поежилась. Странная ночь. Все вокруг как будто живет, но какой-то тревожащей жизнью. Нет, это не только ветер внес во все такое беспокойство. Деревья, росшие по обе стороны дорожки, мать хорошо знала. Она слушала их разговоры, их жалобы при всех ветрах, во все времена года, но этой ночью они по-особому гнулись и стонали, по-особому задевали ее на ходу…
Мать сдерживалась, уж очень ей хотелось взять Гиймена под руку, ухватиться за него покрепче. Она не зажгла карманного фонарика. На этот раз впереди шел Гиймеи. Он остановился, и она наткнулась на его спину. И вдруг что-то внутри у нее как защелкнулось.
– Жюльен… это…
Она извинилась. Он опять шел впереди. Мать – все так же за ним, но теперь она знала, отчего ей так тяжко.
– Где он? – бормотала она. – Где он?
Мать чувствовала боль. Настоящую физическую боль. Что-то твердое и острое вонзилось ей между ребер, разбередило тело, добиралось до сердца. Она поднесла руку к груди, боль не унималась, точно ножом резали по живому месту. И все время она силилась подавить слова, которые жгли ей грудь:
«Иногда, когда ранят ребенка, мать в ту же самую минуту чувствует боль… Такие случаи известны… Говорят, что иные матери даже умирали… Неужели его могут убить?.. Подумать только, война пришла к нам, немцы пришли к нам, и ничего страшного не случилось… Он хотел остаться, а я… я сама его выгнала».
Свет из пекарни проникал во внутренний двор, погруженный во тьму. Мать очнулась. Гиймен уже вошел в пекарню. Она была на пороге. Отец стоял к ним спиной. Носовым платком в белую с синим клетку он обтирал лицо, лысину и даже шею, по морщинам которой стекал пот. Наконец он обернулся и еще раз провел платком по лицу. Лоб он что ли вытирает? Мать подошла ближе. Отец сунул платок в карман штанов. Печная лампа плохо освещала его, и мать подошла совсем вплотную.
– Что с тобой? – спросила она. – Ты обжегся?
– Да нет, нет, ничего.
Он отвернулся. Она ваяла его за локоть, но он резким движением выдернул руку, тогда она быстро сделала два шага и стала перед ним. Теперь свет падал ему прямо в лицо. Глаза были совсем красные, на ресницах висели две слезинки. Он помигал, и слезинки скатились по щекам и застряли в усах.
– Да скажи же, в конце концов, что с тобой? – спросила она.
– Ничего! – оборвал он ее. – Ну чего ты пристала. Просто от жары и отрубей глаза разъело… Отвык уже, вот и все.
Он опять быстро отвернулся, но мать успела заметить, как сморщился его подбородок. Да и голос как-то неестественно дрожит.
– Ладно, – сказал он, – первую партию можно сажать в печь. Подашь мне несколько хлебов, чтобы показать Гиймену, как это делается, а потом попробует он.
Мать встала с правой стороны от устья печи, отец тем временем принес кастрюлю с водой, которую поставил около заслона на край металлической доски. В губах он зажал маленькое, очень тонкое стальное лезвие. Он снял с гвоздя лопату, черенок ударился о подставку, и лопата тихонько легла перед заслонкой, которую отец открыл левой рукой. Лампа, освещавшая печь внутри, была на месте. Он зажег ее, и свод выступил из тьмы.
Мать взяла первую плетенку, перевернула ее на лопату и сейчас же снова подняла. Подошедшее тесто дрожало на деревянной лопате, отец обмакнул лезвие в воду и коротким резким движением руки едва коснулся теста. И, однако, на хлебе медленно открылись чуть более бледные края крестообразного надреза. Отец уже опять держал лезвие в губах. Лопата двинулась вперед, деревянный черенок, казалось, сам скользит в его шершавой ладони.
Мать, держа наготове следующую плетенку и наклонившись вперед, смотрела на хлеб, быстро исчезавший в глубине печи, там, где кажется, будто серый свод сходится со слегка приподнятым подом. Отец сделал короткое резкое движение кистью руки, и хлеб остался на поду, а лопата вернулась обратно еще скорее, чем скрылась в печи. Мать опрокинула вторую плетенку, лезвие начертало крест, лопата опять скрылась в печи… Вскоре работа пошла в более быстром темпе. Все движения были точно согласованны, будто ими управлял единый механизм.
– А что, если мне попробовать подавать вам хлебы? – предложил Гиймен.
– Нет, попробуешь, когда будем сажать следующую партию… Печь не так нагрета, как обычно, я предпочитаю не терять ни минуты, – держа лезвие в губах и не выпуская лопаты из рук, пробормотал отец.
Гиймен не настаивал.
Мать чувствовала, что капли пота выступили у нее на лбу, что пот стекает ей на грудь. Она все тем же размеренным движением опускалась или подымалась на цыпочки, чтобы снять с полок плетенки и выложить тесто на лопату. Никто не разговаривал. Только деревянная лопата шаркала по кирпичному поду, черенок стукал по подставке, да отец прерывисто дышал – других звуков не было.
Мать работала все в том же темпе, не думая, что делает. Все время она видела слезящиеся глаза мужа, где-то внутри у нее отдавался его дрожащий голос.
Она старалась что-то припомнить.
Когда все хлебы были посажены в печь, она выпрямилась и, держась за бок, подошла к двери. На улице все еще было темно. Прохлада, струившаяся с крыш в глубине двора, приятно освежала тело, словно прозрачной водой ополаскивала рот и горло.
Мать обернулась. Отец опять отирал пот, но в глазах у него уже не стояли слезы.
Теперь мать вспомнила: она уже видела, как он совершенно так же морщил подбородок, так же часто-часто мигал; она слышала, как дрожал его голос каждый раз, как он рассказывал ей о том времени, когда жил здесь со своими родителями, которых она не знала. Теперь она была твердо уверена, что в ее отсутствие отец плакал. Она поняла, что он оплакивал канувшую в вечность пору жизни, скорбел о прошлом.
У матери больно кольнуло сердце, и вслед за тем по всему телу разлилась другая, более мягкая, почти приятная боль. В первую минуту ей хотелось крикнуть мужу, что он эгоист, что ни о ком, кроме себя, он проливать слезы не станет. Она сдержалась. Она следила за ним, а он подошел к тестомесилке, разговаривая с Гийменом. Он действительно состарился, сильная усталость чувствовалась в каждом движении его тела, в каждой черточке его лица.
Тогда мать взяла ведро и вышла во двор. Из крана, нарушая тишину ночи, потекла вода; мать нагнулась, подставила руки под ледяную струю и как следует смочила себе лицо.
Когда она вернулась с полным ведром, мужчины подготовляли следующую печь.
Мать остановилась на пороге. Несколько раз она быстро втянула воздух, затем уже вздохнула медленнее и глубже. Отец обернулся. Их взгляды встретились, и ей показалось, будто муж улыбается. По тому, как он сморщил лицо, она поняла, что он тоже вдыхал аромат свежевыпеченного хлеба, к которому примешивался запах горящего сухого дерева.







