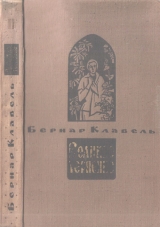
Текст книги "Тот, кто хотел увидеть море"
Автор книги: Бернар Клавель
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 19 страниц)
45
Ночь прошла быстро. У Гиймена, сметливого и привычного к физическому труду, работа спорилась.
– Из тебя вышел бы хороший подручный, – сказал отец.
Мать несколько раз спрашивала мужа, не очень ли он устал, но он только усмехался:
– Ты что, воображаешь, будто я так стар, что уже и в пекари не гожусь?
Однако по его лицу видно было, как он устал. Мать все время поглядывала на него, прислушиваясь к его учащенному дыханию, временами похожему на хрип.
В восемь утра пришел Вентренье. Он поблагодарил их.
– А как будете распределять хлеб? – спросил отец.
– Вот в том-то и дело, что не знаю, – сказал Вентренье со смущенным видом.
– Как не знаешь? Ты, может, думаешь, что мы еще и продавать будем?
Вентренье почесал подбородок и повернулся к матери.
– Я не думал, что вы проработаете всю ночь, – сказал он, – и собирался вас просить…
Отец перебил его:
– Ишь ты, какой прыткий, ты, видно, нас с женой за богатырей считаешь! Это что же – и днем и ночью? Смеешься, нам уже не по двадцать лет.
– Да, видно, придется мне что-то другое придумать.
Он вышел во двор, постоял, вернулся обратно и спросил:
– У вас еще на сколько времени осталось?
– Право, не знаю, – ответил отец. – Думаю еще одну печь сделаем.
– А две не могли бы? – робко спросил Вентренье. – Работают только три булочные. При распределении хлеба подымется такая сутолока. Обязательно надо подыскать людей, да таких, чтобы можно было на них положиться.
Он ушел. Гиймен, который только что отнес корзину с хлебом в булочную, вернулся в пекарню.
– У булочной, должно быть, много народу стоит – барабанят в дверь и в ставни, галдят.
– Вот увидишь, это еще все на нашу голову, – заметил отец.
– Пойду посмотрю, что там делается, – сказала мать. – Никто ведь не знает, что хлеб пекли мы.
– Посмотри, не стоит только выходить на улицу, – заметил отец, – ступай на второй этаж, из окна в коридоре все видно.
Она поднялась по узенькой каменной лестнице, по которой не ходила уже много лет. Прежде она каждый вечер около десяти вечера подымалась по ней, чтобы лечь спать. В это же время она будила мужа, и он спускался на всю ночь в пекарню. В конце коридора было окно с закрытыми ставнями. Мать подошла и посмотрела в щелку, но народ стоял у самой стены, поэтому ей слышен был говор, а видела она только край тротуара и часть мостовой. Надо было отворить окно. Она потихоньку повернула шпингалет, но, когда толкнула ставни, вероятно давно не открывавшиеся, створки распахнулись с таким треском, что мать вздрогнула. Все же она выглянула в окно и сейчас же опять спряталась. Однако ее уже увидали. Раздались голоса:
– Мадам Дюбуа, все знают, что хлеб выпек ваш муж, откройте лавку!
– Мадам Дюбуа, это я, Мари Филипар…
– Это я, мадам Ружен…
– Откройте, мы уже целый час стоим.
Она выглянула еще раз, только на минутку, но успела заметить, что людей очень много. Теперь уже кричали все сразу. Она ничего не ответила, но, прежде чем закрыть ставни, махнула рукой.
Даже закрыв окно и отойдя в коридор, слышала она их голоса, сливавшиеся теперь в один непрекращавшийся крик:
– А… а… а!..
Сойдя вниз, она увидела, что дверь на Школьную улицу открыта, она подумала, что Вентренье, уходя, забыл ее затворить, и уже направилась туда, как вдруг услышала крики в пекарне. Она вернулась во двор.
– Нет, – говорил отец, – чем ты лучше других?
– Не становиться же мне в хвост, ведь я был один из первых.
– Надо было стоять на месте и не лезть с заднего хода.
Мать подошла ближе. Кричавший стоял спиной к двери, но она сразу узнала его. Он служил в газовой конторе и проживал где-то в стороне Монсьеля. Он был высокий и худой, на вид ему можно было дать лет сорок.
– Что случилось? – спросила она.
Он обернулся.
– А, это вы, мадам Дюбуа. Понимаете, я стоял в очереди вместе со всеми. Я был даже одним из первых и вдруг вижу Вентренье. Он говорит: «Пойду скажу, чтоб открывали». И завернул на Школьную, а потом пришел и говорит, что откроют еще не так скоро. Тогда я сообразил, что он вошел с заднего хода. – Он засмеялся. – Я дорогу по запаху нашел.
Отец перебил его.
– С какой стати давать ему хлеб? Хорошенькое дело, если все сюда полезут…
– Это верно, но раз уж он здесь… – сказала мать.
Мужчина усмехнулся.
– Видите, с вашей женой всегда договоришься! – кинул он отцу.
Отец побледнел. Он наморщил лоб, взгляд его сделался колючим. Он шагнул вперед и стал между матерью и корзинами с теплым хлебом, которые Гиймен еще не успел отнести в булочную.
– Нет, – сказал он. – С какой стати? Это было бы несправедливо.
Мужчина обратился к матери:
– Послушайте, мадам Дюбуа, ведь и другие булочные есть. Дайте мне три хлеба, и дело с концом.
– Ничего не получишь, – отрезал отец. – Мы даже не знаем, как распорядится Вентренье, по скольку отпускать на человека.
Мужчина презрительно усмехнулся. Он пожал плечами и направился к двери.
– У вас никто и не просит. Всем известно, что вы жадина! – крикнул он.
Отец бросился к нему. Схватил за плечо и насильно повернул к себе.
– Ты, может, большой и сильный, но я еще могу тебе показать, как пекарь выставляет за дверь бездельников!
Мужчина, сделав усилие, почти высвободился и уже поднял руку, но тут отец другой рукой схватил его за запястье и так скрутил ему кисть, что тот завертелся на месте и взмолился:
– Пустите, вы сломаете мне руку!
– И поделом, – буркнул отец.
– Пусти, Гастон! – крикнула мать. – Ну чего ты, пусти!
Привлеченный шумом, из лавки прибежал Гиймен.
– Что случилось?
– Ничего, – сказал отец, – один такой выискался, хотел пролезть без очереди. Слушай, ты помоложе, проводи-ка его к выходу; а если он будет валять дурака, не стесняйся, поддай ему коленкой под зад.
Отец разжал пальцы. Мужчина потер руку, отошел на несколько шагов и только тогда крикнул:
– Вы еще за это поплатитесь, так и знайте!
– Ори, ори, дурак!
Мужчина отошел еще на шаг, прикинул на глаз расстояние, которое отделяло его от них, и визгливо крикнул.
– Старый хрыч! Упрямый осел!
Отец шагнул к нему, но тот уже убегал во всю прыть своих длинных ног. Более проворный Гиймен догнал его и дал ему коленкой под зад, как раз когда тот переступал порог. Отец рассмеялся и вернулся в пекарню. Тут на него вдруг напала дрожь, и мать поняла, что эта ссора отняла у него последние силы.
– Не понимаю, дал бы ему хлеба, – сказала она, – подумаешь, большое дело!
– Знаю, но он не попросил вежливо.
– Тоже мне, обязательно, чтобы вежливо…
Отец посмотрел на нее и сел на мешок с мукой.
– Принеси воды, – сказал он.
Она вышла во двор, налила под краном воды в стакан и вернулась в пекарню. Следом за ней пришел и Гиймен.
– Ты устал, – сказала она. – По-моему, ты зря взбеленился.
Отец медленно выпил весь стакан, не спеша обтер тыльной стороной руки губы, потом посмотрел на мать.
– По-твоему, зря, ну а я таких вещей не выношу. Я ему говорю, чтоб он стал в очередь, как и все, а он говорит: «А вы как – тоже будете стоять в хвосте, чтобы было чем закусить? Что-то не похоже!»
Гиймен расхохотался:
– Ишь ты какой важный выискался. Правильно сделали, что выгнали его вон.
– Ну конечно, только может и не стоило, – заметила мать.
Отец посидел еще немного, затем, успокоившись, прибавил:
– А потом, не люблю бездельников. Он бездельник, работает в газовой конторе и только и знает целый день разгуливать по городу и всюду опрокидывать стаканчик. На мой взгляд, он лентяй.
– Ага, так прямо и скажи, что есть в тебе такая дурость, – заметила мать, – когда не взлюбишь кого, кончено.
– Может, ты и права, – сказал отец, – но он лентяй, с меня этого достаточно, чтобы выставить его за дверь.
Она больше не возражала. Опять наступило молчание. В конце концов отец обратился к Гиймену:
– А потом ясно, что ему грош цена, раз он в его возрасте скушал от такого старика, как я, и только утерся.
Матери хотелось ответить; но, подумав, она решила смолчать. Она видела, что Гиймен улыбается, глядя на отца.
Отец тоже улыбался. Он казался уже не таким усталым, у него как будто даже поблескивали глаза, вроде как в ту пору, когда она с ним познакомилась.
46
– Иди, садись сюда, – сказал отец.
Гиймен устроился на куче пустых мешков, прислонившись спиной к подпорке для полок. Отец сидел между ним и столом. Мать тоже села на мешки, немножко поодаль. Она отрезала три куска сыра. Отец взял остывший круглый хлеб из второй партии. Посмотрел на него, взвесил на руке и, сжав между ладонями, послушал, как хрустит корочка. Мать не спускала с него глаз. От ночной усталости, от работы, от раздражения не осталось и следа. Он все еще держал свой хлеб и никак не мог решиться его разрезать. Поглядывал то на мать, то на Гиймена, а потом опять переводил взгляд на поджаристую корочку. Одной рукой любовно поглаживал эту корочку, нащупывал шероховатости, проводил пальцем по надрезам, сделанным лезвием, когда хлеб сажали в печь.
Гиймен незаметно подмигнул матери. Она поняла: он так же, как и она, чувствует, что сейчас переживает отец.
Наконец, глубоко вздохнув, отец решился. Все еще прижимая к груди хлеб, он вытянул ногу, чтобы достать из кармана нож. Открыл его, стукнув концом ручки об угол стола. Но и тут еще помедлил, прежде чем взрезать корку, несколько крошек с которой упали на каменный пол.
Отрезав горбушку, отец пощупал мякиш кончиком пальца, приблизил хлеб к свету, чтобы лучше рассмотреть разрез. Потом протянул первый кусок Гиймену.
– У тебя хорошие зубы, вот, получай горбушку. Знаешь, корка твердая, посмотрим, как она тебе понравится.
Затем он отрезал по ломтю себе и матери. Гиймен, уже начавший есть, медленно жевал.
– Ну как, сынок, что скажешь? – спросил отец.
– Да, вот это хлеб! – сказал Гиймен, покачал головой и блаженно улыбнулся.
– Теперь будешь знать, какой он – наш хлеб. – Отец повернулся к жене. – А ты что не ешь?
Она кивнула головой, отломила кусок и взяла в рот. Она съела его без сыра, медленно пережевывая, смакуя. Отец ждал, в его взгляде отражалось беспокойство.
– Да, давно я не ела такого хлеба, – сказала она.
– А ведь мука не первосортная. Дело в том, что надо потрудиться. Теперь у них все тяп-ляп и готово. Этак хорошего хлеба никогда не выпечь.
Он тоже начал есть. Все его лицо улыбалось. Морщинки и те уже не были грустными. Каждый раз, как он, жуя, сжимал челюсти, подбородок подтягивался вверх, рот чуть вваливался, усы приподымались, но он уже не казался стариком, потерявшим силы, уставшим за долгую жизнь от изнурительной работы. Он держал нож лезвием вверх, и, отрезав кусочек хлеба и кусочек сыра, клал их в рот.
Мать налила вина. Вино было прохладное. Отец разбавил его водой, Гиймен выпил так. Мать пила воду.
– А ты не хочешь вина? – спросил отец. – Даже после такой работы?
Она отрицательно покачала головой. Отец не стал настаивать. Он поел, попил и тогда начал рассказывать Гиймену:
– Понимаешь, это такой хлеб, как пекли до той войны. Я-то и после так же работал. Другие булочники смеялись надо мной. Они, пожалуй, были правы – люди разучились ценить. Говорят: «Подумаешь, хлеб и хлеб, не все ли равно». Ну и черт с ними, а, по-моему, хлеб хлебу рознь. И вот сам видишь – ты не булочник, а все-таки признал, что такой хлеб не каждый день ешь.
– Ясно, разница есть, – согласился Гиймен.
– Так вот, понимаешь, в семнадцатом году, когда я был освобожден от службы и назначен в пекарню, я всегда выпекал хороший хлеб. Я считал, что для фронта…
Он прервал свою речь – в пекарню вошел Вентренье.
– Черт возьми, у меня уже слюнки текут, – сказал Вентренье, взглянув на ломти хлеба и сыр.
– Не стесняйся, ешь сколько душе угодно.
Кончиком ножа отец показал ему на хлеб.
– Не столько душе, сколько желудку.
– Ты что, голоден или, глядя на мой хлеб, разлакомился? – спросил отец.
Вентренье рассмеялся.
– Идя сюда, я не был голоден, – признался он, – но когда увидел хлеб с такой поджаристой коркой и таким ноздреватым мякишем, у меня засосало под ложечкой.
Отец был счастлив, его просто распирало от удовольствия.
– Знаете, я сразу вспомнил то время, когда у вас была булочная и я приходил к вам за хлебом.
Отец покачал головой.
– Ты тогда еще пешком под стол ходил.
– Нет. Я всегда покупал двухкилограммовый хлеб, а по дороге съедал довесок.
Мать сполоснула свой стакан и налила вина Вентренье; он ел и похваливал. Отец, кончив закусывать, открыл заслон и заглянул в печь.
– Сейчас будет готов, – сказал он. – Еще одна партия и конец. – Он повернулся к Вентренье. – Нашел кого-нибудь, чтоб продавать?
– На улице хвост стоит, – сказала мать. – Кончится тем, что разобьют ставни.
Отец рассказал про служащего из газовой конторы. Вентренье посмеялся.
– Вы правы, человек он нестоящий… Но, если я вас верно понял, мне тоже надо пойти стать в хвост.
Отец пожал плечами.
– Балда, – проворчал он. – Чем глупости говорить, поискал бы лучше человека, чтобы можно было открыть лавку.
Вентренье вздохнул. Вздохнул глубоко, как перед трудным разговором. Наконец он решился.
– Послушайте, – обратился он к матери, – давайте мы с вами вместе… Мне не удалось никого найти, ну просто никого.
– Не заливай, – оборвал его отец.
Вентренье не сказал ничего. Он взял нож, отрезал совсем маленький ломтик, откусил кусочек, прожевал.
– Господи, такой хлеб, да с ним и подошву слопаешь, – пробормотал он.
Мать поняла, что муж старается рассердиться, но ничего не выходит. Он даже не крикнул, только сказал:
– Знаешь, ты нам в печенки въелся.
– Ну, конечно, знаю. Но мне тоже не сладко. – И, помолчав, Вентренье добавил: – Скажу только, продавать такой хлеб – это же честь…
Отец перебил его:
– Да ну тебя! Не расхваливай, а то подумаю, что ты надо мной издеваешься!
Все четверо расхохотались. Затем Вентренье взял мать под локоть и направился с ней в лавку.
– Идемте, идемте, мадам Дюбуа, – сказал он. – Как видите, иногда и война может доставить случай порадоваться. Я уверен, что папаша Дюбуа уже давно не смеялся так от всего сердца.
– Да, это верно, – сказала она. – Что и говорить, верно…
Они спустились на две ступеньки в комнату за лавкой и, когда оттуда прошли в булочную, вкусно пахнувшую теплым хлебом, мать пробормотала:
– Ах, если бы я только знала, где сейчас мой сынок!
47
Не успели открыть булочную, как толпа ринулась туда. Но Вентренье пользовался уважением, ему удалось быстро навести порядок. Прошел час, а хлеб еще оставался и покупатели приходили уже по одному, вроде как в обычное время.
Мать и тут, сама того не сознавая, все тем же привычным и до сих пор еще не позабытым движением, клала хлеб на чашку весов и, не спуская глаз с движущейся стрелки, подымала резак. Когда стрелка останавливалась, она сразу определяла, какой кусок надо добавить для полного веса; рука опускалась, корочка хрустела, и хлеб мягко шлепался на прилавок. И каждый раз, как добавлялся довесок, стрелка показывала точный вес.
Когда основная толпа покупателей схлынула, Вентренье спросил мать, не побудет ли она в лавке одна.
– Идите, идите, – сказала она, – до двенадцати не закрою, но скоро вернуться не обещаю, все-таки надо вздремнуть, да и продавать-то, должно быть, мало чего останется.
Он уже собрался уходить, когда мимо лавки проехал немецкий грузовик с солдатами. Мать указала на них подбородком и спросила:
– А если они придут, как быть?
Вентренье вздохнул, пожал плечами и, немного подумав, сказал:
– Ничего не поделаешь, придется обслужить.
– А если они не заплатят, тогда как?..
Она замолчала, вошел покупатель. Он, верно, понял, о чем шла речь, и с усмешкой сказал:
– Боитесь, что возьмут хлеб и не заплатят? Эх, темнота! Не беспокойтесь, мамаша, пожалуй, еще вдвое заплатят. Во-первых, чтобы показать, какие они хорошие: для пропаганды. А потом им это не дорого стоит, у них, можно сказать, каждая полевая кухня тащит на буксире прицеп со станком для печатания денег.
– Так оно, верно, и есть, – подтвердил Вентренье. – Говорят, они много покупают.
– Да только, если они надолго сядут нам на шею, наши деньги фукнут. Все к черту, девальвация! Воображаю, какие кислые рожи скорчат те, кто поднакопил деньжонок. – Он взял хлеб и, уходя, прибавил: – Мне наплевать, у меня в кубышке ничего нет.
– Вы его знаете? – спросила мать после его ухода.
– Нет, верно, беженец, у него как будто парижский выговор. Но то, что он говорит, не лишено смысла, – сказал Вентренье, направляясь к двери.
– Значит, придется продавать им хлеб? – еще раз спросила мать.
– Сам знаю, что не легко, а как быть? Я же должен был присутствовать, когда они пришли в префектуру. Думаете, мне было весело? Они победители, приходится с этим считаться. Пока… пока мы слабее их, – чуть слышно пробормотал он и сжал кулаки.
Он открыл дверь, потом опять захлопнул, вернулся к прилавку и посмотрел на мать.
– Я вас знаю, мадам Дюбуа, – сказал он. – Вы сумеете продать хлеб врагу и сохранить собственное достоинство. Но не прошло и четверти часа после их прихода, и уже нашлись люди, которые сами шли к ним, напрашивались на разговоры. И мужчины и женщины брали от них сигареты, ребята канючили шоколад. Я из окна видел. – Он подождал и, прежде чем уйти, прибавил: – Моя бы власть, я бы отвел душу – дал бы этим людям коленкой под зад.
Вентренье ушел.
Оставшись одна, мать села на высокий табурет. Положив обе руки на потемневший от времени прилавок, она долго сидела так. Она думала о Жюльене и в то же время вспоминала ту пору, когда еще держала булочную. И в лавке, как и в пекарне, ничто не изменилось. Те же железные полки, те же медные перекладины, те же матовые стекла в двери на кухню. Ей даже захотелось открыть эту дверь, но она не сочла себя в праве. Несколько минут она боролась с сильным желанием вернуться в то навеки ушедшее время.
«Как жаль, что нельзя вернуться в прошлое… Смешно… я просто дура».
Приходили еще покупательницы. Те, которых мать знала, задерживались на минутку, перекидывались несколькими словами. Одна из них рассказала, что маршал Петен запросил Германию, на каких условиях она согласится прекратить военные действия.
– Значит, скоро конец?
– Возможно, что да.
– А как вы думаете, те, что уехали, скоро вернутся?
Покупательница ничего не могла сказать. Никто ничего не мог сказать.
Затем пришли два немецких солдата. Один сказал:
– Хлеб.
Мать протянула им круглый хлеб. Они засмеялись. Тот, что спросил хлеба, порылся в памяти и наконец сказал:
– Маленький… маленький.
– Нет, – сказала мать, – у нас только такой. Хотите берите, не хотите – не надо.
Они все еще посмеивались. Оба были молодые. Высокие. На бритых головах – пилотки. Мать стояла перед ними. Лицо у нее было замкнутое, сердце сильно билось. Немец долго искал нужное слово в карманном словарике:
– Делить, – сказал он и вытащил штык.
Мать невольно отшатнулась, они расхохотались. Она быстро опомнилась. Взяла хлеб в одну руку, а другой махнула на штык:
– Нет-нет, уберите эту мерзость.
Ножом-гильотинкой она разрезала хлеб пополам. Пока она взвешивала, солдат опять листал свой словарик, потом показал на нож:
– Квалифицированный!
Оба немца снова захохотали, а мать проворчала:
– Психи какие-то.
– Ja, – сказал солдат. – Ja![1]1
Да! (нем.)
[Закрыть]
Потом они спросили шоколада, этого в лавке не было. Солдаты заплатили и ушли.
Как только за ними захлопнулась дверь, мать опустилась на табурет. Ее бросило в жар, руки дрожали.
Не успела она прийти в себя, как вошел новый немец. Он был старше тех двух и пониже ростом. Лицо круглое, одутловатое, каштановые волосы, черные глаза. Войдя, он приложил руку к пилотке.
– С добрым утром, мадам.
Он улыбнулся матери. Она ждала. Его взгляд стеснял ее. Немец молчал, и тогда она спросила:
– Что вам угодно?
– Я бы хотел получить хлеб. Французский хлеб, вкусный, как пряник.
– Сколько вам?
– Вот этот.
Он показал на двухкилограммовый. Мать положила хлеб на весы.
– Мне всегда очень нравился хлеб во Франции, – сказал солдат. – В Париже, до войны, в булочных продавали очень вкусные рогалики.
Мать сдерживалась, чтобы не вступить в разговор. Когда она взвесила ему хлеб, он достал кошелек:
– Сколько с меня?
Она сказала. Немец заплатил, но не ушел, он облокотился на прилавок и посмотрел на мать. Спустя несколько мгновений, показавшихся матери целой вечностью, она спросила:
– Вам еще хлеба?
Он покачал головой. Выражение его лица стало напряженнее. Он медленно сказал:
– Нет, хлеба мне хватит… Но до войны, когда я покупал в Париже хлеб, булочница в придачу… дарила меня улыбкой.
Мать опустила глаза.
– Вам что, запретили разговаривать с немецкой сволочью? – подождав минутку, спросил солдат.
Она почувствовала, что краснеет, и взглянула на него. Вид у него был смущенный.
– Простите, – сказал он. – Вы не хотите разговаривать со мной, и, возможно, у вас есть на то основания.
Мать чувствовала, что на глазах у нее выступили слезы.
– Может быть, у вас на фронте сыновья?
Она отрицательно мотнула головой. Теперь слезы текли уже по щекам.
– Да, понимаю… – сказал солдат. – Мне очень жаль, что я стал невольной причиной ваших слез.
Она видела его, как сквозь туман. Он взял хлеб под мышку и направился к двери. Когда он дернул ручку, она почти машинально крикнула:
– Мосье!
Он остановился.
Молчание.
– Да? – сказал он.
– Мосье, можете вы сказать, что теперь будет?
Он сдвинул брови.
– Что будет… то есть как что?
– Я хотела знать, что будет, ну, вот, скажем, с молодыми людьми, которые уехали, а потом захотят возвратиться домой.
Солдат улыбнулся. Он подошел к прилавку, положил хлеб. Левая сторона его зеленой куртки была уже вся белая от муки.
– Через несколько дней будет подписан мир, – сказал он. – Ваши сыновья смогут вернуться. Я понимаю вашу тревогу, но не волнуйтесь, им нечего нас бояться. Уверяю вас.
– Спасибо, – сказала мать, – большое спасибо… мосье.
Ей захотелось сказать ему что-нибудь приятное. Так, вдруг, ни с того ни с сего. Может быть, просто из благодарности. И она прибавила:
– Вы очень хорошо говорите по-французски.
– Да, довольно прилично. Я преподаватель французского языка. Учился в Париже. Во время отпуска каждый год ездил во Францию.
Солдат взял хлеб. Он протянул через прилавок правую руку. Мать, почти не колеблясь, протянула ему свою. Он слегка поклонился и пожал ей руку.
– До свидания, мадам, – сказал он и пошел к двери.
– Мосье, вы позабыли довесок, – сказала мать и подала ему кусок хлеба.
– A-а, видите ли, я очень рассеянный. «Довесок», «довесок», этого слова я не знал. Спасибо, мадам.
Он еще раз приложил руку к пилотке и ушел.







