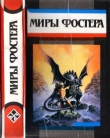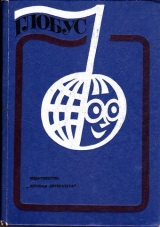
Текст книги "Глобус 1976"
Автор книги: авторов Коллектив
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 26 страниц)
зарубками жердь. В шалашике мы нашли связку сетей и пучок сушеной рыбы. Такие лабазы в тайге
обычно сооружаются для хранения припасов.
На другой день я с Виктором Александровичем отправился на одном каноэ для съемки озера. Теп-
лый и солнечный день обещал приятную поездку. Выехав на середину, мы увидели вдали на востоке,
за озером, силуэты высоких горных склонов, края которых тянулись далеко на север к Норильску и на
юг к Курейке, а в середине темнела глубокая горная долина, уходящая на восток. Очевидно, там-то и
должно лежать то легендарное озеро Кутармо, из которого, по словам таежных жителей – долган, и
вытекает Хантайка.
Наше озеро оказалось мелководным с массой каменистых и песчаных островков. Берега сильно
изрезаны бухтами и заливами, настолько мелководными, что местами к берегу и на нашей лодочке не
подъехать. В глубине одного из заливов на северо-востоке озера мы заметили слабое встречное
течение. Проехав вперед, обнаружили, что залив переходит в рукав шириной метров 50 с чистым
галечным дном, где течение выражено уже совершенно отчетливо. Вероятно, это и есть дальнейшее
продолжение или нашей Хантайки, или одного из ее рукавов, ведущего к озеру Ку-тармо.
Открытое нами озеро мы назвали Малым Хантайским. Оно имело сильно изрезанные очертания,
тянулось с запада на восток и в поперечнике достигало около 15 километров. Следов присутствия
человека по берегам мы нигде не обнаружили. Зато птиц всех родов было великое множество, и
притом совершенно непуганых. Если плыть тихо, то к стайкам молодых гусей и уток можно было
подобраться вплотную, а в глухих заводях удалось полюбоваться и лебедями. На каменных островках
разместились колонии чаек, которые, наоборот, вели себя очень агрессивно. При нашем приближении
вся колония с шумом и гамом поднималась в воздух и начинала демонстрацию фигур высшего
пилотажа. Птицы пикировали нам на головы, делали вольты, вновь взмывали и опять мчались вниз.
Успокоились они только тогда, когда мы отплыли подальше от их гнездовья.
Закончив наши исследования, мы отправились дальше к озеру Кутармо. Путь к нему лежал через
открытую нами протоку. Она вскоре перешла в обширный плес. Мы уже думали, что въезжаем в
озеро, но вот русло опять сузилось, пошли галечные острова, отмели, где ориентироваться стало
нелегко. Пропу-тавшись среди них, вышли наконец из этого архипелага в спокойное расширение – и
долгожданное Ку-тармо внезапно открылось перед нами во всей своей необъятности и
величественной красоте. Да! Это достойный исток такой реки, как Хантайка.
Замыкаясь в амфитеатре гор, озеро уходило далеко на восток в глубь гигантской горной долины,
теряясь в ее дымке. День был солнечный, и темная синь горных склонов подчеркивала изумрудную
зелень воды. Горы начинались не здесь, а дальше, километрах в десяти, тут же берег был пологий,
галечный. Здесь мы и разбили свою палатку.
Озеро оказалось шириной около тридцати километров, а длиной не меньше ста. Было бы очень
интересно изучить его полностью, так как никто из исследователей на нем еще не бывал, но время
стояло уже позднее, вторая половина августа, а нам предстоял длинный и нелегкий обратный путь по
порогам. Поэтому мы решили осмотреть горы только в приустьевой части озера и повернуть обратно.
Горы здесь оказались сложенными покровами базальтовых лав и туфов. В основании у подножия кое-
где выходили на поверхность песчаники, углистые сланцы, такие же, как в Норильске. Значит, вероятно,
здесь должны быть и угольные пласты.
20 августа мы повернули обратно. Путь был уже знаком, и потому наши суденышки продвигались
значительно уверенней.
Мне еще раз пришлось убедиться в крепости и устойчивости каноэ. Спускаясь по течению и
рассматривая берега, я не заметил, что очутился в опасной близости к водопаду. Быстрое течение
подхватило и понесло к нему, выгребать к берегу было поздно, а попасть в водопад бортом – опасно.
Оставалось одно – сильней грести по струе прямо в водопад и проскочить его с маху. И действительно,
лодка птицей взлетела на гребень каскада, поднялась в воздух, шлепнулась в чашу водослива, проскочила
вал и вышла на спокойную воду. Все произошло в считанные секунды! Братья Корешковы, которые были в
это время на берегу, с изумлением взирали на мой номер.
Они тоже загорелись желанием испытать свою ловкость. Я стоял на берегу и фотографировал их в тот
момент, .когда каноэ взлетало на гребень волны. Все сошлись на одном: полет совершенно безопасен.
Надо только твердо держаться основной струи и сильнее выгребать, чтобы дать лодке максимальный
разгон.
Дальнейший путь уже не представлял труда. 12 сентября мы были в устье Хантайки, в конце месяца —
в Дудинке. Путешествие по Хантайке заняло больше двух месяцев. На веслах, бечевой и пешком мы
прошли более семисот километров, преодолев пять порогов и бесчисленное множество перекатов, лесных
завалов и береговых скал. Составили карту Хантайки, выяснили, что геологическое строение берегов реки
близко к строению пород, залегающих в районе Норильска. Наконец, мы обнаружили признаки угольных
пластов и руд.
Эта экспедиция убедила меня,что и с малыми средствами, при минимальном составе людей можно сде-
лать многое.
* * *
ЛЕДНИКИ НА КАМЧАТКЕ
На Камчатке имеется свыше 400 ледников, хотя льдом покрыто всего лишь 0,5 процента ее территории. Длина многих из
этих ледников достигает нескольких километров.
МНОГО ЛИ ЭТО – 5 С?
Услышав по радио, что среднегодовая температура где-то оказалась выше или ниже многолетней на несколько десятых
градуса, мы часто недоумеваем стоит ли говорить о такой малости?..
Но ведь даже Великое Оледенение, охватившее миллионы лет назад Европу, было вызвано вовсе не катастрофическими
изменениями климата. Ученые подсчитали, что, если среднегодовая температура понизится всего на пять градусов,
существующие ледники и теперь могут разрастись так, что постепенно займут всю Северную и Среднюю Европу.
А. Заблоцкая
НАУЧНЫЙ ПОДВИГ
ДЕКАБРИСТОВ В СИБИРИ
В мае 1826 года закончилось следствие по делу декабристов. Верховный уголовный суд, послушный
воле царя, должен был вынести жестокий приговор вольнодумцам: смертную казнь одним, тюремное
заключение другим, сибирскую каторгу третьим.
Единственный из членов суда, кто осмелился протестовать против смертной казни над декабристами,
был адмирал Н. С. Мордвинов. Он был также единственный, кто заботился об облегчении участи осуж-
денных. Еще до вынесения приговора Мордвинов обратился к царю с неожиданным проектом. Он предло-
жил организовать из «государственных преступников» в Сибири некую Академию наук. «Получив блестя-
щее образование, они обладают всеми необходимыми данными, чтобы вновь стать людьми, полезными
государству», – писал Мордвинов.
Действительно, все необходимые данные у декабристов были. Это были лучшие, «истинно благород-
ные» и истинно образованные люди: инженеры, экономисты, естествоиспытатели, моряки, механики,
историки, поэты и писатели. До восстания их голоса молодо и громко звучали в литературных и научных
журналах. На заседаниях тайных обществ они горячо обсуждали проекты политического переустройства.
Их научная, литературная, политическая работа должна была содействовать обновлению страны... Неудача
14 декабря прервала деятельность декабристов в России...
«Государственные преступники, – писал далее Н. С. Мордвинов, – могут стать в Сибири
преподавателями... «положительных наук»: механики, физики, химии, минералогии, земледелия. Эти
науки «облагодетельствуют» Сибирь, которую природа так щедро наградила дарами. Декабристы же
смогут вновь «возродиться для общественной пользы».
Николай I категорически отверг этот проект. Его намерения были совсем иными. Он хотел уничтожить
всякую память о декабристах, заставить забыть об их существовании. Более ста осужденных были
закованы в кандалы и по этапу отправлены в Сибирь. Им было запрещено как-либо напоминать о себе.
По тем временам Сибирь, в представлении даже образованных людей, была страшным местом, ка-
ким-то «мрачным ледяным адом» (по словам современника), откуда, «как с того света, возврат был
невозможен». С XVIII века некоторые пункты Сибири были только местом политической ссылки.
Декабрист Басаргин, узнав, что его остальная жизнь должна пройти «в отдаленном и мрачном краю»,
решил, что все его «отношения с миром кончены».
Вот несколько подробностей сибирской жизни С. Г. и М. Н. Волконских, взятых из воспоминаний
внука. Не было в том месте, где Волконские жили на поселении (близ Иркутска), ниток – шить
приходилось рыбьими кишками. Не было зубного врача – Мария Николаевна сама должна была при-
жечь себе зуб раскаленным гвоздем. Аптек не было; медикаменты, выписанные из Петербурга, прихо-
дили, когда надобность в них уже пропадала. В такой обстановке только почта могла доставить мину-
ты радости, но ждать ответа на письмо приходилось по полгода. «Сибири хладная пустыня» – эти
строчки, посвященные Марии Николаевне, встречаем мы в черновиках поэмы Пушкина «Полтава»; в
чистовом варианте – «твоя печальная пустыня».
Но в этой стране, где по нескольку месяцев морозы в – 40°, Мария Николаевна занималась
садоводством; в этой обстановке, где, казалось бы, все силы отданы непрестанной борьбе за жизнь,
она занималась музыкой; собирала гербарий для петербургского доктора, составляла
минералогические коллекции для сына.
Муж ее, Сергей Григорьевич, летом по целым дням пропадал на работах в поле; зимой посещал
базары в городе, где толковал со знакомыми крестьянами об их нуждах и ходе хозяйства.
И Волконские – не исключение. Такую стойкость и великую силу воли проявляла не одна Мария
Николаевна. Такое стремление войти в жизнь населения, понять его нужды и быть ему полезным
было присуще не одному Сергею Григорьевичу.
Декабристы лечили местных жителей, обучали грамоте и воспитывали их детей; изобретали
сельскохозяйственные машины и занимались огородничеством, выращивая впервые в Сибири огурцы
и арбузы, кукурузу и дыни, возделывали фруктовые сады.
Местное население, по словам современника, с благодарностью и восторженно вспоминало
декабристов «вплоть до третьего поколения включительно». Для них самих такая жизнь была
средством сохранить себя, сохранить «свое политическое существование за пределами политической
смерти» – вопреки воле и предписаниям царя.
Занимались декабристы в Сибири и научной деятельностью.
В начале XIX века Сибирь была еще плохо изучена. Правительство недостаточно ясно
представляло себе ту роль, какую могла играть далекая неосвоенная страна в жизни России. Изучение
Сибири вели в основном местные жители. Едва ли не самыми активными среди них были
декабристы.
По мере того как проходило время, появлялся интерес к месту, куда забросила судьба; менялось от-
ношение к стране, где многим из них пришлось провести большую часть жизни. «Я не могу не
сказать несколько слов об этой замечательной стране, писал Басаргин, бывшей предметом
долговременных моих наблюдений и размышлений».
Разнообразный и богатый край, величественная, дикая природа Сибири, племена, ее населяющие,
и их своеобразный быт привлекали внимание невольных путешественников. В их письмах и
литературных произведениях рассеяны многочисленные впечатления о Сибири.
Картины сибирской природы мы найдем в «Записках» А. Е. Розена. Он обладал острой
наблюдательностью и свежим умом, составлял свои «Записки» точно и аккуратно – в тюрьме, на
поселении, во время переезда из одной страны изгнания в другую. Со страниц его «Записок»
предстает северная полоса Сибири, «где полгода сряду не показывается солнце... где земля вечно
холодная... где нет огородов, нет посевов, – там все малоросло, все угрюмо, все печально, все хо-
лодно»; Восточная Сибирь, гористая, прорезанная реками, воды их «быстры, чисты, прозрачны»; За-

падная – более равнинная, «где реки текут лениво, вода мутная». Здесь и Байкал, или Святое море, с
высокими волнистыми берегами, и картины большого почтового тракта, и губернские города, села,
деревни. ..
В Буреинской тайге. Рисунок из атласа экспедиции 1855 – 1859 гг.
Особой страстью к природе отличались братья Борисовы. Младший, Петр Иванович, был
необыкновенно скромным и кротким человеком, глаза его искрились добротой и прямодушием. Он 30
лет ухаживал за своим старшим братом, Андреем Ивановичем, у которого в ссылке развилась
психическая болезнь – он боялся людей и никогда не выходил из дома. Оба брата были вы-
дающимися натуралистами и ботаниками среди декабристов. Они прекрасно изучили растительное и

пернатое царство Сибири. В первый год жизни в Нерчинских рудниках, поселенные вместе с пятью
товарищами в темную, грязную, вонючую конуру, где не только нельзя было двигаться, но спать
приходилось в три яруса, они во время редких прогулок по берегам Аргуни собирали цветы и
занимались зоологическими изысканиями. «Они набрали множество букашек разных пород, красоты
необыкновенной, – вспоминал Оболенский, – хранили и берегли их и впоследствии составили
довольно порядочную коллекцию». Эту коллекцию они отправили позже знаменитому профессору
Фишеру, директору Ботанического сада в Петербурге.
Старший брат, несмотря на болезнь, сам придумал новую классификацию насекомых, аналогичная
которой потом, гораздо позже, была предложена в Парижской Академии и принята ею.
Младший, Петр Иванович, необычайно искусно рисовал животных, птиц и насекомых. Он сделал
акварельные виды всех растений и почти всех птиц Забайкальского края. «Я бы желал, – писал Н.
Бестужев сестре, – чтобы ты посмотрела его альбом, в котором нарисованы все цветы и все птички
этой стороны». Альбомы эти (их два) сохранились. Это кожаные черные альбомы с золотой
надписью: «Птички». Каждая «птичка» изображена именно на том дереве, на котором она чаще
встречается; именно в той позе, которая для нее наиболее свойственна. Портреты птиц отличаются
необычайной виртуозностью и точностью исполнения.
В сентябре 1854 года Петр Иванович внезапно умер во сне от удара. Андрей Иванович, осознав
смерть брата, пришел в такое отчаяние, что вскоре покончил с собой. «Два брата опущены в одну
могилу», – писал Волконский Пущину.
Трагически сложилась судьба научных трудов П. И. Борисова. Известно, что его большой труд «О
муравьях» хранится в Историческом музее в Москве. Но неизвестно, где находятся и сохранились ли
вообще другие научные труды Петра Ивановича – по археологии, философии, истории, —
обнаруженные после его смерти; неизвестно, где коллекции насекомых Забайкалья, отправленные
когда-то из Петровского завода в Москву; неизвестно, какие именно экземпляры забайкальских
растений были посланы в Ботанический сад Фишеру. Таков результат политики Николая I в от-
ношении декабристов – полный запрет на их имена и труды.
Впервые фамилия братьев Борисовых была упомянута в ученом труде только в конце XIX века.
Как ни странно, не в труде по сибирской фауне и флоре, а в первом климатологическом Атласе
России. Его выпустил в 1881 году директор Главной физической обсерватории Вильд. «Г-н Борисов,
политический ссыльный, – читаем мы на странице 317 Атласа, – наблюдал в Чите с октября 1827 г.
по июль 1830 г. (после того он наблюдал в Пет-ровске)...»
Оказывается, братья Борисовы занимались и метеорологическими наблюдениями. И не только они,
но и многие другие декабристы -Якубович и Митьков, Беляев и Якушкин, братья Бестужевы – в
Чите, Петровске, Красноярске, Се-ленгинске, Ялуторовске – изучали климат Сибири.
Декабрист П. И. Борисов.
Это было время всеобщего увлечения климатологией. По всей России создавалась сеть
метеорологических станций. В 1829 году ученый Купфер представил Академии наук проект создания
Главной физической обсерватории. И хотя Пулковская обсерватория была открыта только через 20
лет, Россия все-таки опередила в этом другие страны Европы. «Мы никоим образом не можем
признать почетным для нас, – писал английский ученый,-что мы допустили нации, и в особенности
Россию, опередить нас».

В тот момент, когда особенно важным было накопление фактов, конкретные наблюдения декабри-
стов, проведенные в Сибири, сыграли огромную роль.
Наблюдениями декабристов пользовались русские и иностранные ученые, приезжавшие в Сибирь
с экспедициями. Не было ни одной экспедиции, в которой декабристы не приняли бы участия.
В 20-е годы Сибирь посетили прусский ученый Эрман и лейтенант норвежского флота Дуэ для
астрономических и барометрических определений и для изучения земного магнетизма. Они знали о
неудавшемся восстании 1825 года, знали, что его участники «искупали свою вину» в тундрах и
рудниках Сибири. Мысль встретить этих людей на Дальнем Севере не оставляла их.
Декабрист И. Я. Якубович.
Неожиданной была встреча Дуэ с Матвеем Ивановичем Муравьевым-Апостолом, жившим на посе-
лении в Вилюйске. Матвей Иванович вспоминал, как в тот момент, когда он в юрте мысленно беседо-
вал с сестрой по-французски, почувствовал, что кто-то вошел в юрту, но не оглянулся и вдруг
услышал за спиной французскую фразу: «Господин Муравьев, я уже давно жажду вас видеть». Они
провели неразлучно три дня.
«Я отдал ему парку (так называемый самоедский [Устаревшее наименование ненцев и нганасан] костюм),
– вспоминал Муравьев-Апостол, – он состоит из двух шуб, сшитых из оленьего меха... К этому
придал я целый мешок сердоликов, собранных мною во время прогулки по берегам Вилюя».
Муравьев сообщил Дуэ о соляном источнике близ Вилюйска. Он предложил французскому путе-
шественнику челюсть мамонта, обнаруженную в земле при постройке юрты. Ученый с радостью
принял подарок, намереваясь поместить его в музей норвежской столицы.
Продолжая свое путешествие по Лене, Дуэ -встретился и подружился с другими декабристами.
Заикин, бывший прекрасным математиком, взялся проверить сделанные Дуэ астрономические
наблюдения. Андрееву Дуэ предложил совершить вместе с ним поездку вдоль берегов Олекмы, где
находились залежи слюды, – ее употребляли на севере вместо стекол в оконных рамах. Они отъехали
от Олекминска верст на 150. Но эта поездка не прошла бесследно. Был послан донос; в результате
пострадал и Андреев, и лицо, разрешившее эту поездку, так как декабристам было запрещено
удаляться от мест поселения более чем на 15 верст. Как видим, научная деятельность декабристов
встречала многочисленные препятствия.
Характерная история произошла со ссыльным С. М. Семеновым.
В 1829 году по приглашению русского правительства совершил путешествие по Сибири
знаменитый немецкий ученый Гумбольдт. Из Петербурга было предписано всем местным властям
отряжать чиновников для сопровождения ученого. Генерал Сен-Лоран назначил сопутствовать
Гумбольдту по всей Омской области декабриста Степана Михайловича Семенова. Бывший доцент
Московского университета, человек ШИРОКО образованный и деятельный, Семенов оказался, веро-
ятно, очень полезен экспедиции. Во всяком случае, Гумбольдт счел нужным упомянуть о нем в беседе
с царем, сказав, что сопровождавший его в Сибири чиновник оказался человеком весьма
образованным. Узнав, что этим чиновником был декабрист Семенов, царь сделал выговор Сен-
Лорану, а Семенову велел довольствоваться должностью канцелярского служителя.

Вид северо-восточной оконечности озера Байкал. Из материалов русской экспедиции 1855 – 1859 гг.
«При той любви и заинтересованности к краю, которую обнаружили декабристы, при их научной
подготовке, – писал советский ученый М. Азадовский, – могло возникнуть целое движение, мог бы
появиться целый ряд описаний и ис-ледований страны, способных далеко вперед двинуть ее
изучение. Этого однако не произошло». Главная причина – жестокая система запретов со стороны
правительства. Наиболее тяжелым для декабристов был запрет печатать свои статьи и исследования.
В 1836 году в Сибирь было послано специальное предписание шефа жандармов Бенкендорфа,
запрещающее «кому-либо посылать свои сочинения, как не соответствующие положению пре-
ступника».
В Центральном Архиве Восточной Сибири хранится «Дело о дозволении государственному пре-
ступнику Якубовичу заняться некоторыми сочинениями для г. Мид-дендорфа». Начато 17 марта 1843
года, закончено 14 сентября 1844 года.
А. Ф. Миддендорф, известный естествоиспытатель и путешественник, в начале 40-х годов посетил
Енисейскую губернию по поручению Академии наук. Эта экспедиция, очень трудная по исполнению
и блестящая по научным результатам, была одним из замечательных событий в географическом
изучении Восточной Сибири. Одной из главных задач экспедиции было изучение животного и
растительного мира Крайнего Севера, а также изучение зоны вечной мерзлоты. Совершая первую
часть путешествия, из Красноярска по Енисею в Таймырский край, Миддендорф встретился с
декабристом Якубовичем, жившим между Енисейском и Туру-хан-ском в селе Назимово. Обрадо-
вавшись образованному человеку, он обратился к Якубовичу с просьбой составить статистическое
описание волости, собрать некоторые горные породы золотоносных речек, произвести
барометрические и метеорологические наблюдения. Якубович охотно согласился это сделать, но
должен был получить разрешение властей. В результате возникло «Дело о дозволении...». Генерал-
губернатор Восточной Сибири писал местному губернатору, что Якубович «может заняться этим», но
сочинения его по каким бы то ни было вопросам напечатаны и изданы не будут.
Из официальной переписки известно, что декабрист передал Мид-дендорфу только
метеорологические наблюдения и собрание флоры. Остальные материалы он вынужден был
уничтожить, так как, не имея возможности передвигаться по местности, не мог проверить эти ма-
териалы и сделать их общий свод.
Миддендорф опубликовал метеорологическую таблицу Якубовича в труде «Путешествие на север
и восток Сибири». Наблюдения в селе Назимове проводились с апреля 1843 года сначала без
термометра и ограничивались общими замечаниями о погоде: «мороз», «пурга», «снег»; затем, с 14
июня, указывались температура, направление и сила ветра. За таблицей следует примечание
Миддендорфа: «Наблюдатель Якубович, из числа ссыльных, уже полтора месяца страдает водяною
болезнию усилившеюся до того, что уже наблюдать более не может».
Когда в августе 1845 года губернатор Восточной Сибири запросил местного губернатора,
собирается или нет Якубович представить Мид-дендорфу какое-либо сочинение, то в сентябре
получил ответ: «Государственный преступник Якубович умер от грудной горячки».


Таковы характерные и грустные обстоятельства научных изыск ний А. И. Якубовича.
И все-таки, несмотря на запрет царя и жандармского отделения, некоторые статьи декабристов
проникали в печать еще при их жизни.
В 1854 году в «Вестнике естественных наук» была напечатана без подписи статья «Гусиное озеро».
Автор ее был известный декабристский деятель Николай Александрович Бестужев. Он обладал
выдающимся умом и разнообразными талантами. «Золотая голова», «золотые руки», – говорили о
нем декабристы.
До Сибири он писал серьезный научный труд, «Историю русского флота». В Сибири занимался
искусствами и разнообразными ремеслами. Был замечательным инженером и механиком, ювелиром и
оружейным мастером, слесарем, токарем, сапожником. Не прекращал и литературной деятельности.
Ко всему был еще выдающимся этнографом.
В большом очерке «Гусиное озеро», который печатался в «Вестнике» из номера в номер, Н.
Бестужев описал историю озера, названного Гусиным из-за несметного количества диких гусей на его
берегах и воде; дал сведения о местной флоре и горных породах; рассказал о бурятах, кочующих по
его берегам, воспроизвел их обычаи и нравы; первый записал их причудливые поэтические сказки;
первый из исследователей заговорил о бурятском народе без оттенка пренебрежительности. «Что же
касается до умственной способности бурят, то, по , моему мнению, они идут наравне со всеми
лучшими племенами человеческого рода», – писал Н. Бестужев в очерке. Для нас сейчас эта мысль
естественна и бесспорна. Но Н.Бестужев говорил об этом в середине XIX века, когда многим, даже
прогрессивным ученым казалось, что «дикие», «нецивилизованные» племена по самой своей природе
не способны к развитию. Совсем иным было отношение декабристов к местным племенам.
«Якуты крайне правдивы и честны, лукавства в них нет и воровства они не знают», – замечал
Муравьев-Апостол.
«Тунгус беден, но честен и гостеприимен, – писал А. Бестужев.-Живучи день до вечера одной
ловлей, он нередко постится дня по 3, ничего не убив, но готов разделить последний кусок с
путником».
Среди поселенцев Сибири декабристы отмечали русских, поражались их одаренностью,
трудолюбием, умением приспособиться к местным условиям.
Как этнографы декабристы оставили богатый материал. Они могли тесно соприкоснуться с
местным населением и изучить такие подробности быта, какие приезжим этнографам узнать не
удавалось.
Коренные жители Сибири – самоеды. Рису-
нок из описания путешествия академика А.
Миддендорфа.
Одежда самоедов.
«Живу около 10 лет в Забайкальском крае, – писал Кюхельбекер в Петербург, – и все,
заслуживающее внимания, я... старался узнать как можно подробнее». Он записывал песни, сказки,
местные слова и выражения, предполагая написать несколько этнографических очерков. Один был
написан и отправлен для опубликования в Петербург, но запрещение декабои-стам печататься,
предписанное Бенкендорфом, пресекло дальнейшие попытки Кюхельбекера.
Этнографом Якутии и активным собирателем якутского фольклора был Александр Бестужев. Он
говорил ученому Эрману, что наблюдения той удивительной обстановки, в которой он находится,
единственное утешение для него и что остаток жизни он хотел бы посвятить изучению языка и
устного народного творчества якутов. Он не успел выучить язык – слишком недолго, всего полтора
года, жил он в Якутии, слишком короткой была его оставшаяся жизнь. Но он успел собрать якутский
фольклор, познакомиться с бытом якутов. В его сибирских очерках и письмах обрисованы различные
стороны жизни якутов – их охота, рыбная ловля, торговля, езда на собаках; их предания, поверья и
религиозные обряды. Вот как описывает А. Бестужев один из обрядов, совершаемых на якутском на-
родном празднике «иссых»: «Три шамана приближаются к огню... волосы их падают по плечам. Они
умоляют духов не насылать падежа и болезней. Голос их то пронзителен, то рокотен; бубны звучат
повременно; и каждый из них, черпнув ложкою кумыса из огромных деревянных кубков (аях),
брызжет им на огонь. Это умилостивительное возлияние...»
Мы рассказали лишь о части той большой работы по изучению Сибири, которую провели
декабристы. Сообщаемые ими сведения были очень ценны, как первая попытка ознакомить русское
общество со страной, о которой у него были самые превратные представления, и в тот момент, когда
интерес к Сибири стал пробуждаться и в России и в Европе.
В лице декабристов Сибирь нашла своих исследователей – ботаников и зоологов, этнографов и
метеорологов, писателей и поэтов. И хотя запреты царя и полиции были жестоки, декабристам все-
таки удалось создать в Сибири своеобразную Академию наук, о которой писал царю Н. С.
Мордвинов.
* * *
СОЛЕНЫЕ ВЕТРЫ
На каждый квадратный километр Нижнего Поволжья за год выпадает 47 тонн соли. Откуда же она берется? Оказывается,
из Каспийского моря. Ветер поднимает с его поверхности в атмосферу тысячи тонн соли. При скорости ветра 6 метров в
секунду над Каспием повисает 45 тысяч тонн солей; если же скорость увеличивается до К) метров в секунду, количество
солей возрастает до 160 тысяч тонн. А ведь это 60 железнодорожных составов!
А. Муранов
ЧЕЛОВЕК, ОТКРЫВШИЙ
„ЧЕТВЕРТОЕ ЦАРСТВО ПРИРОДЫ"
Творчество поэта, диалектика философа, искусство исследователя – вот материалы, из которых слагается великий
ученый.
К. А. Тимирязев.
Этого человека еще при жизни увенчала своими лаврами мировая слава. Друзья и товарищи
называли его великим ученым.
Слава бывает разная. Трескучая и крикливая, она иногда выхватит свою жертву из миллионов,
вознесет ее высоко в блеске мимолетной вспышки, которая тотчас же угаснет, погрузив в тьму
небытия временного избранника. Но есть и другая слава – прочная и постоянная, основанная на
достижениях огромного труда и заслугах перед человечеством. Имя обласканного ею человека не
меркнет и, словно драгоценный камень, сияет даже под напластованиями времени, стоит их лишь
слегка расчистить.

Испокон веков в мире были известны три царства природы минеральное, растительное и живот-
ное. Под ними понимался весь земной шар. Это было аксиомой, непреложной истиной.
Про этого же человека, желая отразить значение свершенного им для науки и человечества, совре-
менники говорили, что он открыл «четвертое царство природы» – почву. И это открытие навеки
поставило его имя среди корифеев науки всего мира.
Этим ученым был Василий Васильевич Докучаев.
Он родился 7 февраля 1846 года в селе Милюкове Смоленской губернии в многодетной семье свя-
щенника. Детские годы прошли в деревне. Он видел нищету и все тяготы жизни крепостных
крестьян, неодолимую их нужду и вечную борьбу за существование.
Мальчик проявлял огромную любовь к природе. Вместе с деревенскими ребятами-пастухами дни и
ночи проводил в поле, на пастбищах. И когда много лет спустя он стал ученым с мировым именем, в
его творениях ожили яркие описания природы своей родины и тех мест, которые посетил во время
многочисленных экспедиций.
В. В. Докучаев в молодые годы.
В одиннадцать лет кончилась привольная мальчишеская жизнь. Настали годы учебы. Отец хотел,
чтобы сын пошел по его стопам -стал священнослужителем. Но жизнь разбила отцовские мечты.
Окончив бурсу, где юноша вел жизнь, ничем не отличавшуюся от столь образно описанной Н. Г.
Помяловским в «Очерках бурсы», Докучаев поступил в духовную семинарию, но вскоре оставил ее и
стал студентом Петербургского университета, навсегда порвав с религией. Здесь он отлично учился на
естествоведческом отделении физико-математического факультета.
Очень увлекался геологией, часами пропадал в кабинете, изучая минералы, и так сроднился с этой
наукой, что после блестящего окончания университета в 1871 году остался работать на скромной
должности консерватора геологического кабинета. И потом, уже будучи профессором того же
университета, никогда не забывал сюда дорогу. Более четверти века в аудиториях звучал его голос на
лекциях, посвященных познанию почвоведения – науки, создателем которой он был сам.
Полностью отдавая себя благородному делу воспитания молодежи, Василий Васильевич Докучаев
никогда не замыкался в рамках учебного кабинета. Он не был кабинетным ученым, как иногда про