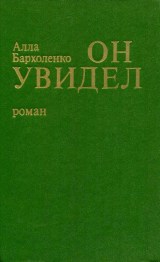
Текст книги "Он увидел"
Автор книги: Авигея Бархоленко
Жанр:
Драматургия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 14 страниц)
– А зачем ему быть? – вдруг спросил Григорьев.
– Как? – даже не понял дед.
– Я говорю, зачем живому-то быть? Ни к чему вовсе.
– Ну, это ты брось! – обиделся старик. – Это ты, милый товарищ Григорьев, брось… А как же тогда все-то будет?
– Да никак и не будет, – хихикнул Григорьев.
– А что же тогда останется-то?
– А ничего не останется, – весело отвечал Григорьев.
– А я вот не согласен если! – вскочил дедок. – Я вот на ничего-то ввек не соглашусь!
– А я что, согласие давал, чтоб над могилой моего отца все это учинили? А? Может, меня спросили? Так, мол, и так, милый товарищ Григорьев, как вы посмотрите на то, чтобы мы вашего папашу побоку, просто так кинем или в соседнюю могилу ткнем, а вместо – свежего товарища Валенюка. Не возражаете? Ах, даже почему-то решительно не желаете? Ну, и не желайте себе на здоровье. Мы ведь вежливо хотели, а раз вы так некультурно на нас с кулаками прете, то мы и без спроса можем. Ну, и чао, так сказать. А?..
– А я-то, а я-то, – бегал туда-сюда дедок, – а я хоть и на пятый годок, но настиг их, да ихнего-то свеженького им через порог – хе-хе!..
Старик рассыпался мелким бесовским смешком, и Санька удивленно на него уставилась.
– Эх, отец… А что мы из этого добродетельного поступка имеем? – серьезно спросил Григорьев. – Новую гнусность?
– А так как же нам быть? – подступил старик и птичьим коготком своим стал клевать Григорьева в грудь. – Быть как же, позвольте вас спросить? Вы, молодые, ученые, наворотили и этого, и того, так уж сделайте милость, ответьте мне, пенсионному, из ума выжившему, во всем вашем несведущему, как быть станем? Вас вот, умных, спрашиваю!
– Нас? А я вот с тебя, отец, вдруг захочу то же самое спросить?
– С меня? – взвился дедок. – С меня-то почему? В мое время о таком и думать нельзя было, это вы, теперешние…
– Э, нет, постой, дед! Твое время не тобою было сделано, а твоим отцом да дедом. А наше-то время, выходит, вы устроили, дедушка!
Старик онемел, затрясся, хотел то ли крикнуть нечто, то ли плюнуть в Григорьева, но поперхнулся и закашлялся судорожно. Санька бросилась поколачивать его по спине, старик мотал, все не в силах передохнуть, Саньке головой, чтоб колотила пуще. Наконец, ему полегчало, он начал с хрипом отдыхиваться и сел, истомленный, у ствола липы.
– Прости, отец, – сказал Григорьев. – Слова это все…
Старик не откликнулся, сидел понурый и маленький.
– Ладно, – помедлив, произнес Григорьев. – Не получилось.
Старик устало на него воззрился, и Григорьев ответил на его немой вопрос:
– Сестра умерла. Не здесь, далеко. Место хотел – со своими чтоб… – Старик дробно закивал: – Не получилось.
– Да может, как-нибудь? – воодушевился помочь смотритель.
Григорьев качнул головой.
– Как-нибудь и без этого много.
Он шагнул через открытую дверцу в ограду, постоял в ногах опустелой могилы, наклонился и взял с ее края горсть земли.
– Вот и всё, – сказал он, сам не очень сознавая, о чем говорит. Повернулся и вышел, и понял, что стоит на этом месте в последний раз, что не вернется больше сюда и ничего этого больше не увидит, и что-то как бы умерло в нем, и сам он для себя уменьшился.
Они вошли за молчаливым стариком в часовню, и Григорьев положил перед ним деньги.
– Прошу вас очень… Не могу сам. Прошу вас, закажите памятник, любой, какой захотите. Заплатите кому, пусть поставят. И ничего больше не надо.
Старик быстро кивал:
– Не беспокойся, милый товарищ Григорьев, сделаю, все сделаю. И поставлю, и обихожу, и смотреть буду. Понимаю тебя, понимаю. Уезжай спокойно, сделаю.
Старик вышел проводить их до ворот, пожал протянутые руки, порывался сказать что-нибудь доверительное, но удержался, и смотрел им грустно вслед, мелко кивая седой головой, пока они не скрылись за углом.
* * *
В гостинице Григорьев отдал вычистить свой костюм и выстирать и нагладить рубашку, остальное осилил сам, долго и охотно страдал под душем, Обнаружил массажный кабинет и потребовал двойную порцию массажа, брился в парикмахерской, барин барином, с горячим полотенцем и шлепаньем по щекам, предложили постричься – постригся, маникюр – ну, разумеется, изобрел себе в зеркале надменно изогнутую бровь и вообразил себя лордом, несколько отягощенным жизненным опытом, но пока довольным собой, и с этой миной, облаченный во все отутюженное, благоухающий, поблескивая надраенными туфлями, явился с не менее торжественной Санькой в переполненный ресторан, где к нему выпорхнул метрдотель и, забегая вперед и услужливо заглядывая в глаза, привел к таинственно возникшему столику, который в дальнейшем обслуживался с удручающей русского человека быстротой.
– До чего же это просто, – усмехнулся Григорьев, – изображать то, чего в тебе нет. Право же, гораздо труднее заметить в себе то, что уже имеешь.
– Забавно, – проговорила Санька, с любопытством оглядывая зал, – ни разу не была в ресторане. Но это же сейчас очень дорого?
– Чепуха! – лихо ответил Григорьев. – Собирал на машину, но теперь передумал. Гулять так гулять, Сашенька, чем больше истратим, тем лучше. Ну-ка, что тут есть самого сногсшибательного? М-да. А вы знаете, Сашенька, а это проблема – захочешь спустить состояние, а не на что. Даже до некоторой степени обидно. А, пусть официант тащит что хочет, какое нам дело. Шеф, все, что есть лучшего, а скажем точнее – самое дорогое! Действуйте, шеф! Сашенька, вам, кажется, уже надоело таскаться со мной по погостам?
– Я сделала что-нибудь не так, Николай Иванович? – спросила Санька.
– Да что вы, Сашенька! Я настолько к вам привык, что если бы вы согласились, то пригласил бы вас в новое кладбищенское турне. Увы, я становлюсь профессионалом!
Санька молчала. Этот новый Григорьев, лощеный, отполированный, веселый, слегка циничный, вздергивающий бровь каким-то новым образом, отчего лицо его холодно застывало театральной маской, Григорьев, который, не скрываясь, рассматривал женщин и перед которым слишком торопливо возникал официант, – этот Григорьев был для нее совсем чужим, и она внутренне сжалась, подумав вдруг, что, может, он такой и есть на самом деле, а тот, за которым пошла, был временным Григорьевым, родившимся от неожиданного несчастья. Но, едва допустив эту мысль, Санька тут же отвергла ее, говоря себе, что не могла так ошибиться и невозможно быть временно настолько глубоко страдающим и повергнутым. И все же она настороженно следила за Григорьевым, стараясь уловить момент, который бы подтвердил, что сейчас играется роль, идет розыгрыш, как она и приняла это поначалу, и тут же возненавидела этого официанта, смазливого и изящного, как танцор. Ей стало отвратительно, что тот так изгибается, так понимающе и поощрительно кивает, так быстро что-то исполняет. Официант как бы утверждал Григорьева в новом качестве и тем отнимал у Саньки прежнего ошарашенного, придавленного, затаившего гнев Григорьева, который мог нуждаться в Санькиной поддержке и защите.
Санька взглянула на Григорьева с его надменно поднятой бровью, с высокомерным лицом человека, от которого зависит, которому прислуживает другой человек, и вдруг заметила, что ее колотит крупная дрожь.
Официант оттанцевал по поручению, Григорьев дружески-насмешливо взглянул на Саньку, но тут его приподнятая бровь нырнула вниз, театральная маска расползлась, Григорьев растерянно замигал и всем телом подался к Саньке:
– Сашенька, Сашенька… Что с вами, Сашенька?
Санька судорожно передохнула и сжала спрятанные под столом руки:
– Ничего… Я так.
– Да нет же, я вижу!
– Вы меня испугали. Мне вдруг показалось, что вы всегда такой. Я понимаю – шутка, только все равно ужасно. Это позор, когда человек повелевает другим человеком.
– А, вот вы о чем… Ну, а то, что другой подчиняется, не позорно?
– Нет. Это печально и некрасиво. Но он подчиняется силе, а вы силу применяете. Я не могу постичь людей, которым нравится командовать. По-моему, это просто безнравственно.
– Но есть люди, которым нравится подчиняться, – с любопытством возразил Григорьев.
– Если они подчиняются добровольно – почему же нет? Я ведь не о том. На этого танцующего мальчика не слишком приятно смотреть, но те люди, которым нравится ему приказывать… Я просто ушла бы, если бы вы оказались таким.
Григорьев задумчиво ее рассматривал.
– Сашенька… А вам уже пора возвращаться домой?
– У меня ведь нет дома, Николай Иванович.
– А мама?
– Я с ней давно не живу. Я обманула вас, Николай Иванович. Никакой кот маму не царапал, то есть он царапал, но в прошлом году. И живет она не в Смоленске. Я просто так поехала, Николай Иванович.
– Как – просто так?
– Я уволилась, Николай Иванович.
– Но почему? – растерянно пробормотал Григорьев. – Почему?
– Допустим, захотелось посмотреть другие места.
Григорьев помолчал.
– Вы из-за меня? Да ведь не стою я того, чтобы вы обо мне так. Даже сказать не знаю что… Милая вы, хорошая, замечательная Сашенька. Ну, вот спасибо, вот руки ваши целую… Но что я могу сделать для вас такое, чтобы не словами только… Сашенька, что мне сделать для вас?
– Николай Иванович, Николай Иванович… Ну, что вы, Николай Иванович!
– Нет, нет, я очень прошу, – не отставал Григорьев. – Ведь есть же, наверно, у вас какое-нибудь желание? – спрашивал он, будто исполнять желания других для него привычный пустяк.
– Да, – ответила Санька, тоже не сомневаясь в том, что он может исполнить то, что она ему скажет. – Есть. Вот вы недавно сказали, как трудно человеку найти в себе что-то. Но ведь вы нашли? Нашли, правда? Вот я и хочу, очень, больше всего на свете хочу, чтобы вас никогда не покидало то, что вы нашли.
– Да ради бога, да что же я нашел, Сашенька, что вы говорите? Я весь как спутанный клубок, я сам себе не рад, я не знаю, куда идти и что делать, у меня голова раскалывается! Я хочу чего-то другого, я никого не люблю, мне нет покоя, мне всех жалко, меня все возмущает, я хочу чего-то странного, я протестую, я презираю себя до бесконечности…
– Я буду вашим другом, и вам иногда будет не до конца страшно.
– Сашенька, вы говорите что-то странное, – улыбнулся Григорьев горько.
– Я тоже имею право хотеть странного, – серьезно отвечала Санька.
– Да зачем вам все это?
– А зачем человеку цвет заката? Ни пришить, ни пристегнуть, а остановишься и смотришь. Скажите, зачем человеку мысли?
– Боже мой, боже мой! – пробормотал Григорьев, сжимая ладонями виски. – И в муке будешь рожать детей своих… Я рожу ублюдка, Сашенька.
Он сжал кулаки и ввинчивал их в свою голову, в свое бессилие, в свое бесполезное отчаяние, и в эту минуту подтанцевал к столику гибкий официант с подносом на расставленных пальцах левой руки И увидел лорда, по русскому пьяному обычаю в отчаянии подводящего итог своей жизни, и замер на миг в изящной позе изумления. Губы официанта дрогнули, в презрении, глаза сузились, он ловко расставил принесенное, и можно было в книгу предложений, занести общественную благодарность, но Санька все же заметила тенью сопровождавшую каждое его движение оскорбленность, и удалился он на этот раз чуть менее танцевально.
– А вы его разочаровали, – сказала Санька. – Вы забыли изогнуть бровь.
* * *
– И все-таки мы сегодня гуляем, Сашенька, – вздохнул Григорьев, пройдя полквартала после ресторана.
– Здесь река и пароходы, да? Давайте на пароходе сплаваем? – предложила Санька.
– А что? – обрадовался Григорьев – Я когда-то зайцем плавал и вверх, и вниз. А однажды собралась компания, молоток, топор захватили, буханку хлеба и тринадцать копеек денег и решили повторить поход Амундсена к Южному полюсу: река-то на юг течет, логика железная! Через два дня нас сцапали, вернули по домам, остальных выпороли, а мне отец сказал: «Гм, гм, молодой человек… Придется вам отчитаться в срыве такой важной экспедиции перед Министром Географии и Путешествий. Он сейчас вас примет». И вышел. А через несколько минут вернулся в индейском головном уборе из перьев – мы его сами клеили из петушиных хвостов – и завернутый в байковое одеяло. «Жаль, жаль, – сказал мне Министр Географии и Путешествий, – нам очень нужен Южный полюс. Вы были начальником экспедиции? Прошу вас представить письменный отчет: на одной стороне тетради вы перечислите все снаряжение, которое брал с собой в плавание Амундсен, а на другой все, чем располагала ваша экспедиция. Потом мы подумаем, какие шаги предпринять дальше». И Министр Географии и Путешествий, неподвижно неся на гордой голове прекрасные петушиные перья, удалился по другим важным географическим делам, а начальник экспедиции остался составлять отчет.
– И составили?
– Конечно. Правда, для этого потребовался месяц, но составил.
– Хороший у вас был отец, – сказала Санька и, спохватившись, что встала на весьма шаткую почву, добавила: – А я своего почти не помню, они с матерью все время расходились. Он появлялся на неделю, а исчезал на год. И ни разу со мной ни о чем не поговорил. А потом и совсем где-то затерялся.
– Решено, Сашенька, мы с вами отправляемся в плавание.
Они спустились по круто убегающей вниз улице к пристани, у которой их ждал дрожащий в нетерпении белый пароход. Григорьев поспешил к кассе-теремку, где за крохотным окошечком сидел кто-то невидимый, как фантом.
– Нам два билета.
– Куда? – сурово спросил фантом.
– На Южный полюс, – легкомысленно сказал Григорьев.
В ответ окошечко захлопнулось.
– Дайте я, – предложила Санька и постучала и раз, и другой.
– Надо трижды, как в русских сказках, – сказал Григорьев.
Санька постучала интеллигентно в третий раз. Окошечко неодобрительно открылось.
– Чего хулиганите? – невидимо спросили из него.
– Понимаете, мы приезжие, – сказала Санька. – Нам все равно, мы просто хотим посмотреть.
– Класс?
– Девушка, нам нужен, конечно, самый лучший класс.
– А люкс не хотите? – язвительно поинтересовались из терема, похожего на звездолет.
– Давайте люкс! – обрадовался Григорьев.
Из окошечка вместе с билетами вырвалась упругая волна недоброжелательства.
Белый трехпалубный красавец баритонно просигналил дважды. Они побежали к сходням.
– Вам вниз, – сказал палубный матрос, взглянув на билеты.
– Почему вниз? Мы просили люкс.
– У вас нижняя палуба, граждане.
– Товарищ, нам не хочется на нижнюю, нам хочется наверх.
– Вообще-то можно…
– Вас понял. Сколько?
– Давай десятку.
– Родной ты наш, – сказал Григорьев, подавая десятку. – Благодетель!
– А вы можете поверить, – спросила Санька у матроса, – этот гражданин утверждал, что у нас негде спустить состояние!
– Ха, – отозвался матрос, – просто у этого гражданина никогда не ломался телевизор!
Григорьев хохотнул и хлопнул матроса по плечу. Матрос хохотнул в ответ и открыл им прекрасную двухместную каюту. Пароход отчалил.
Они погуляли по палубе, обходя пароход кругом. И в самом деле, это было удовольствие – движение, открытое в любую сторону пространство, свежий речной воздух, иногда бросавший на них тугую волну мелких, как туман, брызг, от которых становилось приятно и знобко. Пароход выбрался на середину реки, город развернулся и стал уплывать назад, а впереди надвигались холмы, долины, начинающие желтеть поля, островки скудных лесов, проплывали крохотные деревеньки с собачьим лаем, бабы на мостках с мелькающими над кучами белья вальками и запоздалыми звуками сочных шлепков, мальчишки пускали змея и азартно кричали что-то стоящим на палубе, деревенька оставалась позади, и снова берега обнимали их затененной предвечерней тишиной.
Санька и Григорьев вернулись к своей каюте и устроились в плетеных креслах под навесом верхней палубы, но все равно с простором на весь левый берег и свежим ветром, рождавшимся от движения. Григорьев вздохнул и закрыл глаза, тело расслабилось и отрадно дышало, радуясь незанятому пространству.
Санька сидела в приятном оцепенении, без мыслей созерцая освещенный тихим, уже низким солнцем неторопливо проплывающий мимо них берег да время от времени посматривая в сторону соседних кают, где расположилось семейство из шести человек: высокий, сухопарый старик с мелко дрожащей седой головой и седыми моржовыми усами, с медленными ревматическими руками, он то и дело указывал на что-то на берегу и что-то объяснял остальным; двое пожилых супругов, тоже, в общем, старики, ласково называли седого папой и предупредительно замолкали, когда он хотел заговорить; еще супруги, почти молодые, держались вместе, иногда брали друг друга за руки и тут же отпускали, улыбаясь, но не стремились, впрочем, затаиться от семейства и одинаково легко вступали в общий разговор и вели свою сольную партию; и девочка лет пятнадцати, дочь молодых – эта всех внимательно слушала, на все внимательно смотрела задумчивыми глазами дымного, агатового цвета, скрываясь иногда за завесой тяжелых темных волос, спадавших на ее удлиненное, без румянца лицо. Санька все с большим любопытством поглядывала на этих людей – и потому, что всегда проявляешь интерес к соседям, и потому, что тут собралось вместе столько поколений, сразу четыре, с прадедом и правнучкой, а главное, потому что в этих людях все сильнее ее притягивало что-то для нее непривычное.
Санька помнила свою мать, себя и брата Вовку скрыто отъединенными друг от друга, между ними тремя никогда не устанавливалось единства, понимания и общего интереса, лишь изредка возникало недолгое единение двоих, да и то чаще между братом и сестрой, чем у кого-нибудь из них с матерью. Мать кормила, одевала, убирала, заботилась, когда болели, дарила игры и книги и не уклонялась от родительских собраний в школе, то есть делала все, что считалось нужным делать, а если бы считалось нужным что-нибудь еще, она и это исполняла бы столь же исправно. И все же Санька не раз замечала, как Вовка вертелся около матери, задавал какие-то чепуховые вопросы, чем-то маялся и все смотрел, часто мигая, матери в лицо, искал в нем что-то и, видимо, не находил, потому что хмурился, сопел, начинал огрызаться и забивался в свой угол или рано ложился спать, укрываясь одеялом с головой, и под одеялом, может быть, плакал. Саньке тоже временами чего-то хотелось от матери, но что именно – сказать было невозможно, Санька не знала, что это такое, чего бы ей так хотелось. Но порой возникало и определенное: чтобы они все вместе, пошли куда-нибудь, и не в кино, а так, чтобы их ничто не разделяло, чтобы о чей-то всем говорить или что-то всем делать; или если бы сели все дома и тоже поговорили или что-то вместе сделали. Но такое общее только однажды было, да и то как-то случайно: мать сказала, что будут какие-то гости и нужно быстро в квартире все прибрать, и была при этом энергичная и заразительная, и Санька с Вовкой тут же включились в работу, таскали, передвигали, вытирали и мыли, и все было очень дружно и весело, и стало жаль, когда уборка быстро кончилась, все заблестело, даже окна, и делать осталось нечего, а мать дала Саньке с Вовкой по два рубля и отправила в кино хоть на два сеанса и мороженого разрешила есть сколько влезет, а они опустили головы и больше не смотрели на нее…
– Странно… – услышала Санька недоумевающий голос Григорьева. – А где же м о й дед?
Она повернулась и увидела, что Григорьев тоже смотрит на соседей и лицо у него при этом обиженное и детское.
– И бабушка, надо полагать, была, – все больше обижался Григорьев. – И наверняка варила варенье и пекла пирожки или еще делала что-нибудь такое же домашнее и, оказывается, потрясающее. А если уж на то пошло, так у меня должны быть два деда и две бабки. Черт побери, я даже не знаю, как их звали!
Григорьев подобрал вытянутые ноги и выпрямился, и Санька поняла, что недолгий покой его оборвался новым смятением, и тоже внутренне собралась, чтобы понимать и быть наготове.
– Сашенька, а у вас есть кто-нибудь? Дед или бабушка?
– Есть. Они в Сибири живут, далеко. Я видела их три раза.
– А у меня уже никого нет. И я не знаю, как их звали. И какие они были и как жили – я ничего не знаю. Как будто я сирота, – сказал Григорьев. – И все другие тоже. Нас бросили, а мы этого даже не заметили. Нет, странно, – продолжал через минуту Григорьев. – Посмотрите же, что получается. Мой отец умер здесь, но его родители никогда здесь не жили. Моя мать похоронена в другом городе, для всех нас случайном и чужом. А сестре не досталось даже кладбища. Я живу в Смоленске – в городе, где мне предложили работу и где меня ничто другое не удерживает. Если бы мне захотелось в родительский день – есть, кажется, такое? – побывать на могилах близких, я бы этого не смог сделать, мне пришлось бы ринуться в разных направлениях на тысячи километров, и ни у одной могилы я не был бы дома. А я хочу домой – в место, где не один раз умирали и не один раз рождались…
Что-то шелохнулось рядом. Санька повернулась и увидела дымные, агатовые глаза девочки, уставившиеся на Григорьева.
– А мы провожаем дедушку, – сказала девочка, продолжая смотреть на Григорьева. – Он едет умирать в свою деревню.
– Откуда ты знаешь, что он едет умирать? – спросил Григорьев, передвигая свое кресло так, чтобы удобнее было видеть удлиненное ее лицо.
– Он сам сказал. Он сказал, что ему пора, и очень всех нас торопил.
Григорьев и Санька одновременно перевели взгляд на седого, костистого старика, спокойно сидевшего в окружении семьи на палубе неторопливого белого парохода. Около него шел неспешный разговор о местах, мимо которых они проплывали: кто тут жил, как тут воевали в последнюю войну, и в гражданскую, и раньше, и кого куда потом занесло. Григорьев и Санька стали слушать, а в семье произошло передвижение – раздвинулись, потеснились, принимая в беседу новых молчаливых участников, и при дальнейших рассказах глаза говорившего, обходя слушателей, останавливались и на Григорьеве и Саньке, а те кивали или улыбались в ответ.
Часа через два пароход причалил к крохотной пристани у небольшого сельца. Семейство простилось с Григорьевым и Санькой и по ребристым дощатым сходням спустилось на борт пристани. Впереди неторопливо шел старик с моржовыми усами. Он же первым, пройдя гулкий тесовый мостик, отделявший пристань от берега, ступил на землю, поклонился ей на все стороны и степенно зашагал к бревенчатым домам на взгорке.
Пароход дал длинный гудок и отчалил. Григорьев и Санька молча смотрели на поднимавшуюся к селу дорогу с кучкой людей, которая уплывала назад вместе с берегом, пока ее не задвинул обрывистый, лысый угор.
– Впервые встретил нормальных людей, – проговорил Григорьев. – И те кажутся сумасшедшими.
– А мне жаль, – возразила Санька. – Жаль, что мы ехали с ними так мало.
– Бросьте! – сморщился Григорьев. – Они устарели, как резиновые галоши.
Начинался вечер, медленный и растянутый, как старость. Уплывали розовые берега. Река рдела кроваво-красным цветом, как будто они, проплывая, вспарывали ее тело. Небо над ними горело желто и пронзительно, как удар кинжалом. Мирно плескала вода с борта парохода.
– Ужасно люблю я все это… – прошептал Григорьев. – Землю нашу ужасно люблю…
Он передохнул и тут же съехидничал:
– Но я неподходящая партия для нее. И потому должен быть несчастным.
– Да ничего вы не несчастны! – воскликнула Санька. – Вы как раз и есть счастливый человек, – убежденно сказала она. – Потому что вам дано любить больше, чем другим.
– Нет, Сашенька… Нет. Мне тяжело и больно, и одиноко, и я так много ненавижу!
– Это все потому, что вы живой, – едва слышно сказала Санька, не отрывая глаз от синей тени парохода за бортом. – Живой и нормальный!
– Не знаю, не знаю… – бормотал Григорьев, беспокойно пробегая взглядом по двум косо катившимся к противоположным берегам волнам за кормой – одной кроваво-красной, другой совершенно черной, с жемчужным блеском на гребне. Волны расходились, как руки, и цеплялись за камни, хватали сорные берега и все волочились, волочились приговоренное – Не знаю, не знаю. Я не могу отделаться от чувства ужасной потери, я что-то теряю, теряю, у меня ничего не остается, кроме могил, но и могилы тоже мне не принадлежат. У меня ничего больше нет, а я знаю, что так нельзя, что я превращаюсь в другое существо, в другое, во что-то полностью другое, чем я совершенно не хочу быть. Но я все равно превращаюсь в голое, гладкое, бесстыдное и безглазое, как червь…
Его передернуло от омерзения, и он воскликнул:
– Не хочу!
– Николай Иванович, Николай Иванович… – проговорила Санька, пугаясь его опустелых глаз. – Да нет же, нет, Николай Иванович!
– Сашенька, – шептал он, больно вцепляясь в ее руку, – я их соберу… Я их всех соберу в одно место, и у меня будут мои могилы, и тогда я смогу жить…
В Саньку толчками врывалась не своя боль, какие-то ослепительные всплески, пронзительная нежность, яростное черно-красное коловращение, руку, которую все сжимал Григорьев, многочисленно покалывало, потом она как бы разбухла и перестала чувствоваться, Саньку шатало, подташнивало, все перед ней прыгало и неслось – ее сминал поток чужих ощущений.
– Сашенька, Сашенька… – говорил шальной Григорьев, – поедемте со мной! Я еще там, в ресторане, сказал вам, но вы промолчали… Поедемте! Я теперь знаю, Сашенька, я знаю! Я теперь сделаю это не здесь и не там… Да, да, мать мне сама говорила… Я похороню всех на ее родине, там, откуда мы все. Она говорила, да, да, я помню – Суздаль, где-то около Суздаля… Княжество Владимирское и Суздальское – история, да? Какая-то деревушка, я не помню названия, но это можно узнать, мы это обязательно узнаем, у меня в Москве тетка, двоюродная сестра матери. Она нам все скажет, ну да, Сашенька, мы прямо отсюда сразу в Москву!
Григорьев вскочил, нетерпеливо кинулся к борту, торопя нескорую пристань, возбужденно и радостно повернулся к Саньке, глаза его блестели.
– Ну, правильно, правильно, – говорил он, – как же я сразу не мог этого понять. Нужно туда, где главное, где корни. Нужно, как этот старик – прийти и поклониться, и просить прощения, и никогда больше не забывать…
Санька кивала, слабо улыбалась, мигала и не поднималась с кресла. У нее отнялась рука, висела податливо и немо, и Санька боялась на нее взглянуть.
* * *
Московскую тетку звали Евдокия Изотовна, была она женой дипломата, изъездила свет, из всех чудес предпочитала Париж, а сейчас вдовела, жила на Большой Грузинской, любила фотографироваться и держала на балконе живого петуха. Было тетушке шестьдесят девять лет.
– Я Григорьев.
– Так, так, так. Григорьев… – проговорила тетушка, стоя в дверях и зорко оглядывая пришельцев, Осмотр, видимо, ее удовлетворил, она посторонилась. – Ну, что же, проходите, молодые люди, проходите. У меня печенье с ванилью и крем-брюле.
Тетушка заперла за ними дверь, провела по широкому коридору со шкафами в комнату, где на окнах висели малиновые бархатные гардины, подобранные посередине лентами, стояли застекленные горки с позолоченной посудой, фарфоровыми безделушками, сувенирами, масками и божками, по стенам висели длинные, как полотенца, японские картины изумляющей нежности и тонкости и какие-то непонятные предметы, о назначении которых было невозможно догадаться; мягкие потертые кресла стояли у круглого стола под тяжелой скатертью с кистями до пола; на таком же потертом диване с высокой фигурной спинкой лежали альбомы и рассыпавшаяся стопка книг на французском и английском. В комнате устоялся запах старых дорогих вещей и дорогих духов, здесь дремало прошлое и сюда не доносился шум улицы.
– Евдокия Изотовна, я ваш племянник, Николай Григорьев.
– Племянник? Так, так, так. А ваш батюшка никогда не был лейтенантом Шмидтом? – весело поинтересовалась тетушка.
Григорьев молча вытащил паспорт. Хозяйка нацепила изящное пенсне на золотой цепочке, протянула за паспортом тонкую молодую руку и изучила документ от первой до последней страницы.
– Так, так, так. Похож на настоящий. Я согласна быть вашей тетушкой, молодые люди. Вы пили когда-нибудь настоящий кофе?
– Евдокия Изотовна, вы двоюродная сестра моей матери…
– Что вы говорите? Так, так, так.
– Мою мать звали Мария Кузьминична Григорьева, – не поддаваясь тетушкиным провокациям, упрямо объяснил Григорьев.
Евдокия Изотовна пожалела его и скорбно вздохнула:
– В моем роду не было такой фамилии, молодой человек.
– Естественно, – спокойно согласился Григорьев. – Это фамилия моего отца.
– А какова же фамилия вашей матушки в девичестве, молодой человек?
– Вот это я и хотел узнать у вас, Евдокия Изотовна.
– Так, так, так. Мне уже интересно, молодые люди. Больше вы ничего от меня не хотели?
– Я очень надеюсь на вашу помощь, Евдокия Изотовна. Кроме, вас никто помочь не сможет.
– Так, так, так?
– Я хочу узнать немного. Откуда моя мать родом?
– Простите, а зачем это вам?
– Моя мать хотела, чтобы ее похоронили на родине.
– Она только что умерла?
– Нет, она умерла десять лет назад.
– Удивительная история, молодые, люди. А вот и кофе готов. Позвольте ваши приборы. А что же вы молчите, милая девушка?
– Трудно говорить, когда не верят, – сказала Санька, осторожно передавая Евдокии Изотовне нечто прозрачно-миниатюрное, именованное прибором, по величине не больше чашечки из игрушечного сервиза «Молодая хозяйка».
– Так скажите же мне что-нибудь такое, чтобы я поверила, – попросила Евдокия Изотовна. – Попробуйте вспомнить что-нибудь.
– Моя мать упоминала Суздаль, – сказал Григорьев. – Она называла и деревню, но я тогда пропускал это мимо.
– Суздаль? Суздаль… Мало. Еще что-нибудь.
– Мать говорила, что вы прислали ей на свадьбу поздравление из Парижа. Она приглашала всех родственников, но вы тогда были за границей.
– Дата?
– Тридцать пять лет назад. Осенью. И вы написали, что посылаете в подарок китайское покрывало с аистами.
– И два пакета для новорожденных. Пакеты пригодились полностью?
Евдокия Изотовна легко поднялась, обняла и поцеловала Григорьева, обняла и поцеловала Саньку и даже немного расчувствовалась. От нее прохладно пахло лавандой.
– Значит, Мария Кузьминична? Да ее тогда Маруськой звали, бегала с цыпками на ногах. Да, да, помню. Я со своей матерью к бабушке приезжала за благословением перед замужеством – бабка у нас с Марией Кузьминичной была одна, а матери – родные сестры. Так, так, так, попробуем разобраться. У моей матери девичья фамилия была Окишева, значит, и у нашей бабушки в замужестве – такая же. Так, это понятно. А дальше? Еще бы шаг, еще один шаг… Нет, Николя. Не знаю. Не забыла, а просто не знаю. Мы ведь уже в городе жили, оторвались.
– Окишева – это моя прабабка?
– Да, Николя. Деда тогда уже в живых не было, разорвало бомбой на русско-японской. Тебе все это очень важно?
– Да.
– Ну, ну. Захочется – расскажешь, трудно – не надо, я с тебя больше паспорта не спрошу.
– А деревня? Деревню, куда вы за благословением приезжали, вы помните?
– Конечно, Николя, конечно. Прекрасно помню: две улицы углом, пруд посередине и ракиты над прудом, а вокруг леса, темные, темные леса.








