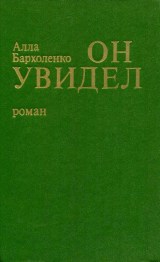
Текст книги "Он увидел"
Автор книги: Авигея Бархоленко
Жанр:
Драматургия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 14 страниц)
– А название?
– Название, название… Нет. В моей памяти названия нет. Наверно, я больше думала о чем-нибудь другом, – улыбнулась тетушка.
– Но ведь это же ваша родная деревня?
– Не совсем. Там родилась только моя мать, а я уже московская.
– Но тогда ведь старались помнить! – возразил Григорьев.
– Ну, как тебе сказать, Николя. По-разному было, как и всегда. Моя мать замуж вышла в Москву, отец потом пост занимал большой – мне кажется, о деревенской родне, в общем-то, старались говорить поменьше. По-моему, мать меня и за благословением повезла только затем, чтобы бабку на свадьбу не звать. Бывает. Поначалу особенно, когда из грязи в князи. А ты, я вижу, идеалист, Николя? Тебе сколько – тридцать три? И все еще идеалист?
– Почему идеалист? – не согласился Григорьев.
– А вот лицо омрачается, чувств удерживать не можешь.
– А почему их нужно удерживать? – спросила Санька.
– Сентиментален, прямолинеен… – продолжала Евдокия Изотовна, как будто не услышала Санькиных слов. – Где вы его такого нашли, Сашенька?
– На похоронах, – ровным голосом ответила Санька.
– Пардон? – приподняла брови тетушка.
– Две недели назад мы похоронили мою сестру Александру…
– Ах, вот откуда кладбищенские мотивы…
– Это не мотивы, – сказала Санька. – Это жизнь. И в какой-то мере даже серьезно.
– Так, так, так… – внимательно смотрела на нее тетушка. – Без серьезного отношения к смерти не может быть серьезного отношения к жизни? Вы это имеете в виду, Сашенька?
– Нет, не это.
– Боже мой, какое народилось строптивое поколение. Как лучше всего с вами разговаривать, дети мои?
– Открыто, – ответила Санька.
– Так, так, так. А если хотите знать – это невозможно.
– Тогда никогда ничего не получится, – упрямо проговорила Санька.
– Никогда и ничего… – задумчиво повторила тетушка. – Самые беспощадные слова в языке. Что ж, попробую так, как вы требуете. Скажи, Николя, что значат эти фантазии? Или я не в состоянии понять?
– Евдокия Изотовна, – проговорил Григорьев, и Саньке было видно, как он волнуется, – Евдокия Изотовна, вы долго жили за границей. Так вот я спрошу… Вы часто вспоминали – Москву, все это… все, что оставалось здесь?
– А, ну, ну… И что же?
– Тоска по родине, – это так называется? Так вот – у меня то же самое. Тоска по родине. Как будто я тоже за границей.
– Гм… – произнесла тетушка и задумалась, и было видно, как она по мостикам своих мыслей уходит все дальше и дальше, улыбается чему-то, туманится грустью и молодеет.
– У меня идея, дети мои, – сказала Евдокия Изотовна, снова заметив присутствие Григорьева и Саньки. – Два года назад я познакомилась в санатории с одной женщиной. Месяц мы жили в соседних номерах, обедали за одним столом, беседовали обо всем – от аквариумных рыбок до пришельцев из космоса, а лишь в, последний день, перед отъездом, я узнала две вещи: у моей знакомой Антонины Викторовны Голубевой нет обеих ног – ампутированы в прифронтовом госпитале. И второе – она сказала: я хорошо знала вашу бабушку, Марию Аверьяновну Окишеву. Адреса своего она мне не предложила, как я теперь понимаю, потому, что я его не спросила. Но я помню, что она писала письма в Воронеж. Одно время я даже, хотела ее разыскать – все-таки старушка, которая не желает похвастаться ампутированными ногами и боевым прошлым, удивительное явление. Но вот как-то не собралась… Тут не слишком далеко, я съезжу.
– Куда? – удивилась Санька.
– Как куда, молодые люди? В Воронеж, естественно, – сказала тетушка, вытаскивая из стенного шкафа чемодан со множеством ремней, замков и пряжек и с созвездием заграничных наклеек.
Григорьев кивнул с улыбкой. Санька тоже.
– Но, – сказала тетушка, – одно условие.
– Мы согласны! – заранее сказала Санька.
– Ну, вот и прекрасно, – молвила тетушка, направляясь к балкону. Вернулась она с петухом под мышкой. – Пшеница, одуванчики и вода. И больше ничего. Его зовут Константин Петрович.
И тетушка протянула петуха Саньке.
Санька растерянно поднялась из-за стола и приняла петуха на руки. Константин Петрович предупреждающе вскокотал и на всякий случай долбанул Саньку в большой палец.
Тетушка вернулась к чемодану и собрала его в полторы минуты.
– Пошли? – спросила она бодро. – Ах, да! – остановилась она, натолкнувшись взглядом на телефон. – Одну минуту, дети мои… Алло? Бонжур, дорогой! Как ваша аристократическая подагра? Нет, нет, не смогу, я выезжаю в Воронеж. Семейные дела, дорогой. Прекрасно, только если будете покупать цветы, шер ами, не берите роз, я не выношу преждевременной старости даже в таком исполнении. А бьенто!
Седовласая тетушка весело, повернулась к изумленным гостям, подмигнула Саньке, подтолкнула чемодан с наклейками к полупарализованному Григорьеву и молвила:
– Но если его веник будет, как в прошлый раз, пахнуть тройным одеколоном, клянусь святым Мафусаилом, я дам ему отставку!. Николя, выйдите из прострации и не пытайтесь найти ручку чемодана на его дне. Так, теперь, кажется, все.
– А он? – осторожно тряхнув петухом, спросила Санька.
– Ах, да, – сказала тетушка и выудила из стенного шкафа допотопную соломенную сумку. – Вот сюда, Сашенька, в ней Константин Петрович чувствует себя особенно хорошо.
В сумке петух сразу осел на дно и задремал.
– Провожать меня ни к чему, – сказала тетушка, погружаясь в такси. И уже из окошка добавила: – Все-таки надеюсь, что вы его не съедите.
* * *
– Петух, живой петух! В вагоне едет живой петух! Совершенно живой и даже кукарекает! Да, да, можете посмотреть, это в седьмом купе!
Впервые в жизни Григорьеву выпал такой успех. В зависимости от характера в седьмое купе деликатно стучались, барабанили и распахивали дверь без предупреждения.
– Простите, у вас действительно петух? Пусть мой мальчик посмотрит.
– Я тоже хочу, я тоже хочу посмотреть!
– А он будет есть курицу?
– А разве живые петухи бывают?
– Тетенька, а когда он снесет яичко?
– Дяденька, вы в цирке работаете?
– А я знаю, петухов делают на бройлерной фабрике.
– Нет, там делают голых, а этот в перьях.
– Дяденька, вы сделали новую породу, которая с перьями?
– Игорек, ты его трогал? Сейчас же вымой руки!
– Тетенька, тетенька! Ваша курочка сильно нагрелась и может испортиться.
– А что вы из нее будете готовить? Котлеты?
– И совсем нет, ее нужно сварить целиком, а потом засыпать лапшу…
Огненный красавец с синими крыльями, перламутрово-зеленой шеей, с фонтаном роскошного хвоста, захлестнутый за одну лапу ремешком от джинсов, прохаживался, вскокотывая, по нижней полке. Юное поколение земли, набившееся в седьмое купе, смотрело на него сугубо практически. Григорьев восстал:
– Девочка, о какой лапше ты говоришь? Разве варят лапшу из королей?
– Это никакой не король, – трезво возразила девочка. – Это обыкновенная курица.
– Ну, какая же это курица, девочка? Это петух. И как он может быть обыкновенным, если он живой? И посмотрите на его голову – у него на голове корона.
– Это никакая не корона, это простой гребень.
– Какой же это гребень, если он совсем круглый и зубчики у него в два ряда? Это самая настоящая корона, и не какая-нибудь золотая, которая бывает у всяких самозванцев, а живая, она растет прямо из головы и никогда не снимается.
– И очень даже снимается, когда сваренная. Я ее ела, и она вкусная.
– Дети, вас ждут мамы, – торопливо поднялась Санька, заслоняя собой юное поколение земли. – Идите, идите, а то Константин Петрович рассердится.
Григорьев посмотрел на задвинутую Санькой дверь и с усмешкой погладил петуха по радужной шее.
– На детей нельзя обижаться, Николай Иванович, – тихо сказала Санька.
– А вы лучше скажите, Сашенька, чем закончится наша история, если дети не находят разницы между живым и неживым? Если для них уже сейчас, в семь или пять лет, вся проблема в том, что лучше приготовить из Константина Петровича: харчо или котлеты по-киевски?
– Но вы же понимаете, что они живут в городе и встречаются лишь с готовой продукцией бройлерной фабрики!
– Сашенька, вы хотите обвинить меня? Пожалуйста, я готов признать себя виновным. Я виноват в том, что человек живет среди трупов – трупов кур, уток, рыб, овец и остального, в том, что человек обдирает зайцев, лис, кошек, собак и прочую тварь себе на шубы и воротники, на ковры и шапки. Ну, разумеется, я виноват! Потому что я всем этим пользуюсь! Мы вырастаем на мертвечине и потому не можем уважать живое, и себя в том числе. Я согласен, Сашенька, я виноват!
– Господи боже, никогда больше не буду есть мясо, – пробормотала Санька, передергиваясь.
Григорьева это сильно насмешило, он сидел в своем углу и кис от смеха, как-то странно оседал и расширялся.
– Да перестаньте же, Николай Иванович! Вы нарочно, что вам за удовольствие!
– Да, да, Сашенька, вы правы. Ничего этого нет, я все выдумал, вы мне поставили двойку, будем жить спокойно.
– А я читала, – проговорила Санька, глядя широко раскрытыми глазами в солнечно-зеленое окно вагона, – я читала, что растения тоже чувствуют. Представляете? Они ужас испытывают, когда к ним приближается человек, который их постоянно режет, рвет, топчет – то есть мучает, и совсем по-другому реагируют на тех, кто за ними ухаживает. Вы представляете – они же в земле, у них корни, они даже убежать не могут, а мы к ним с косой или пилой! Это, наверно, как у нас во сне – страх, кошмар, а пошевелиться не можешь, так и они. Нет, вы представляете?..
Григорьев все похохатывал, все ерничал:
– Так вы теперь с голоду умрете, Сашенька?
– Да что же тут смешного, Николай Иванович? Нам же ведь жить как-то! Какой дурак нас так запрограммировал?!
– Что, вы, что вы, Сашенька! Остроумнейшая программа! Самого неповоротливого, самого эгоистичного, самого беспомощного и самого кровожадного зверя наделить прорезающимся сознанием – шикарная идея! И посмотрите результаты: взлетающий Икар, охота на ведьм, Библия, уничтожение цивилизаций, «Сикстинская мадонна», отречение Галилея, Освенцим, Хиросима, космос… Перлы! И не трудно догадаться, что на этом мы не остановимся. Уверяю вас, я бы с удовольствием посмотрел на дальнейшее, но лучше откуда-нибудь издали…
Санька ежилась и молчала. Как это у него получается – начать с петуха и кончить атомной бомбой? И постоянно она попадается в эти словесные сети, у нее не хватает гибкости обойти их, ловушка затягивается, под сердцем начинает тоскливо сосать, мир видится чуждо, раздробленно, узко, Григорьев варварски его препарирует и удивляется, что обнаружил бессмысленное нагромождение обломков. Саньке вообще хочется больше принимать, чем отрицать, а Григорьев постоянно осложняет эту задачу, и Саньке каждый раз приходится восстанавливать для себя обрушившийся мир. И если не поддаваться григорьевским усмешечкам, не подключаться к его дробному, фасеточному зрению, а оставаться от его неустойчивых, изменчивых построений хотя бы на шаг в стороне, если воспринимать не хаос григорьевского мира, а самого Григорьева – неравнодушного, мятущегося, прокурорски вопрошающего и с болезненной надеждой ждущего опровержений, то он перестает быть разрушителем, его страдание откликается такой ответной болью в Саньке, что у нее темнеет в глазах. Да и какая ей разница, из-за чего приходит его боль – из-за того, что его действительно ранили, или из-за того, что он ранит себя сам, или из-за того, что то и другое ему только кажется? Санька видит его душевную муку и трепещет.
Санька взглядывает на Григорьева, ловя изменения в его лице, наново удивляясь тому, что Григорьев так близко от нее, тому, что она может смотреть на него беспрепятственно, что он уже привык к ней, словно она была рядом всегда – вроде его отражения или тени, и в ней внезапным пламенем взлетает ликование, но она торопливо и суеверно усмиряет его и даже начинает внушать себе и кому-то: нет, нет, мне трудно и плохо, я для него никто, я несчастна и знаю, что никогда, никогда не будет ничего другого.
Она смотрит на Григорьева и гладит упругую спину птицы, рука не принимает сухой пустоты перьев и стремится добраться до теплого тела под крылом, петух предупредительно кокочет и уклоняется от такой близости, отходит, высоко, как солдат, поднимая ноги, встряхивается, расправляя свое великолепное обмундирование, и поет голосисто, с недовольным накатом в конце.
В купе робко стучат.
* * *
Собственно, из-за этого петуха пришлось тащиться обратно в Смоленск, хотя можно было бы, пока тетушка Евдокия Изотовна путешествует в Воронеж, съездить в город, где похоронена мать Григорьева и где сам он прожил немало лет. Естественно, им легче было отправиться сразу из Москвы, но этот петух, так беспардонно всученный им тетушкой, явно ограничил их возможности, и ближайшей на данный момент задачей оказалось найти человека, который возьмет петуха на предстоящие две недели и при этом воздержится от лапши с куриными потрохами.
Григорьев зажал огненного красавца под мышкой и отправился к Нинель Никодимовне Козинец.
Увидев чистенького, надраенного Григорьева с кокочущим Константином Петровичем под мышкой, Нинель Никодимовна начала хохотать. А когда Григорьев, не одобряя такого легкомысленного поведения, взглянул сугубо серьезно, а затем повернулся, чтобы снять туфли, и Нинель Никодимовна увидела позади него свисающий разноцветный петушиный хвост, то у нее ослабели ноги, и она по стенке съехала на пол.
Григорьев не пожелал на это отреагировать.
– Не думаете ли вы, что я буду его ощипывать? – спросила наконец Нинель Никодимовна.
– Его не надо ощипывать, – ответил Григорьев. – Его надо кормить пшеницей и одуванчиками.
– А потом? – заинтересовалась Нинель Никодимовна.
– А потом я заберу его обратно, – сказал Григорьев.
Нинель Никодимовна вздохнула:
– Вы, как всегда, оригинальны, Григорьев. А я решила, что вы мне его дарите.
– К сожалению, это не моя собственность. Да я бы, признаться, и не додумался.
– Ну, ну, не прибедняйтесь! Приходят же к даме сердца с поллитрой и килограммом отварной колбасы. Ну, а живой петух – это было бы как раз на уровне вашей фантазии.
Григорьев слегка покраснел, сунул петуха сидящей на полу Нинель Никодимовне, торопливо влез в туфли и выбежал.
Явился он через полчаса с охапкой белых и розовых гвоздик. Нинель Никодимовна, переодетая к его возвращению в длинное черное поблескивающее платье, зарылась лицом в мягкие цветы.
– Вы что, скупили цветочный магазин?
– Нет, сэкономил время сыну гор, как раз успеет на вечерний рейс.
Черное платье и бело-розовые Гвоздики. Белые, розовые гвоздики. Черное платье.
– Прелесть, Григорьев… – прошептала Нинель Никодимовна.
Григорьев на это не отозвался, не поддержал предложенного нежного запева, сидел в кресле и отсутствующе пялился в пространство.
Нинель Никодимовна нисколько от этого не отчаялась и, легко и музыкально двигаясь, стала определять цветы в хрустальную вазу.
Это сказать можно быстро: поставить цветы в вазу. У Нинель Никодимовны это простое дело превратилось в сложный процесс, в завораживающее зрителя исполнение: белые, точеные руки, подчеркнутые праздничной чернотой платья, осторожно тянулись к празднично сверкающей алмазными гранями вазе, осторожно обнимали ее тонкими, изящными пальцами, снимали с полки, бесшумно ставили на полированный столик, в котором все отражалось слегка затуманенно, как намек, и когда Нинель Никодимовна удалилась на кухню за водой, в полированном отражении продолжало дышать ее присутствие. Потом Нинель Никодимовна возникла у столика снова, с обманчиво-простым, наполненным водой графином в белых руках. Прозрачная, кристально чистая вода потекла из одного граненого сосуда в другой, округло булькала и роптала, взгоняла кверху мелкие и крупные жемчужины воздуха, а заняв сосуд, успокоилась, приняла в себя зеленые стебли с бамбуковыми утолщениями у матовых узких листьев и стала покрывать их крохотными серебряными пузырьками. А точеные, белые руки трогали, поправляя и согласуя, пышные цветочные кроны, и прикосновения их были нежны и томны, любовны и многозначительны, как преддверие ласк.
Григорьев не отрываясь смотрел, завороженный доверительной, притягивающей плавностью женщины, и вдруг сказал, что теперь его жизнь определилась. Белые руки замерли.
Да, он знает, что делать. Он должен оправдать свое никчемное существование. И он его оправдает хотя бы и таким образом.
Он неторопливо и отстраненно повествовал о похоронах сестры. О могиле отца. О Валенюке. О тетушке Евдокии Изотовне.
Нинель Никодимовна осторожно сидела в кресле. Белые руки выжидательно покоились на обтянутых черным коленях. Пальцы, впрочем, подрагивали, как скакуны на старте, выслушивая сигнал, по которому можно сжаться в белые крепкие кулачки.
– Интеллигентный и деликатный, – так же ровно и отстраненно, как Григорьев, проговорила Нинель Никодимовна. – Деликатный и интеллигентный – в этом все дело. А надо – в зубы. Каждому подлецу – в зубы.
Григорьев удивленно помедлил.
– В зубы!.. – страстно повторила Нинель Никодимовна, и пальцы ее затрепетали.
– И кем же тогда станешь? – спросил Григорьев. – Подлее подлеца? Ведь я буду в зубы – по убеждению? Не ради сдобного пирога и мягкого стула, которых мне, допустим, ужасно хочется, а – идейно, ни для чего?
– Почему же – ни для чего? – усмехнулась Нинель Никодимовна. – Ты для того, чтобы подлец подлецом не был.
– А он мне сдачи даст?
– А ты сильнее бей, чтобы не давал!
– Так я для чего бью – чтобы честным сделать или чтобы сдачи не получить?
– А ты, миленький, сочетай!
Григорьев моргал, будто Америку открыл:
– Это же чудовищно – честные люди из своевременно битых подлецов. Честность, которая выгодна. Да это та же подлость! Честным может быть только непорабощенный человек.
– Григорьев… – голос Нинель Никодимовны сдавило от напряжения. – Григорьев… Кому все это надо?
– Что? – как бы споткнулся на большой скорости Григорьев.
– Мы все равно рабы! Мы всегда будем рабами… Мы рабы у самих себя!
Григорьев с сожалением на нее смотрел. И вот пальцы пружинисто сжались.
– Кто она? – глядя в окно, безлико спросила Нинель Никодимовна.
– Вы о чем?
– Пока вы рассказывали о своих странствиях, вы дважды вместо «я» сказали «мы», «мы с ней». Кто она, Григорьев?
– Никто, – ответил Григорьев.
– И это никто таскается с вами по кладбищам? И сейчас тоже здесь?
– Это просто так, – сказал Григорьев.
– Просто так? – засмеялась Нинель Никодимовна. – А вы знаете, что означает такое «просто так» у женщины?
– Мне казалось, что я говорил вам о другом, – вполне равнодушный к тому, что это означает, и почувствовавший вдруг дискомфортность от своего пребывания в мягком кресле, среди ковров и хрусталей, проговорил Григорьев.
– О да! Вы говорили, Григорьев, что хотите посвятить себя могилам. Да вы юродивый, Григорьев! Боже мой, неужели на Руси еще не перевелись юродивые!
Она засмеялась удушливо и вдруг как-то расплылась, кисти рук налились краснотой и набрякли, до этой минуты благополучно обтянутое платьем тело стало вылезать, топорщить щелк, распирать его по швам, натягивать соединяющие его белесые нитки. Григорьев с изумлением следил за этим превращением, на его глазах агонизировал один человек, а на останках, как черный, склизлый гриб на навозе, возникал другой, чужеродный и отталкивающий, и это легкое, уродливое превращение было неприличнее и стыднее всего.
Нинель Никодимовна оборвала смех и вскочила, но уже поняла бесповоротно, что предстала перед Григорьевым в самом мерзком обличье, в таком, видимо, которого и не знала в себе, но которое, судя по брезгливому лицу Григорьева, было для нее хуже смерти. Но ведь это не так, не так, не так!.. И она в беспомощности, гневе и отчаянии вцепилась в вазу с нежными гвоздиками и ринула ее на пол, и ужаснулась тому, что это его цветы, что она оскорбляет его, и чтобы доказать, что она не думала его оскорбить, Нинель Никодимовна смахнула две другие вазы, и тут же представила, как безобразно выглядит, и зажмурилась, и пошла в ярости крушить все, что попадалось, и ей хотелось, чтобы Григорьев схватил ее и убил или чтобы немедленно сделал что-нибудь скверное и поганое, чтобы можно было убить его. Но он сидел в кресле и смотрел, и Нинель Никодимовне сделалось невозможно жить, она бросилась на визжащие осколки и потребовала себе смерти, и в исступлении стала понемногу холодеть и умирать…
Григорьев поднял ее с пола и положил на закрытую малиновым ковром тахту. Из сжатых ладоней Нинель Никодимовны сочилась кровь. Он разогнул ей пальцы и выбросил мутные, осколки.
– Я дрянь, – не совсем внятно проговорила Нинель Никодимовна. – Я ужасная дрянь.
– Прекратите, – строго сказал Григорьев. – Скажите, где бинт?
– В ванной, – сказала Нинель Никодимовна. – Уж теперь-то вы на мне не женитесь.
– Женюсь, – ответил Григорьев и пошел за бинтом.
Нинель Никодимовне стало жутко одной, она встала и поплелась за ним.
– Мне больно, Григорьев, – сказала она. – Отверните холодный кран, я промою это свинство.
Он отвернул кран и стал искать йод и бинт. Нинель Никодимовна поворачивала ладони под тугой струей и с неподвижным лицом говорила:
– Я выхолощенная, равнодушная баба, Григорьев. Встретила раз в жизни стоящего мужика, так и тот не по мне. Еще кое-какой женой я была бы, а родила бы пару пацанят, то, может, и не ушла бы от тебя. Но это не то, Григорьев. Нет, не то. Ела бы тебя смертным поедом, потому что где же ты возьмешь то, что мне нужно?
– А что вам нужно? – спросил Григорьев, капая в порезы йод. Руки Нинель Никодимовны отключенно лежали на краю раковины.
– А мне тоже нужна идея, Григорьев, – так же отключенно продолжала Нинель Никодимовна. – А у меня ее нет. Вы хоть какую-то нашли, хоть совершенно ублюдочную… Ну, чего вы дергаетесь, Григорьев? Мимо льете.
– А, ну да, извините. Вы говорите, Нинель Никодимовна, вы говорите так, как у вас на душе. Я ведь принимаю все, что вы говорите.
– С чего бы это?
– Вы не лжете и не прикидываетесь.
– Сука я, ударьте лучше.
– Именно мордобоя нам и не хватает.
– Не понимаете вы ничего, Григорьев. Мордобой – это, может быть, спасение! А, опять повело, гадости говорю.
– Ваши гадости – с отчаяния и одиночества, – возразил Григорьев, быстро и вполне даже профессионально бинтуя руки Нинель Никодимовны. – Это, так сказать, честные гадости.
– Ну, вы тоже дошли – честные гадости. Да лучше из окна вниз головой…
– Давайте другую руку.
– Надо же, до чего мне не везет, Григорьев. Теперь уж все. После вас – все, Григорьев.
– Ну, и глупо. Будто людей приличных нет.
– А на что мне приличные, Григорьев? Знали бы вы… Знали бы, чего нам надо! Мне бы плакать по кому-нибудь, хвостом плестись, декабристкой по снегу, цепи целовать… А цепей-то на вас, на приличных, и нет. Свободные вы, от всего свободные. Нет, Григорьев, такого бы, как ты, но – другого. Не мой ты. Не для меня твоя идея. Не чувствую. А если уж до кишок честно, то – боюсь. Воспринять тебя, так и не жить после, а я, сволочь, жить хочу, хоть чуть и не сдохла сейчас. Нет, я за жизнь до последнего цепляться стану, хоть и не стоит она того – тут уж твоя правда.
– А не приписывайте мне, Нинель Никодимовна! Все наоборот совсем. Я как раз наоборот чувствую: цепляться мне, извините, тошно. Разрешите мне без цеплянья попробовать.
– Для себя-то ты ведь что угодно можешь чувствовать, а для всех-то твои чувства чем выходят? Нет, не принимаю, Григорьев. Буду цепляться! Выживу! Назло всем сволочам выживу, хоть и сама сволочью стану…
Он держал ее забинтованные руки и старался не смотреть на нее, но слушал ее пресекающийся голос и понимал, как ей страшно сейчас – страшно терять, сминать надежду, страшно отпускать его, страшно оставаться одной, так страшно, что она отдаляет эти минуты и говорит, говорит, лихорадочно напяливая на себя маски вульгарной, истеричной, многоопытной, то глупой, то напоказ умной бабы, и хотя все это в ней есть: и многоопытность, и глупость, и ум – все равно перед ним сейчас не она, она – он знает это точно и навсегда – она то затерявшееся среди чуждых наивное лицо девочки, которую нельзя обижать…
Он наклонился над ее забинтованными руками и стал целовать беспомощные кончики пальцев, и она, замолкшая на полуслове, застонала:
– О-о, Григорьев… Куда мне жить? В какую сторону?
Сквозь бинты он чувствовал дрожь ее рук и стал дышать на ее пальцы, словно бы ей было холодно, и он должен был согреть ее.
Она детским голосом пригрозила:
– Пить буду. Сопьюсь и под забор лягу. А ты пройдешь мимо и плюнешь.
– Зачем ты? Ты не такая, ты не такая… – твердил он покрасневшим, жалким пальцам, а Нинель Никодимовна тянулась и наклонялась, чтобы услышать его невнятные слова. – Ты не такая. Ты добрая, ты маленькая, тебя нельзя обижать… Я знаю, знаю. Тебе больно, а я не могу… Прости меня, прости, я виноват, мы все виноваты, мы виноваты перед тобой, мы не смогли уберечь тебя, прости меня, прости меня…
Он чувствовал, как она успокаивается от его слов, как безвольные руки ее оживают, обретают силу и необидно ускользают от него. Он наконец решился взглянуть на нее и увидел перед собой женщину, недоступную и блестящую, с поразительно белым лицом, с царственным изгибом шеи, женщину, отстраняющую его властным жестом, не прощающую его преступления, но милостиво дарующую ему жизнь. Он закивал и попятился, освобождая ей путь, и она прошла мимо него так потрясающе, так прекрасно, что для него подломились и стали исчезать узкие стены коридора, и он увидел ее шествующей через свободную даль, освещенную солнцем, и догадался, что она ушла от него неузнанной, что он так и не рассмотрел ее истинного лица, и с покорным, теперь уже навсегда бесполезным сожалением понял, что ему был предложен дар, возможно, единственно для него счастливый, но он не распознал его и теперь будет жить нищим.
Она остановилась у раскрытой двери в комнату, но не повернулась к нему. И больше не звала его, стояла к нему спиной, и было у нее сейчас настоящее лицо, но ему уже нельзя было увидеть его.
Он ушел.
* * *
Опасность! Санька почувствовала ее мгновенно, едва взглянула на Григорьева, и пока он подходил, кинулась вспять: от радостного ожидания к безразличию, от благодарной нежности, постоянно наполнявшей ее рядом с Григорьевым, к сдержанному, необязательному дружелюбию, к безличной приветливости, с которой она общалась и со всеми прочими людьми.
Григорьев, еще за несколько шагов окинувший Саньку напряженным, испытывающим взглядом, обнаружил спокойную, приятную девушку, только что купившую мороженое и целиком поглощенную веселой болтовней с продавщицей. Он остановился у вагона, проверяя, заметит его Сашенька или нет, и если нет, то это будет подозрительно, это значит, что она, скорее, лишь притворяется спокойной и невольно переигрывает, чтобы доказать свое безразличие к нему. Но Санька, едва он остановился, повернулась к нему, мимолетно кивнула, крикнула «Я сейчас!» и продолжала интересную беседу с продавщицей.
Через несколько минут она вошла в вагон и, лакомясь своим ополовиненным мороженым, протянула Григорьеву, целое, только что купленное:
– Хотите?
И, не интересуясь его ответом, вышла из купе, чтобы не мешать попутчикам.
«Ну да, – подумал Григорьев, – что ей во мне? Да если бы что и было, какое я имею право требовать, чтобы она делала так, как хочется мне? Да и как мне хочется? Мне и в голову не приходило примерять ее к себе, это вовсе не мои мысли, это о т т у д а. И как можно предполагать что-то определенное, если т а м ее даже не видели? И почему я заранее настроился против, будто меня в чем-то обманули или на что-то во мне покусились? Нет, нет, это не мое, это о т т у д а…»
Григорьев почувствовал себя свободнее, у него даже оказалось совсем неплохое настроение, за что он себя тут же осудил и попытался хорошее настроение перестроить на плохое, так как всего час назад в его жизни происходило весьма важное и, надо полагать, отрицательное, так что для веселья никаких поводов он не имел. Но как он ни уговаривал себя огорчиться недавним, огорчиться ему не удавалось, и он винил себя в том, что он эгоист, ханжа и обманщик. Но и такое обвинение ему не помогло, он с азартом уплел мороженое и, высунувшись в окно, купил еще две порции и заразил легкомыслием молоденькую пару, те тоже срочно захотели мороженого.
Пошел дорожный разговор – кто, откуда, где работает, какое лето, в каких турпоходах бывали, молодые ехали из Кижей, осматривали по пути древний Смоленск, но Петрозаводск им понравился больше, а Кижи, и озеро, и острова – просто передать невозможно, нет, нет, все это удивительно, и если вы не бывали, то обязательно поезжайте, а то вот-вот рухнет, и ничего не останется.
– Да, да, надо обязательно, – согласился Григорьев, – вот только закончить все неотложные дела, и можно поехать.
– А что, – сказала Сашенька, – путешествовать так путешествовать!
Хорошие попались попутчики, милые и нескучные. Время от времени Григорьев вспоминал в общем разговоре о своих подозрениях и бросал внезапные взгляды на Сашеньку, но та увлеченно слушала об амбарах и гульбищах и даже не замечала минутной настороженности Григорьева. Только раз, наткнувшись на его придирчивый взгляд, Сашенька отвлеклась от повествования о Кижах и, наклонившись к Григорьеву, спросила с участием:
– Что-то случилось, Николай Иванович?
Григорьев виновато и даже благодарно – беспокоится в пределах обычной дружеской нормы – ей улыбнулся:
– Нет, нет, Сашенька… Все в порядке.
А что в порядке? То, что он, последний негодяй, шпионит за ней?
Соображения, впрочем, были не такие уж неосновательные: любовь требует любви, а когда ее не находит, то или удаляется, или становится навязчивой. То и другое означает для Григорьева потерю, только в одном случае Сашенька покинет его сама, а в другом это сделает он, потому что ненужная любовь вызвала бы неприязнь и раздражение, так что во всех иных случаях дорогой человек превратился бы в обузу, в обременительный придаток, от которого избавляются без особых церемоний. Он не мог представить Сашеньку в унизительной роли человека, назойливо ищущего подаяния, поэтому неожиданная для него проблема сводилась к простому: он не хотел, чтобы Сашенька покинула его. Представив на миг, что она тихо и скромно, без всякой демонстрации, как делала все, удалилась от него, он ощутил неприятную пустоту, холод и даже какой-то испуг, как в детстве, когда ему приходилось ночевать одному и когда мир, днем такой обычный и незамечаемый, оказывался слишком большим для него, и эта несоразмерность так напирала на его тщедушное тело, что он чувствовал себя прижатым к самой кромке небытия.
Нет, нет. Он не хотел ее терять и потому не хотел, чтобы она любила его.
Однако за весь вечер не уличив Саньку ни в чем для себя нежелательном, Григорьев наконец успокоился и почти перестал упрекать себя за не слишком благовидные мысли.








