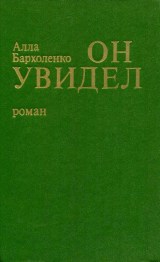
Текст книги "Он увидел"
Автор книги: Авигея Бархоленко
Жанр:
Драматургия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц)
Григорьев спрятался в холодном сарае и вызубрил про Альпы и Тибет слово в слово, и всю медленную, недалекую дорогу до городского кладбища тайком шептал отцу запоздалый урок. Но рядом плакали и сморкались, музыка стонала – разве услышишь. Дождался следующего дня и пришел на могилу один, выговорил заученное громко, но опять же – столько земли между, где уж тут. Так и осталась и прижилась на дальнейшую жизнь вина несделанного – надо было заняться, а он поленился, или не успел, или не заметил.
И сейчас, подскакивая и ушибаясь в кабине громыхающего самосвала, Григорьев думал о том, что чувство вины не покидало его, даже когда он старался что-то д е л а т ь, – сделанного всегда оказывалось мало по сравнению с тем, что ждало, просило, требовало его вмешательства, и он терялся, слабел перед этими беззвучными голосами и в большинстве случаев проходил мимо, как проходили и все другие, тоже, возможно, не совсем глухие от рождения, но в конечном счете такие же пассивные и преступные. И всегда Григорьев уклонялся от неустающего, вроде бы беспричинного чувства вины и спешил переключиться на постороннее. Сейчас он стал забыто думать о матери, пытаясь восстановить в памяти ее облик, чтобы наполниться печалью, запоздалым трепетом перед Родившей его, прошептать покаяние в своих прегрешениях и получить краткое утешение, и потаенно при этом знать, что в нем прощают ребенка, но не судят мужчину.
Он стал вспоминать о матери подробно, услышал слова ее и интонации. И в ее голосе теперь открывалось больше, чем тогда, когда она, живая, говорила с ним, пытаясь научить чему-то неясному; и с неприятной себе усмешкой отметил, что человеку нужно умереть, чтобы сказанное им обрело весомость хотя бы для собственного сына.
Они тогда, после смерти отца, не захотели оставаться на прежнем месте и переехали в другой город. Чтобы дети не заметили надвинувшейся скудости, мать бросила учительствовать и пошла на завод, сначала табельщицей, а поосмотревшись, перешла в кислотный цех – и детсад, и зарплата, и рабочий день в два раза короче, и на пенсию в сорок пять. До пенсии, однако, не дотянула, стал донимать сухой кашель и боли в груди, затосковала по родине, о владимирской деревеньке, а он не понимал умиления каким-то прудом посреди улицы или цветущим льном, которого не мог представить. Лицо матери лихорадочно загоралось, она говорила с остановками, скоро слабея от неглубокого, жесткого дыхания:
– Вот бы где умереть-то, Коленька! Вот бы где! Там и дед твой, и бабка, и все прадеды… Крестьяне мы, Коленька, крестьяне были… Ржица-то как звенит, когда вызревает… Жаворонок в небе, а рожь под ним волнами… Огородничали, мяту да петрушку сеяли, хрену сколько по закраинам, у всех сады вишневые… Весной, когда цветут, так будто в сугробах изба тонет, хороша у нас вишня была… А хмелю, хмелю что росло! Не видели вы всего этого, бедные мои. Хотела свозить вас, чтобы поклонились корню своему, да засуетилась вот, а теперь уж не успеть. Ах, Коленька, как виновата-то я!..
Он в ответ бормотал успокоительное, натягивал одеяло на ее исхудалые, синеватые руки, а она, разволновавшись, подолгу билась в кашле, и кашель представлялся Григорьеву громадным взбесившимся зверем, и все непонятно было, как такой огромный дурной зверь мог поместиться в крохотном, тщедушном теле.
Мать все смотрела виновато, а то вдруг, без всякой связи с тем, что говорила только что, заклинала его свистящим шепотом:
– Не бросай институт! Слышишь? Два года осталось, не бросай, Коленька! И Сашеньку не оставь, живите вместе, чтоб ей хотя бы лет шестнадцать…
Опять явились женщины, незаметно что-то делали, сестра издали смотрела на все суровыми глазами. Григорьев прижимался к ней, притискивая ее маленькое плечико к себе, сестра не отстранялась, и это трогало его чрезвычайно. Не говорили, сидели молча, а вокруг чем-то занимались, что-то устраивали женщины, что-то продвигалось к последнему свершению.
Мать лежала в нарядном, с красными оборочками гробу, пышно укрытая белоснежным батистом, с охапкой осенних цветов в ногах. Маленькое, обострившееся лицо ее смотрелось чуждо, от этого терпеть было легче, они отстраненно, по ритуалу, приложились к неприятно холодному лбу, но когда гроб стали накрывать крышкой, Григорьева окатило жарким мраком, а сестра больно вцепилась острыми ногтями ему в руку.
Они не плакали – плакали другие. Они застыло смотрели в черный провал, открывшийся в стене, куда стал медленно уплывать заколоченный гроб, а сестра вдруг дернулась, заоглядывалась, но все стояли смирно. В плачущих лицах читалось освобождение от завершающегося действия, все уже сморкались окончательно и вытирались насухо, чтобы выйти отсюда в общую жизнь в приличном виде, и стало понятно, что это конец, это все, а она чего-то не успела, сберегла последнюю боль и не дала ей вырваться и тем как бы обделила свою умершую мать, и теперь уж совсем не успеет, – все это он понял потом, в том одиночестве, в котором они с ней стали жить, а тогда сестра рванулась вслед за уплывающим в черноту гробом, но ни поймать, ни остановить не успела, медленные металлические шторы закрыли провальный зев и пересекли путь, для которого у всех остальных – пока – не настало время.
– Где? Почему? Где?.. – трясла она брата. – Почему так? Почему не как надо?..
Ошеломленный и горестный, почти парализованный, Григорьев не понимал, чего она требовала от него, и лишь на обратном пути из-за неприступного ее молчания догадался, что для сестры дополнительным потрясением оказалось, что мать не похоронили привычно, а новомодно кремировали. Он не решился объяснить, что так было дешевле, что он поддался на агитацию похоронного инструктора, пропагандировавшего нововведение. Окончательно убедил Григорьева «Реквием» Моцарта, который в ненужной торжественности и отзвучал над отработанным телом русской бабы.
И опять перед ним встала картина: сестра, выйдя из мраморного траурного зала, оцепенело уставилась на высоченную кирпичную трубу, над которой вытягивался слабый дымок. И другая картина, когда он неожиданно увидел сестру на улице: она замерла перед трубой обычной котельной. Чтобы не попасться ей на глаза, он торопливо свернул за ближайший угол.
Слишком большая была разница в годах, они оставались каждый сам по себе. И хотя иногда словно нечаянно касались друг друга плечами, сидя перед телевизором или собирая скудный ужин, или потихоньку, будто прячась от кого-то, – слишком заметная дыра в бюджете – заходили раз в месяц в кафе съесть мороженое, этого было мало, чтобы укрыться от настойчивого, замораживающего одиночества. И Григорьев подозревал, что у двенадцатилетней сестры его чувство это намного острее и бездомнее, но она стойко хранила его в тайне, уклоняясь от ласки, если ласка превосходила то, что было между ними обычно, и отказывалась от незапланированных двадцати копеек на кино – двенадцатилетний человек не хотел быть в тягость кому бы то ни было.
Изредка сестра задавала вопросы:
– Мы ходили в поход, у нас остались продукты – тушенка и конфеты, а три девочки и учительница разделили их между собой и спрятали в своих рюкзаках. А ведь у нас и отец, и мать были учителями?
Он выкручивался:
– Если одна собака сломала ногу, то это не значит, что все собаки хромые.
Сестра не спорила, но он видел в ее глазах усмешку, она хотела бы не такого поверхностного разговора, но великодушно не настаивала на большем, признавая, что он своим ответом выполнил роль старшего если не на пятерку, то уж на троечку определенно.
В другой раз:
– Мы избили Малявину. Она докладывала классной обо всем, что мы говорим, и получала за это пятерки. Но ведь человека бить нельзя?
– Нельзя, – не слишком уверенно утверждал он, ненароком вспомнив, что человечество мается над этой проблемой с тех пор, как у людей начало прорезаться сознание.
– Вот и Малявина сказала, что нельзя и что мы теперь хуже ее.
– Вы не хуже, вы просто поступили не лучшим образом.
– А как – лучшим образом?
– Это зависит от конкретных обстоятельств, – ответствовал он, дурак дураком.
И сестра как-то незаметно перестала спрашивать. Он спохватился и полез с поучительными примерами. Она сказала спокойно:
– Коля, я уже не в пятом классе.
Это точно, она была в шестом. В конце концов он признался, что воспитатель никудышный и что сестренка, пожалуй, во многом его самостоятельнее.
Когда ей исполнилось шестнадцать, сестра устроилась на работу и, ни одной вещи не взяв из квартиры, перешла в общежитие.
– Тебе, Коля, пора заводить семью, – сказала она.
Он возмущался, уговаривал – напрасно. Вспомнил:
– А школа?
Она улыбнулась со всегдашней своей легкой снисходительностью:
– Не беспокойся, Коля. Я сегодня отсидела четыре урока в вечерней.
Он долго молчал. Чем-то тревожила его эта независимость, эти спокойствие и настойчивость – слишком много должно быть за ними недоступной ему боли.
Она подошла к нему и вдруг ласково провела ладонью по его щеке.
– Нам обоим так лучше, – проговорила она мягко, и он понял, что противиться не сможет, что и в самом деле так, может быть, лучше, хоть невесело сейчас им обоим, а ему еще и стыдно: не он, мужчина, чем-то жертвует для нее, а наоборот.
– Я ведь уже могу сама, Коленька. И никто тут не виноват. А ты и так много сделал для меня. Ну? Погладь меня тоже и попробуем жить дальше.
Она так и сказала тогда: попробуем… Тогда он, естественно, не обратил на это внимания, несколько подавленный мыслью, что сестра оказывалась сильнее его да, пожалуй, и умнее.
Через некоторое время он повел к ней свою первую невесту. Невеста, узнав, что сестренке нет и семнадцати, шла на свидание бодро, с обидной для Григорьева небрежностью, а встретившись со спокойным взглядом Александры, сбилась с тона, заюлила, полезла к сестренке целоваться, а та в ответ вежливо улыбалась. Когда же заранее расстроенный брат потребовал решительной оценки, Александра мягко, как старшая, посоветовала:
– Не спеши. Полгода, год – если преданный человек, значения не имеет. Не спеши.
Он нашел совет резонным, а невеста, уяснив, что быстро не выгорает, как-то незаметно исчезла из поля зрения; месяца через два, случайно встретившись на улице, представила Григорьеву новенького, улыбающегося мужа, а еще столько же спустя родила шустренького мальчика, и на всю жизнь изумленный внезапный супруг так и не смог отвертеться от алиментов.
Точный глаз был у Александры, чего уж тут. Сама она по этому поводу сказала отнюдь не весело:
– Прозрачные все, как мыльные пузыри…
И сейчас неожиданно для себя Григорьев подумал, что, может, лучше такого дара и не иметь. Лучше уж платить алименты.
* * *
Попутный самосвал довез его до окраины городка. Григорьев поблагодарил и хотел уже идти и стучаться в ближайший дом, чтобы узнать, где тут и как, но его остановило философское размышление шофера:
– Интересно. Что мне из твоего «спасибо» делать? На стенку заместо почетной грамоты повесить или так бросить? Повешу, пожалуй. Пусть внуки на дурака смотрят, который за здорово живешь туда-сюда путешественников развозит.
Григорьев давно уже покраснел и, вытащив трояк, стоял теперь с протянутой рукой, ожидая, когда шофер закончит свою мысль и обратит внимание на деньги.
– М-да, граждане пошли. По такой-то дороге кто тебя за трешницу повезет? Тут и за пятерку не каждый согласится.
– Да, да, извините… – пробормотал Григорьев, поспешно доставая пятерку. – Пожалуйста…
Шофер интеллигентно, двумя мазутными пальцами взял пятерку, расправил и приложил к трояку.
– Ну, теперь вроде как…
Достал портмоне и стал аккуратно укладывать бумажки в отделения – синенькую в одно, зелененькую в другое, полностью отключившись от все еще стоящего перед ним парализованного пассажира.
Сложив портмоне и задвинув его куда-то очень глубоко, как бы даже внутрь своего организма, шофер самосвала небрежно газанул и запылил дальше, так и не взглянув на Григорьева, будто того никогда нигде и не было…
Зачем Григорьеву был нужен этот взгляд, неизвестно, но, не дождавшись его, Григорьев почувствовал себя прямо-таки раздавленным, все не мог сдвинуться с места и с тупым недоумением взирал на удалявшуюся машину, и не трояка, не пятерки было ему жаль, а вот плюнуть бы на все и ничего больше не видеть.
Ну, хоть бы шельмовал товарищ, так ясно бы, что шельма, и сам бы он знал, что шельма, и видно было бы, что он это знает, тогда и цена ему понятна. Или выклянчивал бы, хитрил, изворачивался – так нет, очищал встречного спокойно, безразлично, как гриб срывал. И не человеком был для него Григорьев, а неким приспособлением для ношения в карманах денежных знаков, которые он, шофер, так и быть, согласен переложить в свой карман, но не по мелочам же совершать ему это усилие!
Самосвал давно уже скрылся в тихой, покорной улочке окраины, а Григорьев чувствовал себя все неудобнее и неудобнее, как бы совсем не к месту, и хотелось ему выбросить все деньги, которые были у него, и одежду свою выбросить, и идти голому по земле и плакать.
Чтобы отвлечься от этого гибельного и жалкого соблазна и вернуть себя в состояние, в котором можно общаться с людьми, Григорьев перешел на четкий солдатский шаг и, забывшись, через какое-то время снова оказался на том же месте, в устье улицы, впадавшей в пустырь и новую дорогу.
Внутри нехотя успокоилось, и он заставил себя постучать в крайний дом и спросить, где похоронная контора. Хозяйка, вытирая фартуком измазанные мукой руки, вгляделась в лицо Григорьева и принялась степенно и подробно объяснять. Оказалось, что надо в другой конец города, и Григорьев почему-то очень этому обрадовался. Кажется, его радовало все, что замедляло цель и не требовало новых решений.
Он шел по окраинным улочкам, где вместо тротуаров были протоптаны в траве узкие тропинки, а каждый прохожий провожался из окон долгим взглядом, шел и слышал в себе нарождение светлой тоски, как будто уже в давней дави был здесь, и было ему тогда беззаботно, и он не знал еще, как это хорошо, а теперь вот знает, но войти ему в то давнее уже нельзя, и счастье еще, что оно хоть краем открывается ему, потому что можно пройти и не узнать, и ничего не почувствовать, и оскудеть, ни разу не коснувшись своих истоков.
«А я так и жил, – подумал Григорьев, – так и жил до сегодня – скудно и беспамятно, будто я первый и пришел навсегда, а до меня никого не было и после тоже не будет. А ведь они были, и были зачем-то, и как бы самонадеян я ни оказался, я не могу сделать приятного вывода, что все они, тысячи тысяч, были только для того, чтобы на какое-то время во Вселенной возник я, Николай Иванович Григорьев. Так зачем же, зачем они были? И зачем я? Что я должен? – смутно вопрошал он себя с каким-то ожесточением. – Нет, не так, не так я должен, все мы должны не так…»
Он шел заданным себе солдатским шагом, взмахивая руками, уже не замечая, что трава у его ног прижалась к заборам, тротуары стали шире, что деревянные домовладения поднялись на каменные нижние этажи, явился пустырь, а за ним похоронная контора – низенький, крашенный зеленой краской домик с длинным, тоже зеленым сараем позади, с висячими тяжелыми замками там и тут. Здесь Григорьев от своих философствований без предварения перешел к прозе жизни и, стоя перед полновесным черным замком на зеленой двери, услышал, что высказывается перед ним недлинно и, можно сказать, энергично. Сам себе несколько удивившись с непривычки, он посмотрел туда и сюда, но на полкилометра во все стороны не было ни души.
Двинулся Григорьев по пустырю обратно и, обойдя с десяток ближних домов, выяснил, что работают в похоронном бюро Игнашевы, муж с женой: сам сколачивает, сама обтягивает, делают с толком, уважительно, жалоб не поступает, а что на конторе замок, так кому надобность, те и домой к мастерам не поленятся, а если он приезжий, так пусть идет все прямо, прямо, никуда не сворачивая, и на том конце спросит. Да кто умер-то?
– Не здесь, – ответил Григорьев. – На стройке.
– А, на Новой… То-то я говорю, что у нас не слыхать, чтоб померли. Ну, так ты вот так прямо иди и иди…
Когда Григорьев отыскал Игнашевых, вечерело. Самого дома не оказалось, укатил на рыбалку. Сама, очень ладная, опрятная, с круглым приветливым лицом, встретила Григорьева предупредительно, пригласила в чистую комнату и выслушала, горестно кивая.
«Профессиональное, что ли, – подумал Григорьев, – или хватает сочувствия на всех?» Он поискал в лице женщины притворства и равнодушия, не нашел и смутился.
А женщина говорила:
– Пойдемте, пойдемте, какой разговор. Мне бы только пироги к соседям отнести, чтоб там испекли, не подождете ли минут пять?
– Конечно, конечно, – торопливо согласился Григорьев. – А у вас что – все сегодня пироги пекут? «Какие пироги, о чем я?..»
– Да ведь пятница, – как бы оправдываясь, проговорила женщина. – У нас на выходные всегда так. Так я сейчас.
Она вышла.
«У меня горе, и я несчастен», – напомнил себе Григорьев и все-таки подробно оглядел комнату, в которой остался, и думалось ему при этом не о том, как ему тяжело и плохо, а о том не слишком значительном, что было перед глазами. О том, например, какая в этом жилище особая чистота – не разовая, только что наведенная, а постоянная, многолетняя и как бы сама по себе – понравилось ей у Игнашевых, вот и поселилась. И весь дом был крепкий, убранный, удобный, ничего в нем не скрипело, не вихлялось, в саду были проложены гладкие зацементированные дорожки, а часть улицы перед усадьбой столь же аккуратно и гладко заасфальтирована. Надо думать, не руками одной хозяйки делалось все, а и хозяин был под стать, да при другом Игнашева и не выглядела бы так славно.
«Странно, – подумал Григорьев, – странно». Не такими представлял он гробовщиков. И еще странно, что все это его вроде бы интересует.
Игнашева скоро вернулась, успев снять передник и повязаться более нарядной косынкой. Хорошо, отрадно она выглядела, как чистая спелая вишня. «Наверно, детей не было», – решил Григорьев. А впрочем, какое ему дело.
– А дети у вас есть? – спросил он, когда они сошли с гладкого тротуара на корявые комки запекшегося каменноугольного шлака, которым была усыпана территория вдоль соседнего неряшливого забора.
– Как не быть, хороший мой, – ласково ответила Игнашева, нисколько не удивившись внезапному вопросу. – Пять сынков и четыре дочки. Большие уже, не живут с нами, стесняются.
– Как стесняются? – хотя и понял, переспросил Григорьев.
– Работы нашей стесняются, – спокойно пояснила женщина. – Три года назад собрались все девятеро и нам с отцом ультиматум – меняйте профессию. Ну, подумали мы с отцом – все вместе просят, уважим неразумных. Он у меня и столяр, и слесарь, все может хорошо, везде с радостью возьмут. Вот и устроился на мебельную, а в контору нашу поставили тут одних – два брата, молодые. И пошло у братанов – то гвоздь торчит, то доска отстает – того гляди, покойник вывалится. И обтянуто кое-как, ни чинности, ни соответствия. А потом и вовсе придумали – накупят водки, залезут в гробы и пьют, а музыка заграничная полночи на всю округу шпарит. Ну, терпели у нас, терпели, накостыляли пару раз, да им-то что, если богом обижены. Тут и приходят к нам старики, которым помирать скоро. Андрей Павлович, говорят, Мария Константиновна, Христом богом просим, не хотим последний путь справлять в этакой халтуре и осквернении, так и знайте, что не помрем, пока на прежнее место не вернетесь. Да живите, милые, говорим, не спешное, чай, дело. А покойный Степан Федорович, живой тогда был, обиделся даже: «Вот ты шутишь, Мария Константиновна, а нас край как приперло, грешно это – сверх своего веку жить, хоть и можно. Освобождать надо место…»
– Чему же она-то место освободила! – вдруг вырвалось у Григорьева.
Мария Константиновна, споро шагая рядом, помолчала.
– Сколько ей было? – негромко спросила она.
– Двадцать два… – Голос его сорвался, и Григорьев, досадуя на себя, покашлял, делая вид, что просто так, по будничной причине запершило в горле.
– Кому и короткий век длинен покажется, – проговорила Мария Константиновна. – У жизни ведь тоже своя плотность. Иной жидко живет, будто кисель тянется, а у другого замесится – хоть режь. Не осуждай, миленький. Знаю, не одобряют такое, да ведь ей теперь хоть как – она свое сделала.
– Но почему? Почему?.. – воскликнул Григорьев, останавливаясь сбоку и требовательно упираясь взглядом в лицо непричастной Игнашевой.
А та ответила, будто знала что-то:
– А вот и ищи, коли болит.
Рассказа своего она больше не возобновляла, впрочем, и без того было ясно, чем кончилось, раз шла она рядом.
До зеленого дома с зеленым сараем добрались молча. Мария Константиновна отперла висячий замок на сарае, включила свет и жестом пригласила Григорьева. Григорьев переступил порог и увидел два ряда заготовленных гробов с поставленными вдоль стен крышками. Гробы и крышки были нежно украшены легким рюшем и походили на детские колыбели. Григорьев усмехнулся коварству мысли, что видит последние вместилища для людей еще живущих и, возможно, совсем не помышляющих о смерти. Он пошел между рядами, неторопливо осматривая и выбирая, и при этом видел себя как бы со стороны, видел себя-покупателя, не желающего переплатить. Несоответствие этих двух Григорьевых, в одном из которых все набухало и набухало и давно жаждало развернуться и прорасти семя боли, а другой был непроходимо будничен и пошл, легковесен, мелок и недалек, – эта пропасть между двумя сознаниями оскорбляла и вызывала презрение, но Григорьев все шел, все осматривал товар, кое-где даже поглаживал и щупал, а холодная судорога презрения к себе и бессильный напор непрорастающей боли то опадали, то поднимались в теле. Он шел между пустых гробов все дальше и дальше, в глубину сарая, к задней его стене, хотя идти туда, в общем, было незачем, стена все надвигалась на него, надвигалась пределом и ужасом, он хотел повернуть обратно и почему-то не мог, он подошел к стене вплотную и остановился, и у него было чувство, что можно шагнуть дальше и пройти через эту стену в какой-то другой мир…
«А она не побоялась, – подумал он, сильно себя презирая. – Грань, рубеж. Тьма, перед которой зажмуриваешься крепче, чем перед ярким светом. Как она не побоялась?»
И, думая так, он остановился перед белым, с легкой черной каймой по краю волнистых оборок, и сказал:
– Этот…
Игнашева кивнула, села за маленький столик, проговорила:
– Давайте свидетельство.
– Какое свидетельство? – не понял Григорьев.
– Как какое? – удивилась Игнашева. – О смерти свидетельство. Нету, что ли? Что же тебе, милый, не объяснили толком? На похороны разрешение нужно.
– Да, да свидетельство… – усмехнулся Григорьев. – И разрешение. Конечно, конечно… И где это все – бумажки эти?
– Да не тут ведь, намучаешься ты с этим, не было у нас с Новой стройки случаев… – Игнашева вгляделась в дергающееся лицо Григорьева. – Ладно, не каждый вздох по предписанию, жаль тебя мучить.
Он попытался улыбнуться благодарно, но вряд ли получалось. Расплатившись и положив сверх стоимости еще десятку, прислушиваясь, как на дно души оседает еще одна свернувшаяся тяжесть, Григорьев спросил:
– А с машиной как?
– Миленький, да ты либо ни с кем не договорился? – очень удивилась Мария Константиновна.
– А у вас разве нет?
– Откуда же? Ну-к, ведь что… Вечер уж, казенную не возьмешь, с частниками только.
– Да, да, хорошо, пусть частник, – растерянно согласился Григорьев, соображая, как ему добраться через пустырь хотя бы до частника.
– Ну, ладно, чего гадать… Пойдем! – проговорила Мария Константиновна и легко подхватив обтянутую белым шелком крышку, двинулась через пустырь.
Григорьев поднял гроб за край, сделал несколько шагов – неудобно, било по ногам, да еще боялся замарать снежно-белую обивку. Пришлось, опрокинув, взгромоздить на голову.
Осилили пустырь, остановились в начале улицы. Игнашева сказала:
– Вон тот дом – крыша горбатая, хозяин пьяный был, когда крыл, – спроси там, парень веселый живет. Мне-то к нему не с руки, доченька моя его за порог выставила, а ты поговори. Ну, счастливо тебе.
Григорьев, придерживая ящик на голове одной рукой, другой подхватив крышку, подергался в поисках равновесия и попер к горбатому дому. Аккуратно составив свою ношу у ворот, постучался. Веселый голос велел заходить.
На крыльце Григорьева встретил русоволосый красавец в обшарпанных джинсах и в новенькой ярко-желтой рубахе.
– Привет! – первым поздоровался парень и приказал: – Пошли!
Повел в гараж, где стояли «Жигули», достал откуда-то бутылку «Старорусской», налил в два пластмассовых сосуда и молвил:
– Будем!
Григорьев придержал его руку:
– Поехать надо.
– Ну, и поедем! – сказал красавец и выпил. Указав на бутылку, пояснил: – От бати прячу, ему нельзя. Так что у тебя?
– На стройку надо. В Новую.
– Все – со стройки, ты – на стройку. Молодец!
– Гроб отвезти…
– А? – Парень посверлил глазами, расхохотался, хлопнул по плечу: – Молодец! Хорошо заливаешь! С чем гроб-то? – Он прыжками донесся до ворот, выглянул, хлопнул себя по коленкам, залился совсем весело.
– Класс! Признаю! Но – не пройдет! Так и скажи Митричу – не пройдет! – Похохотал. – Не на того напали, ага!
– Какой Митрич? Послушайте, честное слово…
– Актер, актер! Сказал же – признаю! Хороша домовина, хоть сейчас залезай… И оплатили? Или напрокат?
– То есть как напрокат? Оплатил, естественно!
– Номер! А где Митрич? Из-за угла выглядывает, дружок закадычный? Не пройдет! – восхищенно пропел парень и подмигнул: – Это он мне прошлого воскресенья простить не может.
– Воскресенья? Какого воскресенья? – пробормотал Григорьев, туго соображая и пытаясь проскользнуть в ворота.
Парень посмотрел с сожалением:
– Где он тебя откопал, темноту? В Новой, небось? – Снизошел, обнял за плечи. – Ну, так слушай. Я Митричу обед проспорил. На чем проспорил – не важно, но – проспорил. Ладно. И что? Беру корешей, сажаю в эту бандуру, подкатываю к Митричу: прошу обедать! А Митрич у нас, ха-ха, укачивается Митрич! Так укачивается, что плашмя лежит! Но – садится, марку перед всеми держит, думает – в наш забегай, через два проулка. А я что, лопух? Я его – в область, в настоящий ресторан первого класса, за девяносто километров.
Парень хохотал. Горло у него было чистое, розовое, все зубы целы. «Господи, – подумал Григорьев, – убью вот и пусть судят».
Парень оборвал смех, порыскал взглядом по лицу Григорьева, ничего не понял.
– Ну? Признавайся – Митрич прислал?
– Дайте мне пройти.
– Митрич?
– А пошел ты…
Парень уважительно отступил, но у ворот торчать остался, ожидал, что будет дальше.
– У кого тут еще машина? – спросил Григорьев.
– А вон! У четвертого дома отсюда… Эй, кореш, ты чего один-то, я помогу!
Парень с непонятным Григорьеву удовольствием подхватил крышку и, зачем-то сгибаясь в коленях, вроде вприсядку, поволок ее к сумрачному дому с крепкими, похожими на крепостные, воротами, громко и всполошно постучал железным кольцом в калитку и тут же ретировался, неопределенно усмехаясь, маячил издали.
Вышел обширный мужчина при усах и в майке – хозяин. Григорьев изложил просьбу:
– Отвезти бы…
Хозяин мельком взглянул на прислоненное к его воротам и при этом усек суету красавца в желтой рубахе у дальнесоседского дома.
– Отчего не отвезти. Можно отвезти.
– Я вам заплачу, – заторопился Григорьев. – Как скажете.
– Дак сказать что? Сказать можно.
– Сколько вы хотите?
– Сколько хочу… Четвертной, допустим, хочу.
– Ну, пусть четвертной, давайте!
– Пусть-то пусть… А если поцарапает? – спросил хозяин.
– Что поцарапает? – не понял Григорьев.
– А машину.
– Да отчего ее царапать?
– А когда грузить будем.
– Да чего тут грузить – я один поднимаю!
– А если сорвется? Машина-то новая, – сказал хозяин, поворачиваясь к Григорьеву спиной.
– Да заплачу я, если поцарапает! – воскликнул Григорьев и хотел удержать спину за трикотажную майку.
– А на кой мне! – сплюнул под ноги Григорьеву хозяин и запер калитку на засов.
На Григорьева накатила яростная тьма, он заколотил кулаками в дубовую дверь, закричал что-то сорвавшимся голосом – изнутри зашелся хриплым лаем остервенившийся пес.
По улице заскрипели калитки, запереговаривались голоса, собачий лай волной покатился к другому краю города. Григорьев отрезвел, представил, как сейчас глазеют на него из всех окон, стиснул зубы, остался во всем один и успокоился.
Теперь он сообразил положить перевернутую крышку внутрь гроба и, не чувствуя тяжести, взмахнул все на голову. Он шел серединой дороги через заполненное домами и взглядами пространство, шел, наклоняясь вперед, будто насквозь протыкая притаившийся городок, направляясь к смятому самосвалами и тягачами выходу из него. Через весь город его сопровождали беснующиеся собаки, и те, что помельче, подкатывались в хрипоте и пене под самые ноги, а особо одержимые преданностью к порядку кусали его икры и щиколотки. Он не чувствовал боли и не замечал праведной ярости псов, и те разрывались оттого, что он уходил безнаказанным, и какая-то шавка не вынесла этого и тяпнула за ляжку подвернувшегося кобелька, и позади Григорьева на выходе из города остался визжащий комок тел, а из последнего двора донесся беспричинный, раздирающий душу вой, который достиг Григорьева и которому Григорьев захотел ответить таким же беспричинным и полным звучанием. Заметив свой слабый, бездарный скулеж, Григорьев снова включился в существование и ощутил боль в покусанных ногах и душную ненависть ко всему, которая не умещалась в нем и густела извне, как облако, и в этом облаке билась сузившаяся григорьевская жизнь.
Город давно кончился, Григорьев был на пустынной, раздрызганной дороге. Можно было остановиться и на авось подождать какую-нибудь машину, но он упрямо шел, хотя понимал, что это бессмысленно, до Новой километров сорок, а то и пятьдесят, и хоть ты лопни, а за ночь с таким грузом не пройдешь, надо остановиться, но ненависть и обида переполняли его и толкали дальше.
Огибая рытвину, он заметил, что городка уже не видно, ни одного огня не светилось позади, только слегка алел в стороне западный край неба, не разгоняя густеющих сумерек. Он был один во всем видимом ему пространстве, да и дальше не чувствовалось никакого движения и жизни. Он ослаб и ощутил напряженное гудение в теле, и ноги, которые в забвении продолжали бы двигаться и дальше, теперь задрожали и подогнулись.
Григорьев осторожно опустил свою ношу и выпрямился.
Совсем смерклось, ниоткуда не доносилось ни звука. Серела, густо чернея в рытвинах, возникавшая из темноты и в темноте исчезавшая колея. Покрытые пылью обочины источали бессильные травяные запахи, сухие и тленные. Звезд не было, тьма неведомо копошилась по сторонам, баюкая и приближаясь.








