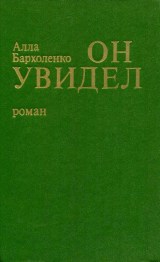
Текст книги "Он увидел"
Автор книги: Авигея Бархоленко
Жанр:
Драматургия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 14 страниц)
Но еще долго луна будет светить на них обманным светом, а они будут метаться по тупым телам бетонных плит, пока после бесплодного кружения Григорьев не увидит торчащий из-под какой-то балки обломок тонкой березы, не соскочит вниз и в яростном бессилии не начнет толкать эти плиты, а Санька, задыхаясь от жалости к нему, тоже будет напирать своим плечом рядом с ним, но железобетон даже не заметит их усилий, и Григорьев опустится на землю и как зверь будет выцарапывать из-под бетонных пирамид березовый обломок, но и этой крохи не отдаст ему давящая землю масса, и Санька первая поймет, насколько все это бесполезно, насколько смешны их усилия, поймет, что будет перепахан и этот луг колесами и новым производством и что потеряется в нем навсегда след восставшего против чего-то человека, а Григорьев, не желающий так понимать, побежит на четвереньках прочь от этого места, а Санька будет звать его и спешить позади и попытается поднять, но он оттолкнет ее и будет убегать, скуля и всхлипывая, скрываясь за штабелями, а она, боясь, что он полностью потеряется тут и погибнет в сквозняках лабиринта от своего ослепления, вцепится в его одежду и будет тащиться за ним по земле, не отпуская, пока он не обессилеет и не уткнется лицом в свой путь. Потом его тело будет сотрясать рвота и опустошение, и пройдет почти вся ночь, прежде чем к нему явятся забытые слезы, и тогда он будет плакать до рассвета.
А на рассвете они встанут и пойдут прочь от железобетона, от ферм и балок, от котлована и механизмов, и Григорьев не захочет выйти к дороге, чтобы при помощи машины ускорить свое продвижение, а будет оступаясь шагать напрямик через поле, а за ним, все больше отставая, будет тащиться Санька, а потом отстанет совсем и упадет, и будет лежать без времени и желаний, а Григорьев вернется к ней и поднимет, и после этого они свернут к наезженной колее.
Они вышли на обочину. Со сминающим грохотом рвались навстречу и обгоняли, ударяя сжатым воздухом, тяжелые машины. Присев перегруженным задом, затормозил автобус. Санька схватила Григорьева за руку, они побежали, Санька втиснулась в раскрытую дверь и, вжавшись, приготовила место для Григорьева, но он молчаливо прошел мимо.
– Николай Иванович! Николай Иванович! – высунувшись, закричала Санька.
Автобус нагнал, приостановился, Санька приглашающе замахала. Григорьев взглянул, воспринял душную тесноту спрессованных тел, озабоченные будничным существованием лица, подпирающее всех сизое облако выхлопных газов и, ничем не отозвавшись на предлагаемое удобство, примитивно двинулся дальше.
Шофер с раздражением произнес что-то неслышное, автобусная дверь присосалась, автобус тронулся. Санька с недоумением смотрела на уменьшающуюся фигуру Григорьева, пропадавшую за чужими телами и багажом, и вдруг задохнулась от испуга, что сейчас потеряет его и больше не найдет, и заворочалась, пробиваясь к шоферу и требуя свободы.
Шофер слышал ее и удовлетворенно не отзывался, увеличивая скорость. Саньку охватила мгновенная ярость, она забарабанила в пыльную покатость под передним стеклом, металл, не рассчитанный на ее гнев, стал гнуться под рукой, шофер выразился длинно и нажал на тормоз, стоячие пассажиры повалились друг на друга и единодушно возненавидели Саньку, а кто-то с ненавистью ко всем остальным стал ее защищать, с багажных сеток слетели удочки и свертки, – остервенившийся автобус выплюнул неудобного пассажира в самую большую лужу и рывком, брызнув грязью, набрал скорость. Санька трясла вслед обоими кулаками и что-то кричала, не понимая себя. Приблизившийся Григорьев взял ее за руку и свел на изрытую кротами луговину. Они сели в истомленную влажной жарой траву, в которой гудел шмель и трудились, транспортируя непомерные грузы, муравьи. Санька выдохнула застрявшую в легких боль и, успокаиваясь, стала смотреть на насекомое двустороннее движение. Натоптанная муравьиная тропа приблизилась к глазу, и за ней, уменьшенным задним планом, механически засновала, потеряв значение, крохотная магистраль.
Над всем недоступно сияли летние облака.
* * *
Григорьев не захотел ни поездов, ни машин, ни остального транспорта, и хотя рычащие и извергающие удушье механизмы то и дело обгоняли их, он шагал по обочине или рядом, по колее, проложенной лошадью и телегой или какими-то еще существующими пешеходами, и Саньке ничего не оставалось, как идти вслед ему, хотя лежащая впереди тысяча километров сводила ноги холодной судорогой, и ей хотелось лечь от отчаяния и не вставать.
Их городская обувь, не запланированная на такие длительные усилия, полезла в стороны, растрескалась, а когда пошел дождь, расхлябла, так что Санька едва дотащилась до магазинчика в какой-то деревушке, где купила себе и Григорьеву резиновые сапоги и много носков. Носки, впрочем, через день зияли дырами и становились бесполезными, они их выкидывали, а когда они совсем кончились, Санька купила мягких шарфов на портянки, и ногам стало хорошо.
Еще пришлось купить два плаща, потому что зарядили осенние дожди, но и плащи часа через два промокли, влага пробиралась к телу, а кроме того, с них натекало в сапоги. Григорьев на все это не обращал внимания, он как бы отключился от внешнего мира, дождь так дождь, вода так вода, он шел и шел, не убыстряя и не замедляя шага, не разговаривая и не думая, и Саньке казалось, что если она не остановит его и не протянет кусок хлеба с колбасой и луком, то Григорьев так и пойдет, не ощущая ни голода, ни усталости, забыв о том, зачем ему и куда, и будет ходить, раз за разом опоясывая землю, пеленая ее своей беспричинностью и укором.
Иногда их спрашивали, почему они идут пешком, и предлагали денег на билет, но Санька отвечала, что они идут на могилу матери, и тогда тем, кто спрашивал, все становилось понятно, и они не задавали больше вопросов, а относились к Саньке и Григорьеву почтительно, как к старшим, а иногда плакали, вспоминая свои удаленные могилы.
Григорьев избегал городов, сворачивал на окольные пути, делал по десять-двадцать лишних километров, лишь бы не забираться в лязгающие челюсти улиц и в толпу отсутствующих людей, а однажды Санька заметила, как он замедлил шаг и не решался пройти под строящимся эстакадным мостом, у которого были навалены железные фермы, трубы и огромные серые плоскости. Санька обогнала его и пошла впереди, но Григорьев все равно свернул, полез на насыпь и спустился с другой стороны, минуя сквозной зев моста, и Саньке пришлось дожидаться, когда он снова выйдет на дорогу.
Ночевали они большей частью в скирдах свежей, пахнущей хлебом и пылью соломы. В соломе было тепло и удобно телу, все мокрое Санька раскладывала для просушки, а если и ночью шел дождь, то расстилала одежду под соломой, так новая вода на нее не попадала, и одежда провяливалась.
Они почти не разговаривали, Григорьев за день едва произносил десяток слов. Он сильно похудел, щеки запали, и очень утончились и беспричинно вздрагивали руки. Руки Григорьева вызывали в Саньке особую жалость. Они все время мерзли, беспомощно засовывались в рукава и карманы, суставы на длинных пальцах кругло выпирали, и Саньке все хотелось взять эти бедные, красные, бездеятельные отростки и согреть дыханием, растереть и вложить в них хоть что-нибудь, чтобы они не висели так ненужно и безнадежно.
Где-то на половине их безумного шествия по расхлябанным российским дорогам встретился свирепый северный ветер и дождь со снегом. Скудная одежда продувалась насквозь, и насквозь пронизывал тело тугой, ломящий холод. Ветер не давал быстро идти, а в вялом движении их обоих колотила дрожь, лица забивал липкий снег. В сузившихся окрестностях слякотно вздыхали, проносясь, простуженные машины с оледенелыми кузовами. Поскользнувшись в очередной раз, Григорьев сполз по осклизлому склону вниз и приник к обросшей снегом траве. К нему, чтобы помочь, скатилась Санька, но он протестующе поднялся сам и, заметив на окраине гриппующего мира неряшливо развороченную скирду, свернул к ней и повалился на кучу соломы. Его спину залепил мокрый снег, подтаял и покрыл ледяной коркой.
Санька вырыла в скирде нору и, стоя на коленях, заволокла Григорьева в убежище. Стащив с него оледенелый плащ, она завесила им вход и какое-то время отрешенно лежала в гулкой тишине. Потом заставила себя подняться и стянула с Григорьева сапоги и портянки из шарфов, разулась сама и, найдя снаружи углубление, в которое не залетал снег, кинула туда обувь для отдыха. Привалившись боком к податливой соломе, она недвижно смотрела в простеганный снегом оглохший мир, и вдруг между тучами и мокрым полем к ней подплыл, как по коридору, предсмертный звук.
Замерев, она всматривалась в мешанину дождя, ветра и снега и, когда звук повторился, уловила движущееся кругами пятно, то удаляющееся, то проносившееся совсем близко. В прорези непогоды определилась и пропала огромная птица. В безвыходном крике она надвинулась на скирду, и размах ее крыльев перекрыл небо.
Укрываясь от чужой тоски, Санька торопливо заползла в нору и провалилась в сон.
Сон разорвал новый гибнущий крик, и скирду снова настиг шум огромных крыльев. В прояснившемся утре Санька увидела разбегающегося по окраине поля журавля с поврежденным крылом. Над ним кружил и стонал другой, летел и замедлял полет и показывал, как это просто – оттолкнуться от земли и опереться на воздух, а когда бегущий внизу почти натыкался на кромку желтого леса, летящий слал новый отчаянный крик и разворачивался на новый вираж. Бегущий, гортанно ответив, устремлялся в обратную сторону, и там его бег обрывало шоссе.
Раз за разом птицы заходили на новый бросок, и кричали, и звали, и каждый их клик казался последним. Санька зажала уши, чтобы не слышать их безнадежного стона, а когда снова решилась посмотреть на закраину поля, то увидела медленный и тяжкий взлет раненой птицы, над скирдой пронесся торжествующий трубный глас, и две тени исчезли в осенней хмари.
Утром они пошли дальше. Санька видела, что Григорьева пошатывает, но на все вопросы он молчал. И только к вечеру, когда они устраивались на ночлег, Санька обнаружила, что у него жар. Ночью он стонал в тяжелом, душащем сне, высовывал в наружный холод голову, Санька затаскивала его в глубину логова и слушала прерывистые хрипы в его груди. Когда рассвело, она хотела бежать отыскивать аптеку, но Григорьев упрямо вылез из скирды и, наклонив вперед голову и плечи, пошел дальше, и она волей-неволей пошла тоже, утешая себя тем, что должно же встретиться впереди какое-то селение, где она возьмет лекарства, а может, даже уговорит Григорьева показаться врачу.
Но при упоминании о враче Григорьев впервые за всю дорогу коротко и хрипло рассмеялся, а на протянутые Санькой лекарства просто не взглянул и всех ее уговоров на эту тему не слышал.
Через несколько дней потеплело, проглянуло скудное солнце, не так уж много оставалось до проклятого богом Житова, куда, как поняла Санька, шло тело Григорьева, и Санька начала надеяться, что, может быть, продолжающийся целый месяц однообразный кошмар пешей ходьбы закончится. Подумать о том, что будет там, в Житове, что вообще будет потом, Санька не решалась и даже не могла, мысль ее просто упиралась в некий рубеж, в глухую стену, за которой непонятно что было, и даже неизвестно, было ли вообще. Сейчас для нее главное в том, чтобы дойти хоть куда-то и закончить, закончить эти поэтапные пятидесятикилометровые броски, эти шаги, шаги, шаги…
Оставалось дня на три пути, как вдруг Григорьев почему-то не встал утром и не пошел вперед, а продолжал спать. Он спал весь день, всю ночь и не проснулся на следующее утро. Санька перепугалась. Они были одни в поле, во все стороны не виднелось никакого жилья, лишь по дороге очень липко шелестели машины. Санька начала будить Григорьева, он вяло мычал что-то и не просыпался.
– Григорьев, миленький… – трясла его Санька. – Николай Иванович, голубчик! Ну, проснитесь, нам же немного осталось, совсем немного! Мы скоро в Житово придем, в Житово, слышите? – звала она. – Николай Иванович, Николай Иванович, да что же вы? Это я, Санька, это я! Ну, проснитесь же, миленький мой, хороший! – умоляла она. – Что же это с вами, что же мне делать-то, что делать, Николай Иванович? Родной мой, милый, жалкий мой, бедный, что же ты? – шептала она. – Николай Иванович, Коленька, слепой мой, трудный, единственный, вот я тут, вот я люблю тебя, а ты не слышишь, ты мне на всю жизнь, и никого не будет кроме тебя… Николай Иванович, – звала она, – Николай Иванович, ну, отзовитесь же! Мы сейчас встанем, мы пойдем, нам уже мало, мы встанем, мы встанем…
Она тормошила, трясла, приподымала за плечи, и он стал помогать ей поднять себя, и они сползли по соломе на стерню, и она поддерживала его, пьяно шатающегося в стороны, и уговаривала:
– Пойдем, сейчас пойдем, нам немного, вот мы сейчас пойдем…
И он доверился ей и зашагал, еще в сонном одурении, оступаясь и встряхивая головой, и, кажется, так и не проснулся окончательно до самого вечера. Но наутро уже поднялся сам, и они шли еще день, и еще, а потом к вечеру, в кисее мелкого дождя, свернули на мягкую дорогу через лес, нашли у реки лодку, удобно привязанную у этого берега, и переплыли, и побрели через скошенное ржаное поле, по которому ходили черные птицы, побрели к крышам на его краю, которые, как корабли, темно плыли в низком тумане, вошли в деревню и через ее дождливую пустоту добрели до березовой рощи, где Григорьев, постояв над крытой промокшим дерном могилой, высыпал на нее горсть сухой земли, о которой Санька даже не знала, даже не заметила, когда Григорьев взял ее там, среди бетонных катакомб. Григорьев поднял голову и улыбнулся раздавленной улыбкой побежденного.
Они вернулись в Житово, зашли в ветхий прибранный дом, и Григорьев лег на старую деревянную кровать, на которой, может быть, лежала его бабушка, и почувствовал, что сделал все, что мог, и что больше ему делать нечего.
Заглянул старик Косов, которому пришлось форсировать речку вброд, притащил две подушки и одеяло, велел Саньке сбегать за тулупом и едой, а когда она вернулась, сказал, что останется тут, но Санька, не желая рядом лишнего человека, отправила его домой. Косов посмотрел на нее с сожалением, хотел что-то сказать еще, но только крякнул и приказал звать его в любое время.
Ночью Григорьев открыл глаза, услышал нескончаемый шелест дождя, протянул руку к сидящей около кровати Саньке и проговорил:
– Сашенька…
И это было все, что он захотел сказать.
Он отвернулся и стал искать для головы удобное положение, но вторая подушка ему мешала, и Санька, хоть чем-то спеша помочь, торопливо ее убрала. Лица Григорьева коснулось удовлетворение, и он установил голову прямо, задрав кверху прямой, истончавший нос.
У Саньки оборвалось сердце. Она оцепенело видела, как Григорьев в наибольшем удобстве пристраивает теперь под лоскутковым одеялом свое коленчатое тело, умаляя постепенно усилия и скоропостижно куда-то удаляясь.
От стен избы в нее толкнулся ее собственный крик, ей показалось, что она выронила кипящий чайник, и если не успеет, если чайник коснется выскобленного пола и замкнутый в нем кипяток расползется плоской лужей с угасающим над ней паром, то все будет кончено, мир захлопнет все существующие двери, и ей никогда больше не удастся проникнуть в него, чтобы его уберечь.
Она схватила Григорьева за легкие плечи, рванула со стула только что вытащенную подушку и сунула ее под обветшалое тело. Лицо Григорьева сморщилось в младенческой обиде, он стал искать утраченное удобство для собственных целей, он нечленораздельно выражал протест и невидящими руками пытался оттолкнуть Саньку, а она, проклиная его и яростно всхлипывая, пихала под его ноги и ягодицы случившиеся рядом одежды, которые выделил старик Косов для ее постели, и, оглянувшись во все нараставшей ярости, схватила расшатанный будильник и скрученное полотенце и тоже сунула под протестующее против жизни тело Григорьева, чтобы оно не смело достичь довольства в смерти.
– Вот тебе… Вот! Вот! – бешено шептала она, и откинув одеяло с тонких отчаявшихся костей, стала мять и тереть хрипящую узкую грудь, прижав коленом слабо сопротивляющуюся немужскую руку и отзываясь ураганными пощечинами на корявые поношения интеллигентной души.
Как невесомую куклу, она перевернула его на живот и вкатила спине и тыльной стороне ног тысячепроцентную порцию варварского массажа, а вернув запылавшее и переставшее противиться тело в исходное положение, увидела ослабшее, смятое лицо, по которому сочились желтоватые жидкие слезы.
И снова сердце качнуло ее от вины и жалости.
– Николай Иванович… Николай Иванович! – Она судорожно обняла его голову, целовала сомкнутые глаза и твердые кости под кожей щек, она пробивалась к нему сквозь чуждый гул, сквозь вращение освобождающей от порядка материи, она звала и искала его, ступившего за недозволенный предел, она устремилась за ним в обманно сверкающую темноту и повисла на нем весом целой земли и миллиардов на ней живущих, и разверзнутый предел, легко заманивший одного, не уместил в себе необъятной ноши, вцепившейся в этого слабого человека, отдалился и сомкнулся, содрогая разочарованием убегающий рассудок.
Через сверкающие черные глубины его потащило вверх, и путь этот был невыразимо долог и еще более мучителен, чем дорога вниз. Он отбивался, он молил прекратить эту казнь, он просил покоя хоть на минуту, но непримиримые руки тянули его в чудовищную высоту, и насильно толкаемый в жизнь, он считал, что умирает. Его безжалостно волокли к слепящему свету завешенной лампы, и, поняв, что не осилит вцепившихся в него беспощадных рук, он вознегодовал и рванулся, и оторвал себя от мерцавшего мрака.
– Николай Иванович! Николай Иванович!.. – трясла его Санька.
Он открыл глаза.
– Сашенька… – беззвучно сказал он.
– Я сейчас! – кричала Санька. – Вы не смеете! Я сейчас!
– Сашенька… – сказал он молча.
Распятый светом притененной лампы, он снова ушел в темноту.
Санька высадила дверь, забыв, в какую сторону она открывается.
Она неслась по пустой предрассветной деревне, посылая впереди себя торопливый, нечленораздельный зов. Старик Косов выскочил в исподнем.
– Чего? Ты чего?..
Санька не могла говорить.
– Отмаялся, царство небесное… – пробовал перекреститься Косов.
Санька вцепилась ему в бороду.
– Царство?! – прорвала она преграду, закупорившую в ней все слова. – Я тебе покажу царство! Меду! Или чего там?.. Водки! Печь давай! Лечи, старый дурень!..
– Счас… Счас! – с готовностью засуетился Косов. – Затмение, вишь ты… Долго жить будет!
– Не прыгай! – велела Санька. – Сюда его надо! Тележку давай!
– Сюда, сюда, – согласился старик. – Из ума вот выжил… Одичал, значит. А тележку счас!
Он трусцой припустил в сарай, трясущимися руками стал освобождать заваленную тачку. Санька оттолкнула его, рывком освободила тачку от барахла и, ухватив за одну ручку, ринулась обратно.
Когда задыхающийся Косов приковылял к капустинской избе, Санька сваливала Григорьева со своего плеча в распахнутое на тачке одеяло.
– Теперь я, теперь я… – пересохшим горлом прошелестел Косов.
Санька отстраняюще мотнула головой и взялась за раздвинутые, трудом выглаженные ручки.
– Не урони, не урони! – спешил сзади Косов.
Она не могла уронить. Если бы потребовалось, она донесла бы его на руках. И вместе с тачкой донесла бы. И проломила бы стену.
Все. Хватит. Теперь она хозяйка. И будет делать так, как нужно ей. И они все будут делать так, как нужно ей.
Она уложила Григорьева на парадную хозяйскую постель у низкого окна. Запоздало добравшийся до дому хозяин и не подумал перечить.
– Ты чего бегом, Иван Данилович? – прикрикнула на него Санька. – Хватит с меня покойников, мне живые нужны. Ты давай пешком – шибче будет.
– Счас, счас, – торопливо кивал Косов. – И то… Счас я.
И точно, стал двигаться без натуги, и пошло скорее. Затопили баню, Косов достал с сеновала трав, наготовил отваров, перетащил Григорьева на лавку, Саньку шугнул, и она не противилась – в этом он лучше знает. Натер городского человека травяной кашей на спирту, велел пить молоко с медом, и медом же тер и, запахнув в простыни, уволок в баню, нежарко парил по-своему, Заставлял дышать парным духом череды и можжевельника. Сначала Санька сторожила в готовности в предбаннике, потом уверилась в здравом смысле дела и вернулась в дом, лишь через какое-то время наведываясь под дверь бани и спрашивая, не надо ли чего.
– Иди, дочка, иди, – глуховато и степенно доносилось из-за набухшей, тяжелой двери. – Иди, делай свое.
И она делала свое: затопила печь, нагрела про случай побольше воды, приготовила скорую похлебку и картошку для здоровых и поставила топиться молоко для больного.
Ни деревенской печи не топила она раньше, ни ухвата в руках не держала – управилась, будто сроду этим занималась. Проведала дедовскую козу, напоила, накормила, выгнала пастись, натолкла вареной картошки петуху и трем курам.
Косов колдовал над Григорьевым третий час и сказал, что останется в бане до вечера, но топку будет поддерживать сам, чтобы не было для болящего угнетения воздуха, а Санька пусть приносит какой ни то еды, а для своего мужика – того же молока с медом.
Санька приносила что требовалось, между делом затеяла уборку в доме и лишь в ранних сумерках осталась без занятия, села на низкий порожек бани и, растворившись в нежилой тишине умершей деревни, плакала, не замечая слез.
Укутанного в два одеяла Григорьева перенесли в дом. Григорьев покорно делал все, что велели, и быстро заснул, и дышал ровно.
На следующий день он был светлым и держал Сашенькину руку в своей. На закате, долго глядя на зажатую тучами зарю, плакал одними слезами, не меняясь в ясном лице. Опять взял Санькину руку и проговорил без усилия:
– Простите меня, Сашенька. Простите…
И не нуждаясь в ее ответе, опять заснул долгим, возрождающим сном.
* * *
Старик Косов щепал сосновое полено на лучину.
– Ты, девка, того… Не простит тебе мужик-то.
– Чего не простит? – спросила Санька, не переставая чистить ровненькую овальную картошку и с брызгом кидая ее в плечистый чугун.
– А что помешала ему дело сделать, – усмехнулся Косов.
– Это помереть – дело?.. – вытаращилась Санька, чувствуя, однако, что удивляется лишь наполовину, а еще наполовину вроде бы понимает, о чем говорит старик.
А старик и доказывать не стал, словно знал, что она поняла, и повел дальше:
– Замает он тебя. Он теперь из-за тебя – безработный как бы. Ты его основной точки лишила.
– Это какой же точки? – с ходу взъярилась Санька и бросила в чугун нож с не дочищенной картошкой. – Всемирное кладбище ему точка?..
– Дак чего кричать-то? – спокойно сказал старик. – От неудобства распределения кричишь-то.
– Какого распределения? – спросила Санька потише.
– А что достался тебе мужик с загогулиной.
– Не достался он мне, я сама за ним пошла. Потому что – совпало. Потому что он возмутился. Он соглашаться не захотел. Один на всех попер, чтоб не очень кичились. Он к жизни требование предъявил, а она обанкротилась. Только перехлестнуло его где-то. Ну, понимаю – сердце зашлось… А ты чего меня допрашиваешь? Сам с точкой, и чтоб у другого точка? Родню учуял? Ты вот почему здесь один?
– Как это почему? Ты чего на меня? Родился здесь и помирать буду здесь.
– И этот помирать! – в сердцах сказала Санька, вылавливая потопленный в чугуне нож и снова принимаясь за картошку. – Да ты не раньше как лет через двадцать концы отдашь, Иван Данилович. И что – так и будешь ни для кого шаркать? У тебя что – внуков нет? Тебе научить нечему? Ты помочь никому не в состоянии? Ты почему здесь один, как репей среди поля?
– Ну, ты это, ты это… Ты потише, разбудишь мужика-то. Вот ведь… А если – деревню разорили?! Если – с корнями оборвали? Видишь – пустая?..
– Вижу. Ты Григорьева хочешь сманить. Чтобы мы здесь остались, тебе для компании, раз ты честный и предавать не хочешь. Только в какую сторону твоя честность? Может, в обратную? Совместить тебе не хочется, чтоб и вперед – тоже честность? Чтобы и назад, и вперед не предавать.
– А как я совмещу, если неправильная жизнь образовалась?
– А здесь правильная? Сидишь как сыч. Строил-строил, выпиливал-выпиливал, а кому надо?
Старик аккуратно устраивал лучину на загнетке, чтоб просушилась к завтрашней растопке. Пальцы его вздрагивали, щепа мешалась, он терпеливо ее поправлял, медля повернуться к Саньке.
– Иван Данилович, да я так… Красивый у вас дом, чего тут. Это же сколько терпеть надо было, чтоб так построить…
Но Косов молчал, не поворачивался.
И Григорьев молчал. Было уже очевидно, что Санька и старик сообща справились с его болезнью. Теперь они неназойливо ждали, когда вырванный из небытия человек обрадуется возвращенному миру. Но ясность, посетившая Григорьева на следующий день после кризиса, растворилась в докучливом шорохе осеннего дождя и больше не являлась. Григорьев все чаще отворачивался к стене и недвижно лежал часами, нехотя принимал еду и питье, которые точно по расписанию протягивала ему Санька. Сначала он благодарил, потом только кивал, а потом не делал и этого – съедал поданное и застывал в неподвижности, будто его смертельно обидели.
В какой-то из дней отработанный, как у подопытной дворняжки, инстинкт сообщил ему, что пора быть обеду. Но никто не гремел заслонкой натопленной печи, не шуршал по золе вытаскиваемым чугуном, не брякал ложкой о миску. Григорьев нетерпеливо прислушался, стараясь уловить вдали осторожные шаги Саньки, но в доме стояла порожняя тишина, лишь тикала добросовестная внутренность будильника без ножек и футляра, боком положенная на чистый подоконник, да скатывался по отпотевшим стеклам безветренный дождь.
Отмерив себе для обиды час и отлежав его до последней минуты, Григорьев поднялся и вышел на крыльцо.
Санька и старик сидели напротив в распахнутой двери сарая и чистили грибы.
– Проснулись, Николай Иванович? – ровным голосом спросила Санька. – Наверно, есть хотите? Там обед в печке.
Ни на миг не прервав своей спорой работы, Санька продолжала скоблить толстый груздь, а закончив чистить, полюбовалась отчетливой архитектурной завершенностью гриба с равномерно поджатыми упругими краями и наклонно вздымающимися пластинками в современном стиле.
– Надо же, – удивленно сказала Санька. – Будто дворец в центре города.
Лицо Григорьева стала заливать медленная, необоримая краска. Он резко повернулся и скрылся в доме.
– Ох, девка… – качнул головой Косов. – Характер у тебя.
Санька отключенно застыла над новым грибом.
– Я не в няньки пришла, – возразила она прежним ровным голосом.
– М-да, – снова качнул головой Косов. – Крутой ты ему похлебки наваришь.
– Мне продолжение нужно. – Руки Саньки споро задвигались. – И жизни продолжение нужно. Мужчина должен очищать жизнь для своих детей. А он забыл, для чего возмутился, и все перепутал. Только я не позволю путать. Я хочу, чтобы мои дети жили в правильном мире.
Старик посмотрел на свое украшенное жилище и почему-то не ощутил радостного удовлетворения.
– Вечно вы, бабье племя… – пробормотал он, отодвигая ведро с грибами. – Что мне теперь – жизнь на старости лет ломать?
– Прошло – так разве вернешь? – тихо спросила Санька. – Чего ж без пользы цепляться и обижаться на всех? Совсем другое надо. На будущее надо воздействовать, чтоб не привыкли окончательно без души…
– На кой вы пришли-то? – закричал старик. – Ты чего никому спокойно помереть не дашь? Где я тебе сил для жизни возьму?
Отворилась дверь. Старик замолчал. На крыльцо вышел Григорьев. Он был одет и приготовился в путь.
– Сашенька, – позвал он. – Нам пора, Сашенька.
Еще не встав, Санька стала снимать фартук. Лицо ее выразило готовность к терпению и труду долгого пути.
– Да ты куда? – всполошился старик. – Рано еще в дорогу-то!
– Нет, – ответил Григорьев. – Давно пора.
Он спустился с крыльца под мелкий дождь. Старик, опрокинув грибы, шагнул ему навстречу. Они остановились посреди двора на пригнувшейся мокрой траве, помедлили и обнялись.
– И не поговорили… – бормотал старик, сжимая жилистыми руками узкое тело Григорьева. – И не подумали…
– Спасибо тебе, Иван Данилович, что терпел нас, – тихо сказал Григорьев.
– Да ну-ко, да полно… – бормотал старик, тыкаясь носом ему в плечо. – Не поговорили вот только…
Старик вышел за ворота и смотрел вслед. Санька, не соскоблив темного грибного налета с пальцев, шла за Григорьевым по узкой тропинке, неуверенно протоптанной через заросшую деревенскую улицу.
Перед избой бабки Григорьев остановился и смотрел, вслушиваясь.
– Нет, – мотнул он головой. – И это не дом.
И двинулся в сторону вспаханного поля, за которое уцепилась низкая сизая туча.
Они поднялись на взгорок. Санька оглянулась. Было тихо и пустынно во все стороны, раскрытая плоть земли дышала паром, и тяжелой черной птицей шагал по ней наклонившийся вперед Григорьев. Промокшая деревня скорчилась на склоне. Сквозь пелену дождя, как осколок в сердце, темнел косовский дом.








