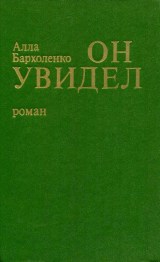
Текст книги "Он увидел"
Автор книги: Авигея Бархоленко
Жанр:
Драматургия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)
– Ну вот, теперь на тебе так много, – пробормотал он, осторожно освобождая ее от одежд, как от шелухи.
Она неуверенно посмотрела на диван, закрытый стекающим со стены малиновым водопадом, но он заслонил его собою, сказав резко:
– Нет!
Она улыбнулась наконец и, подчиняясь его осторожной руке, опустилась рядом с ним на пол.
Он закрыл глаза и в этой светлой темноте слушал прикосновения ее мягких рук. Как будто садились теплые бабочки и неслышно улетали.
Она провела рукой по его груди и животу. Он торопливо прижался к ней и замер. Медленная минута коснулась бесконечности. Раскрытые глаза распахнулись под его глазами изумленно, расширились и уплыли в далекую даль. Она, отрадно вздохнув, вскинула руки ему на шею, и дальше на спину, помогая любить себя.
Ослепнув в медлительной молнии завершения, они вдруг опять обнаружили себя порознь, и, страшась настигающей их одинокости, снова сжимали обессиленные щупальца, но воспринимали только чужеродность другого тела и нежно целовали и не хотели покидать друг друга.
И в какую-то минуту слабая связь их распалась, и они, подавленные недостойным концом своего недавнего взлета, стыдливо отодвинулись друг от друга, избегая даже случайного прикосновения, которое было теперь липко-холодным и почти невыносимым.
«Я хочу умереть, – подумал Григорьев. – И она тоже, наверно, хочет умереть. За что это человеку. За что?»
– Не думай, – сказала она сбоку. – Не думай.
«Да, – подумал он. – Не думать».
* * *
Я не хочу. Я не желаю. Я не буду чесать спину о ваше проклятое дерево.
* * *
Он успел к самому отходу поезда. Санька стояла у вагона, глядела туда и сюда. Заметив Григорьева, замахала ему рукой, дождалась, когда он подойдет, хотела что-то сказать, но посмотрела ему в лицо и не сказала, прошла за ним в купе и как бы исчезла, сразу все поняв: ему совсем не до Саньки, что он вообще никого не хотел бы видеть, и что все это не так уж страшно, никакого нового горя у него не случилось, а все больше теория и какие-то мысленные беспокойства.
Женщина, о которой Санька сразу догадалась, не слишком огорчила ее. И не только потому, что Санька заранее приготовила себя к чему-то подобному, ибо не может человек, даже определенно ожидая выбранной для себя судьбы, оставаться незатронутым ничем иным, как бы законсервированным, в гарантированной для его желаемого будущего упаковке; и даже не потому, что знала уже, что найти – это искать, а искать – это каждый раз верить, что нашел, и страдать от ошибки, и идти к следующему, может быть, заблуждению, пока случай и твое с каждым разом обостряющееся или, наоборот, устающее чутье не выберут для тебя более продолжительной остановки. Нет, Санька просто не думала о себе. Она стремилась не к тому, чтобы было хорошо, удобно и приятно ей, а чтобы было хорошо ему, Григорьеву. Ей казалось даже, что если бы она стала женой Григорьева, то и тогда она не запрещала бы ему искать других женщин или искать для себя чего-то в иных, даже не слишком понятных ей увлечениях. Это значило бы только, что она, Санька, чего-то не может, не может наполнить Григорьева необходимыми ему ощущениями, не в силах заменить собой многосоставной, разноликий мир. Да, скорее всего, она и не стремилась бы во что бы то ни стало ограничить жизнь Григорьева четырьмя стенами и одной своей не слишком, как казалось ей, содержательной особой. Она подозревала в Григорьеве сущность более значительную, чем она сама, даже какое-то как бы призвание к чему-то и отводила себе скромную роль помощницы. Ее нисколько не смущало, что призвание Григорьева ни в чем себя определенно не явило. Это значило только, что оно проявится в будущем или даже существует сейчас, но в чем-то таком, что Санька понять не может или чего просто не замечает.
При этом для нее было совершенно очевидно, что Григорьев не может поступать безнравственно или нечестно, а как раз наоборот: все, что от него исходило, могло быть только очень честным и очень нравственным, так что в этом, возможно, и заключалось главное назначение Григорьева в жизни.
Утром Санька, рассеянно смотревшая в окно, вдруг очнулась, ей захотелось встать и начать делать что-нибудь. Да, но Григорьев, остановила она себя, лучше его не тревожить. Но по легкому своему состоянию она тут же поняла, что у Григорьева убийственное его настроение улеглось, что он может сейчас и поговорить, но, похоже, считает, что она спит, и оттого молчит. Она пошевелилась, и Григорьев тут же ее окликнул:
– Сашенька?
– Я не сплю, Николай Иванович, – радостно отозвалась Санька.
А невидимый Григорьев спросил снизу очень заинтересованно:
– Сашенька, вы любите кого-нибудь?
Санька невольно взглянула на две другие полки, словно боясь обнаружить на них хозяев, с утра отправившихся в ресторан, и ответила:
– Не знаю…
– Вы не знаете, есть ли у вас такой человек?
Санька, радуясь, что недосягаема для его взгляда, ответила:
– Человек? Человек есть. Но я не знаю, как назвать мое отношение к нему. И мне не нравится слово любовь. У нас ведь все люблю: кошку люблю, репу люблю, стихи люблю. Один жену бьет, другая мужа поедом ест, а все – любят. Вы, может быть, одно под словом любовь подразумеваете, а я другое, я вам отвечу, а вы никогда и не узнаете, что же такое я вам сказала.
– Вы полагаете, что слово, обозначающее все целиком, на самом деле относится лишь к частности? Люблю этого человека – люблю в нем не все, а только что-то? Люблю, как он говорит мне что-то нежное, люблю, что он приносит много денег, люблю его красивое лицо… Так?
– Нет. Я про другое. Я о слове говорила, что не понимаю его. Кошка мышь любит, а мыши крупу. Слово одно, а содержание не совпадает.
– Но вот людей – множество, а тот человек у вас – один. Чем-то вы отличили его от других?
– Да, – сказала Санька, – я выбрала его, чтобы идти с ним по жизни. Он мой спутник на все мое время.
Григорьев замолчал там внизу как-то странно. Через минуту донесся его голос – совсем другой, дрогнувший и смущенный:
– Сашенька… Извините меня за этот разговор. Я дуролом и болтун. Простите.
И он весь день относился к ней осторожно и почтительно, таскал лимонад, мороженое, каменные пряники и пресных вареных кур и упрашивал все это съесть, как будто ей срочно требовалось усиленное питание.
Они вышли в старинном городе, когда-то купеческом и сонном, который теперь ощетинился по окраинам высокими стройками и напряженно выл транспортом, оставаясь за добротными стенами деревянных домов с резными наличниками окон со ставнями, за кружевными свесями наглухо заколоченных парадных входов все же каким-то обособленным, безучастным, решившим затворником промолчать свой оставшийся не такой уж долгий срок. Григорьев и Санька пешком пересекли его и забытыми тихими улочками вышли к кладбищу, которое пышно курчавилось сомкнутыми столетними липами, а за оградой было тенистым и приветливым. То замшелые, то ухоженные мраморные памятники тянулись вглубь, становясь постепенно все незначительнее, уменьшаясь в размерах, сменяясь витыми железными крестами, стелами из мраморной крошки и бетона и жестяными, алюминиевой краски пирамидками. За ними открылась солнечная поляна и ровные ряды вырытых экскаватором ям, с одинаковыми желтыми насыпями с боков. Маленький экскаваторщик дремал тут же, около него курили двое мужчин.
– Забыл, – виновато сказал Григорьев. – Видимо, забыл… – Он растерянно повернулся к Саньке. – Я почему-то его не нашел.
– Так это же давно было, ничего удивительного, – сказала Санька. – Давайте еще раз пройдем и посмотрим. А может, аллея какая-нибудь не та. Давайте походим и поищем.
Но и на второй и на третий раз могилы отца Григорьева они не нашли.
Григорьев заволновался, беспокойно оглядывался, шел в одну сторону, в другую, резко останавливался и поворачивал обратно, кружил на небольшом пространстве и не мог ничего определить.
– Николай Иванович, – позвала его Санька, – тут же должна быть контора. План какой-нибудь или записи, а то ведь и действительно запутаться можно. Давайте спросим?
Григорьев снова почти пробежал по исхоженному участку и остановился потерянно.
– Не нашел. Могилу отца не нашел.
– Пойдемте, пойдемте, – тянула его Санька. – Узнаем через контору, и ничего такого.
– Через контору… – криво проговорил Григорьев, совершенно себя презирая. – И отца через контору. Ну, пойдемте.
В белой часовенке у кладбищенского входа они нашли маленького старичка в очках и овчинной телогрее. Дедок что-то такое убрал со стола, а за его спиной стоял большой распахнутый сейф, а в нем булочка и две бутылки кефира, – сейф использовался как естественный холодильник. Впрочем, в часовенке и так было нежарко, даже после солнечного дня как-то особенно холодно и по-каменному тяжело.
Дедок прикрыл сейф, сел за стол, запахнул телогрею и выслушал просьбу.
– Год-то хоть помните? – спросил он вздохнув.
Григорьев и год назвал, и месяц, и день.
– Ну, и то ладно, – произнес дедок как-то насмешливо, отчего Григорьев покривился, а Санька успокаивающе взяла Григорьева за руку.
Смотритель слез со стула и на корточках стал рыться в оказавшейся за столом небольшой тумбочке – много все-таки набралось имущества в часовенке. Дедок вытащил толстый, истлевший по краям гроссбух, на картонном переплете которого чья-то давняя рука начертала фиолетовыми, выцветшими теперь чернилами: «Приходная книга».
Дедок долго листал Приходную книгу, дотошно тыкал корявым указательным пальцем с роговым коготком на месте ногтя в каждую фамилию и наконец уперся пальцем окончательно:
– Григорьев Иван Петрович. Родился сентября второго, года одна тысяча девятьсот двадцать первого, умер октября тринадцатого, года одна тысяча девятьсот шестьдесят четвертого. Так?
– Так, – кивнул Григорьев.
– Квартал Б, улица 7, нумер 7129, – сказал смотритель. – Ну, пошли.
Смотритель засеменил впереди них быстро и споро, овчинная телогрея разлеталась без ветра. Он свернул на аллею, по которой Григорьев и Санька уже много раз проходили, и, дойдя до облупившейся железной оградки с низеньким надгробием внутри, снова ткнул своим покореженным роговым коготком:
– Вот тут, значит.
– Где? – тихо и терпеливо, будто разговаривая с ребенком, спросил Григорьев.
– А вот! – бодро ответил дедок. – Нумер 7129. Она и есть!
Григорьев между тем зашел с другой стороны и, прикрыв глаза, с осторожностью потрогал обломанный завиток. Изумленная Санька переводила глаза то на смотрителя, то на Григорьева, то на низкое надгробие внутри, пока дедок, учуяв неладное, тоже не взглянул на поблеклую золотую надпись:
Валенюк
Сидор Сидорович
1911—1982
Смотритель взмахнул руками и едва не взлетел над кладбищем. А потом, испуганно взглянув на Григорьева, бегом пустился к часовенке и бегом вернулся обратно, взмахивая ветхой Приходной книгой.
– Вот посмотрите, вот посмотрите! – торопился он объяснить Григорьеву. – И аллея та, и нумер тот, а как же такое произошло, да просто быть не может! Это же – старая улица, давнишняя, вы посмотрите – липы тут какие! И могилы рядом, вот взгляните – несегодняшние могилы, это уж точно, тут больше двадцати лет назад хоронили. Один этот Валенюк от восемьдесят второго года затесался, а как – ума не приложу!
Дедок виновато топтался около Григорьева, все старался заглянуть в глаза, все сыпал слова, невольно стараясь заглушить молчание, которое немедленно нависнет, если он перестанет говорить.
– Не может, не может тут никакой ошибки быть, – убежденно повторял смотритель, не веря своим глазам, натыкающимся на Валенюка.
– Не ошибка это, – тускло откликнулся Григорьев. – Ограда та самая, я ограду узнал. Тут завиток надломился, когда я мальчишкой сюда приходил географию отвечать. Я его оторвал совсем и на память взял. Он у меня и сейчас дома.
– Вот видите, вот видите, – радовался смотритель. – Я же вам и говорю, какая же тут ошибка?
– А что же это? – ровным голосом спросил Григорьев.
Дедок осекся, замолчал, съеживаясь и катастрофически уменьшаясь в размерах.
– Да вот это… – выдавил он, – уж я и не знаю что…
– Ну, так я знаю, – все так же ровно проговорил Григорьев. – Махнули могилу налево.
– Что? Что такое? – прянул старичок. – Как так – махнули?
– Вот вы и должны знать, как это делается.
– Да я… Да вы… Да чтобы я!.. – затрясся от негодования смотритель. И вдруг маленькая его фигурка выпрямилась с достоинством:
– Стар я для таких дел, милый ты мой. Старый я и седой, и дети у меня и внуки, и сам я скоро в мать-сыру землю. Да и смолоду я совести не терял и надругательства над памятью не сотворял!
– Ну, может быть, может быть, – безразлично согласился Григорьев.
Старик взглянул на него и усовестился своих громких оправданий: у человека вон что, а он к нему с чем?
– Простите меня, старого, бога ради, – обратился он к ним обоим, – надругательство это вам и горе. Приходите завтра, исправлю я тут все. А ты, сынок, коли есть возможность, новую плиту с надписью закажи или уж что ты там хочешь, а мы из своих фондов оплатим, потому как что же это? Идите, идите, не надо вам пока тут, идите по городу, по солнышку погуляйте, а завтра в любое время пожалуйте…
Григорьев не очень слушал старика, он вообще, обнаружив могилу отца перезаселенной, мало откликался на то, что около него делали и говорили, а в который уже раз подходил к низкому надгробию и перечитывал краткое извещение о том, в каком году родился и в каком скончался Валенюк Сидор Сидорович. Он пытался проникнуть в то, что было перечеркнуто короткой горизонтальной линией между датами, пытался представить жалкую жизнь человека, пожелавшего поселить своего родственника, вероятно – отца, в занятую могилу, потому что наверняка все это не ошибка, а делалось сознательно и расчетливо, ради удобного, близкого и красивого места на кладбище, пытался понять ту мелочную душу вора и сутяжника, ни разу в жизни не озаренную чистой мыслью, и ему неодолимо захотелось увидеть это лицо.
– Ну да, можно через адресный стол, – сказал Григорьев самому себе, когда они вышли с кладбища. – Я хочу его видеть.
Фамилия Валенюк оказалась на весь город единственной. Валенюк Николай Сидорович, одна тысяча девятьсот пятьдесят третьего года рождения, тезка и одногодок Григорьева.
По выписанному адресу находился громадный серый, изогнутый гармошкой девятиэтажный дом с десятком подъездов, с бельевыми веревками на балконах, с вытоптанными газонами, с размалеванными под мухомор дощатыми грибками с гроздьями детей. Открыл незваным гостям среднего роста человек, средней упитанности, с розовым девичьим лицом, одетый в серый костюм, который сидел на нем как-то не так, без всякого желания и не навсегда.
Некоторое время были только взгляды через порог. Средний розовый человек мог и захлопнуть дверь, увидев совсем незнакомых и без всякой начальной улыбки, и стал даже как бы незаметно совершать это действие, чтобы захлопнуть, но усомнился в своем предчувствии и убоялся потерять какую-нибудь выгоду, почему и передумал закрывать, и молча посторонился, так и не спросив, кого надо и что – интеллигентные, не страшно, справиться с ними что плюнуть, скажи по-народному, они и пригнутся.
Они вошли в обычную квартиру, с плетеной дорожкой по узкому коридору. Было чисто, нужно было снять обувь, и Григорьев, как недавно и хозяин, сделал нерешительное движение, чтобы снять, но тоже передумал.
Молчание все длилось, у розового человека в сером костюме настороженно блестели глаза, но он первым не желал говорить и мелким жестом пригласил в комнату.
В комнате громоздилась обычная стандартная мебель, расставленная как-то особенно ужасно. Вещи хоть и стояли в тесноте, но как бы сторонились друг друга. Было все и ничего не было – это ощущение все больше укреплялось в Григорьеве, и когда он снова посмотрел на хозяина, то и хозяин показался таким же: вот он есть, но в то же время его как бы совсем и нет, настолько он был без определения, без особенностей, с бездумьем на розовом, не исписанном переживаниями лице.
Хозяин, видно, решил молчать до конца: пришли же зачем-то, значит – скажут, а не скажут, так и не надо, так уйдут.
– Вашего отца зовут Сидор Сидорович? – спросил Григорьев.
Розовый человек осторожно кивнул, но не поправил, что, мол, не зовут, а звали.
– Он жив? – спросил Григорьев.
– Нет, – безликим голосом ответил хозяин.
– А когда он умер?
– Давно.
– В каком году?
– В восемьдесят втором, кажется. А в чем, собственно…
– И зачем вы это сделали… – как бы впервые изумился, глядя в лицо по-прежнему никакого человека, Григорьев.
– Что? – замигал человек, но уже догадался, было ясно, что догадался.
– Я попрошу вас с этого места уйти, – вежливо проговорил Григорьев.
– Как же это я могу уйти? – возразил человек. Не удивление, не возмущение. Начало сделки.
– Это меня не касается, – пожал плечами Григорьев.
– Да мне-то зачем? Мне никуда уходить не надо.
– А кому же надо? – полюбопытствовал Григорьев.
– Так вам это надо. Вы же пришли.
– Вы ошибаетесь, я не за этим пришел.
– А зачем?
– Чтобы узнать.
– А чего тут знать?
Григорьев еще раз обвел взглядом жилище этого розового тела, посчитавшего не нужным обзаводиться хоть какой-нибудь душой и потому цветущего гладко и отвратительно, и длинными шагами, как когда-то перед управлением на стройке, двинулся к выходу, на узкую, масляной краской раскрашенную под красно-зеленую ковровую дорожку лестницу, мимо вереницы изуродованных почтовых ящиков без замков с торчащими одинаковыми газетами, мимо скамеек и грибков, перенаселенных жильцами, и все не мог отделаться от шелестящего движения розового человека за своей спиной, все задыхался и шел все быстрее, а пустое тело настигало и долбило в затылок:
– А чего тут знать? А чего тут знать?!.
* * *
На следующее утро, переночевав в гостинице, Григорьев и Санька отправились на кладбище и, не заходя в часовенку, пошли к могиле № 7129. Там стояла одна оградка, вчерашнее надгробие было убрано, могила свежевыровнена, и на прибитой к колышку дощечке, воткнутой в изножие, химическим карандашом было написано:
Григорьев
Иван Петрович
1921—1964,
как это бывает на свежих захоронениях, пока не поставлен памятник.
Григорьев стоял перед могилой молча, не заходя в ограду. Лицо его было спокойно и ровно, и это совсем не нравилось Саньке.
– Николай Иванович, – осторожно проговорила она, – давайте покрасим оградку?
– Что? А, да, да. Можно покрасить.
– Мы спросим, может быть, у сторожа есть краска. Или в магазине купим.
– Да, да, – равнодушно согласился Григорьев. – Можно в магазине.
– Тогда давайте зайдем к этому старичку.
– Да, да, – сказал Григорьев и машинально двинулся за Санькой.
Они вошли в часовню.
– Ну вот, ну вот, – обрадовался смотритель. Он был сегодня без овчинной душегрейки, в торжественной черной паре. – А я смотрю – вы мимо, прямо к могилке, либо и не зайдут сюда, думаю. Ну вот, хорошо, что зашли. Садитесь сюда, садитесь, а я, значит, перед вами отчитаюсь. Дело произошло сильно нехорошее, и я сам, без всяких разрешений, тут распорядился. Значит, миленькие мои, так обстоит. Вскрыл я вашу могилку и, что было сверху, пятилетнее, вот сюда сложил. – Дедок кивнул в сторону чего-то, обвязанного чистой старой скатертью, и Санька с Григорьевым тоже туда покосились. – Тут, значит, все, что сверху. Ну, понятно. И решил я, хоть и без вашего согласия на то, но по справедливости души покопать немного далее, чтобы убедиться. И вот, милый товарищ Григорьев, ничего я там не нашел. Тут может быть два случая. Лет много прошло, истлело. А может, когда копали тут по новому заходу – переложили…
– Переложили? – усмехнулся Григорьев.
– Милый мой товарищ Григорьев, понимаю тебя и врагу своему такого не пожелаю. Мог бы я тебе всего этого и не сообщать, но вот докладываю правды ради, чтобы ты знал и по-своему поступил.
– По-своему? – сказал Григорьев. – Ну, пусть по-своему.
– Так чего же вы, милые мои, решите?
– А вот что, – негромко сказал Григорьев и не спеша встал со стула, взял из угла брякнувший скатертный узел и длинно шагнул из часовни.
– Сынок, сынок! – кинулся смотритель, но замешкался за своим столом, и Григорьев уже не слышал его. – Ох, не надо бы, ох, не надо бы!
Санька, пребывавшая сколько-то мгновений в столбняке, бросилась за Григорьевым, впервые испугавшись, что он сделает что-то не так, сделает плохо и будет потом жалеть и раскаиваться. Она увидела его на выходе с кладбища, он направлялся к автобусной остановке.
Григорьев, всю дорогу не обращавший внимания на Саньку, а может, и не замечавший, что она следует за ним, резко позвонил в квартиру Валенюка.
На этот раз открыла жена, крупная женщина с очень полным лицом и присевшими под ним подбородками, с ярко накрашенным ради выходного дня губами.
– Позовите мужа, – сказал Григорьев.
В глазах женщины метнулось испуганное, она зачем-то стала толкать Григорьева в грудь и все не решалась отступить и скрыться за английскими замками, будто Григорьев мог вместе с ней бесплотно просочиться в ее крепость.
– Хорошо, я повешу вам это на дверную ручку, – с улыбочкой проговорил Григорьев и поднял узел.
– Что это? Что это? – зашептала женщина и сипло крикнула: – Коля! Николай!..
Григорьев передернулся, будто звали его.
У двери бесшумно появился розовый Валенюк.
– Что тут такое?
– Вот, – сказал Григорьев. – Возьмите это. – И опустил им за порог скатертный узел. Там сдвинулось и брякнуло.
– Что это? – давно все поняв, спросил Валенюк.
– Это ваш папа, – сказал Григорьев и стал спускаться по лестнице, выкрашенной под ковровую дорожку.
* * *
В нем все затворилось, и он еще не знал своих чувств, были только выплески внезапных действий, вроде этого путешествия с узлом или неожиданной погони за уходящим транспортом, на котором он уехал неизвестно куда, бессмысленно глазея на старые и новые дома и на бесчисленных, одинаковых, отгороженных от него людей. Он не думал ни об отце, ни о кладбище, ни о Валенюке, его мысли скользили поверх жизни и предметов.
Сначала Григорьев собирался, как советовал смотритель, съездить в мастерскую скульпторов и заказать новое надгробие, но тут же испытал припадок отвращения к целенаправленной деятельности и опять отдался хаотическому блужданию по городу то пешком, то трамваем или автобусом, но больше пешком, потому что тело требовало движения и усталости.
В какую-то минуту он заметил, что Саньки рядом нет, исчезла где-то в толпах, потеряла его и отстала, но на короткое время воспринял лишь сам факт, что вот была и вот нет, но никакого отношения к этому у него не возникло, и он продолжал свои блуждания по городу детства, иногда смутно что-то полувспоминая, догадываясь, что ступал здесь, смотрел и, может быть, как-то тут остался, что деревянные дома с резными наличниками и ставнями подслеповато узнают его и провожают старческими взглядами. Но чаще было чужое, невоспринимаемое. Он оказался в Заречье, где никогда не был, а потом обнаружил себя около какого-то дома, куда входило много народу, а не выходил никто, его радушно и даже настойчиво стали приглашать, и, не уловив его категорического отказа, а только вялую неуверенность, две женщины в скромных, напоказ отглаженных платочках, взяли его под руки, как больного, и повели через травянистый двор в заднюю половину, где приглушенно гудели и приветливо целовались перед началом баптистского собрания.
«А-а! Ну, ладно…» – подумал Григорьев и, водруженный скромными женщинами на крепкую скамейку, остался сидеть в неведомом ожидании и пустоте.
Что-то читалось, что-то говорилось. Читалось из Библии, говорилось смутно, путанно и нехорошо, это он мгновенно понял, что – нехорошо, самоуверенно и попросту глупо. С фанерной кафедры, украшенной библейскими изречениями и акварельными цветочками, к кому-то обращались, кого-то призывали, может, это к нему обращались и его призывали. Он сделал усилие и постарался понять, к чему его зовут, но не понял, а потом догадался, что понимать и не нужно, а нужно только исполнять, но что именно – от него опять ускользало. Потом пели однообразными голосами длинный гимн, пели напористо, опять что-то провозглашая, а всем остальным грозя. Потом встали на колени и молились. Он один остался сидячим и почувствовал, что нарушает картину и не вписывается, и тоже встал на колени для удовольствия массы.
Всхлипывали, взывали к Всевышнему, все – гулким шепотом, а кто-нибудь по очереди – громко, чтобы слышали его требования к богу. Требования были средние – чтобы мир прозрел, уверовал и стал бога хвалить и давить, как хвалят и славят они. После молитвы встали и пели. И опять читали.
Григорьев досидел до конца, ожидая, не будет ли чего еще. Но было все то же.
К нему подошли и спросили, как понравилось. Спрашивали женщины с сияющими, восторженными глазами. Глаза эти хлестнули Григорьева, подкосили напрочь восторгом и верой – от чего? во что?
– Господи… Господи… – зашептал он и ринулся прочь, а женщины переглянулись и восторженно сообщили друг другу, что в него з а п а л о с е м я.
Он бежал куда-то, чтобы подальше от всего, вон из города, бежал в какое-то сухое поле, и там упал на землю и заплакал от тоски души, глотая пыль.
Во что они верят? Зачем? Зачем это убогое, растлевающее, пресмыкающееся? Ничего нет, а они верят, и счастливы, и хотят щедро поделиться со мной этим обманом, миражом, шелухой слов, чтобы и я был таким же обманутым и счастливым. Господи, за что ты наказал человека верой?..
Но тут же всплыли розовый Валенюк с гладким лицом и его жена с невозможным, кирпично накрашенным ртом. Они сказали, что ни во что не верят и от этого им как нельзя лучше. Они призвали Григорьева, пока не поздно, последовать их примеру, потому что будущее, вне всякого сомнения, принадлежит им. Григорьев снова заплакал и ответил, что не хочет будущего.
«Господи, – сказал он, – мне жалко их. И Валенюка мне жалко, и его жену, эту отвратительную, раскормленную бабу с подбородками мне тоже жаль. Господи, не такими должны быть люди, не такими! И хуже всего – эти сияющие, восторженные, нереальные глаза, это хуже, хуже всего, хуже раскопанной могилы, это обман, кощунство, блуд, и еще хуже, хуже!..»
«Я так не хочу, – говорил он себе, – я так не хочу. Ничего этого не хочу – ни видеть, ни знать, ничего не хочу. Но как же мне тогда жить, как и чем? Как и чем, как и чем?» – повторял он, и слова покидал их недолгий смысл, они превращались в пустой звук, в колебание воздуха, в физическое явление.
«Вот и слова умирают, – думал он, – изнашиваются и умирают, и сколько бы я ни цеплялся за них, мне уже в них не проникнуть. Меня окружает смерть, постоянная и непрерывная смерть, и что я могу сделать? Только попробовать умереть не слишком жалко и вовремя, и чтобы потом никто не брякнулся сверху на мой гроб. Вот что я буду делать, чтобы не было около меня всех этих чужих и отвратительных, а одни только свои, которых я люблю».
И такая мысль примирила его с необходимостью жить дальше, накрыла его ночным покоем, и он заснул, прямо на земле, в сухом поле, и ветер гнал на него невидимую ночную пыль. Приснился весенний луг с цветами, и детство, и мать; мать мыла его в долбленом деревянном корыте, прядь ее волос выбилась из узла на затылке и все щекотала ему то шею, то ухо, он смеялся от этого и от того, что мать пахла душистым мылом и теплом, что улыбалась и что он знал, как она весело любит его. И, помогая ему быть радостным во сне, пыльный ветер принес и остановил около него нежный запах детства, запах фиалок.
* * *
Он проснулся с улыбкой, ощущая мать рядом, и не открывая глаза, чтобы удержать радость ее присутствия, но стал воспринимать свое большое простершееся по земле тело, наполненное сомнениями и бедами, и детство испуганно улетело от него, но тонкий, едва уловимый запах его остался.
Григорьев открыл глаза и увидел перед собой зацепившийся за стебли живой травы спутанный пучок блеклых, увядших цветов. Он протянул к ним руку и взял их, но, высохшие, они рассыпались в прах. Тогда Григорьев встал и пошел к городу.
* * *
Санька со смотрителем докрашивали ограду.
– Вот и он, а ты сокрушалась, – по-родственному сказал старик.
Санька посмотрела на Григорьева и успокоенно улыбнулась. Грязный, раздерганный, волосы спутаны, совсем забулдыга, на улицах, наверно, шарахались и ругались, что с утра надрался.
Она сама ушла от него вчера, поняв, что ему нужно остаться одному, перестрадать свое. Но, поступая так правильно и хорошо, Санька не могла заставить себя не беспокоиться, и ей рисовались всякие ужасы: то Григорьев попадал под машину, то его избивали хулиганы, то он терял дорогу, и много всяких вариаций на ту же тему, и все воображаемые ситуации били ее своей доподлинной реальностью, так что утром Санька поднялась измученная и серая и от нетерпимого одиночества побежала на кладбище.
– Слышь-ко, миленькие, – говорил между тем старик, усмехаясь, – а я ведь нынче у вашего Валенюка был. Ты, милый товарищ Григорьев, под вскипевшее сердце вчера с ихним папашей помчался как угорелый. Оно, может, и следует проучить, чтоб впредь не повадно было, я понять все это могу, да и подумать, что вот на меня такое, так я бы, может, и не до того додумался. Ну, ладно, тут ясно. А другая сторона? Виноват ли покойник, что его не туда сунули? Где же в этом случае мое справедливое понятие? Вот и нашел я местечко, все определил и рассчитал, ну и пошел, Сашенька мне адресок сообщила, к сынку-то это самое место предложить, чтоб покойнику покой был, как то и положено, да вижу, что сынок-то жмется. Ну, я и понял, в чем у него дело. Припрятал, говорю, папашу? Кивает. Ну, и где же, говорю, ты его расположил? Да в разных, отвечает, местах. В огороде, что ли? – спрашиваю. Нет, говорит, в огороде нельзя, вдруг обнаружится. Да с чего бы в огороде обнаружилось? А мало ли, говорит, случаев бывает. Я, говорит, лучше на мотоцикле. Как это? – удивляюсь. А так, говорит, на мотоцикл сел и давай по городу колесить, там брошу да тут кину, а что осталось – на свалке оставил…
Санька ежилась, испуганно смотрела на старика. А на Григорьева смех напал. Как-то странно дергал головой и похохатывал коротким срамным смешком. Старик поглядывал с порицанием, а Григорьев все дергался и все больше хихикал.
– Да не смешно ведь! – не выдержал дедок. – Не смешно, милый товарищ Григорьев! Или уж от перетряски тебя эдак раздирает? Не осталось вот для человека ничего запретного, все можно сделать, и не поперхнется, и не подавится, и не кашлянет. И что при сем удивительнее всего, так то, что – по мелочам. Не за ради какого большого дела, не для спасения, положим, кого и не для своего спасения, да чего там! Даже не выгоды ради, а так, по неизвестной причине, от одного своего пустопорожнего нутра. Нет для него запрета, потому как не ощущает он ничего, и потому все может, бессильная козявка. И как же тут живому человеку быть?








