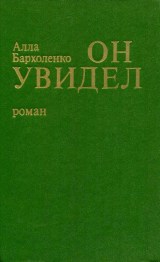
Текст книги "Он увидел"
Автор книги: Авигея Бархоленко
Жанр:
Драматургия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
И тут, когда уже решили ложиться спать, когда Сашенька пошла умываться, а муж милой попутчицы искуривал последнюю сигарету в тамбуре, Григорьев услышал вопрос:
– Простите, Николай Иванович, это, конечно, не совсем деликатно, но мне очень интересно… Почему вы обращаетесь к своей жене на «вы»?
– К жене? – не сразу отозвался Григорьев. – А почему вы решили, что Сашенька моя жена?
– Ну, это же видно, – улыбнулась молодая женщина. – Это всегда чувствуется.
– Что чувствуется? – настаивал Григорьев.
– Ну, если удачная пара.
– Так мы, по-вашему, не просто пара, а еще и удачная?
– А вы все еще этого не заметили? – засмеялась молодая женщина.
– Видимо, не успел. Мы с Сашенькой знакомы меньше месяца. И весьма сомневаюсь, что когда-нибудь станем мужем и женой.
Женщина с сомнением покачала головой и улыбнулась.
– Нет, мне даже интересно, – сказал Григорьев. – Вообще-то Сашенька по характеру внимательная и предупредительная, и это, пожалуй, может ввести в заблуждение…
– Дело не в ней и не в вас, то есть я хочу сказать – не в каждом из вас по отдельности. Это общее. Ну, понимаете – как пригнанные друг к другу детали машин: одна без другой не имеет смысла.
– Даже так? А если я уже женат?
– Тогда вы, Николай Иванович, поспешили, а теперь опоздаете.
Вернулся в ореоле табачного запаха муж молодой женщины, и разговор оборвался.
Григорьев поднялся и вышел из купе. Ему захотелось неотложно что-то для себя решить.
Он стоял у открытого окна, смотрел в шумную, рвущуюся темноту с редкими созвездиями уютных электрических огней и думал, что его жизнь с недавних пор тоже мчится во мрак, куда-то назад, мимо привычных установлений, но это нисколько его не огорчает, а вот приветливые огни, подмигивающие насчет упорядоченной, налаженной жизни, ему почти отвратительны.
Он не поворачиваясь увидел, как прошла в купе Сашенька, и понял, что не перестанет думать о ней, но думает не впрямую, а через мысли о собственной жизни и все вроде бы хочет в чем-то ее обвинить, а может, в чем-то перед ней оправдаться.
Оправдание выходило неясное: он не способен к счастью, он просто-напросто его не хочет, ему в нем душно, как в тесной одежде, счастье оскорбляет его своей никчемностью, ну и так далее, а короче говоря – он предпочитает быть сам по себе, такой вот он урод, и ни одному нормальному человеку с ним связываться не стоит.
Григорьев не замечал, что сначала ни на чем не основанную уверенность Нинель Никодимовны, а совсем недавно – заинтересовавшие его слова соседки по купе, то есть, собственно говоря, чужие домыслы по поводу Сашеньки он, Григорьев, воспринимает как действительность, а что сама-то Сашенька никаких таких особых поводов для размышлений на эту тему не давала. Конечно, она с ним ездит, по своему почину бросила Новую, но, строго говоря, у таких поступков не обязательно должно быть единственное объяснение. И все же для него уже стало реальностью, ну, скажем, не столько подозрение Нинель Никодимовны, которую можно было просто обвинить в ревности, сколько убежденное заключение случайного человека, что они с Сашенькой пара. Скорее всего, Григорьев, не признаваясь в том самому себе, ощутил правильность такого мнения, слишком уж оно совпадало с подспудной, замалчиваемой догадкой, что Сашенька будет значить да уже, пожалуй, и значит в его судьбе больше, чем кто бы то ни был другой. Однако получалось все как бы вопреки его воле, получался некий заговор против него и помеха основным его устремлениям. И хотя Сашенька ни разу еще ни в чем не помешала, а наоборот – только помогала, даже как бы проясняла не слишком оформленные побуждения, он теперь точно знал, что она ему самый неодолимый враг, она отнимает его предназначение, и он снова превратится в благополучное ничто, в счастливую ненужность, в очередную плоскую ступень для будущих поколений и ни в чем себя не проявит, и сгинет, как будто и не был, потому Сашенька – это жизнь, и ничем, кроме жизни, быть не может и не должна, а он против этой жизни протестует, он эту жизнь отрицает, его задача сказать этой жизни – нет.
Он растерянно оглянулся на свое купе, вспомнил, как хорошо было с Сашенькой говорить и особенно молчать, все живое в нем устремилось к этой задвинутой двери и требовало открыть и сесть рядом и никогда больше не отходить, но и все живое не смогло сдвинуть его с места, а только сковало мутным оцепенением тело и перехватило дыхание, и он, стоя у окна, стал хватать ртом врывающийся снаружи черный воздух, а когда черные тиски разжались, побрел в грохочущий тамбур, оттянул тяжелую металлическую дверь и, дождавшись поворота, на котором поезд замедлил ход, освобожденно шагнул в вязкую темноту.
* * *
Санька вернулась в Смоленск, устроилась дворником и обосновалась в крохотной клетушке цокольного помещения, где окно выходило в метровый земельный колодец. В комнатушке то ли давно никто не жил, то ли как раз так и жили, запустение было немыслимое, злое, стекла перебиты, на стенах сидели дюжие тараканы, тараканья мелюзга голодно шастала по скомканной просаленной бумаге и засохшим целлофановым шкуркам от колбасы, нахально воняло то ли мышами, то ли котами, а скорее, тем и другим вместе. Санька неделю скребла свое жилое помещение, опрыскивала, белила, красила и проветривала, застеклила рамы, вставила в дверь, на которой не было даже крючка, английский замок и придала наконец всему приличную видимость.
Работа ее была необременительная, ранняя и недолгая. В пять утра Санька принималась за уборку территории вокруг длинного девятиэтажного дома и к тому времени, когда вместе с хозяевами кончали прогулку обитавшие в этом доме собаки, а из подъездов начинали торопиться на работу и в детские садики, отправлялась готовить контейнеры на тележках для мусоросборочной машины и часам к десяти полностью освобождалась, и это было для нее хуже всего.
Она убеждала себя, что недоспала, и ложилась в постель и даже засыпала, но и потом до следующего утра оставалась пропасть времени, так что как бы ни скрывалась она от своих мыслей днем, к вечеру они все же настигали ее и распинали, приготавливая для самоистязания.
То она думала, что Григорьев погиб, и это произошло по ее вине. То, на какое-то время поверив своему внутреннему видению, трезво убеждавшему ее, что с Григорьевым не случилось ничего худого, хоть он и оказался где-то без денег и документов, начинала подробно думать, как она завтра застанет его дома, а он, открыв дверь, не узнает ее и удивленно спросит:
– Вам кого, девушка?
Зримо проиграв этот вопрос, услышав суховатый голос Григорьева, успев рассмотреть его худое, с землистым оттенком лицо, она обмирала от жалости к нему, оттого, что он никогда не видел ее и не знает, а она не смеет сказать, как ему нужна, а с отчаяния все же решившись объяснить, что она, Санька, для того и родилась, чтобы встретить его, и что его жизнь без нее никаким образом состояться не может, а только застынет в одной точке и никуда не продвинется. Решившись наконец на все это, она видела перед собой закрытую дверь, плотную и глухую, ничему с ее стороны не доступную.
Еще коварнее оказывалась мысль, что ничего вообще не было. Не было ни поездок с Григорьевым, ни разговоров с ним, не было и его самого, что все это она со странной натуральной подробностью когда-то давно выдумала, а теперь так привыкла к своему вымыслу, что считает его реальностью. И ввергало ее в отчаяние, что она выдумала именно так, а ведь можно было и иначе, можно было бы не ссаживать Григорьева с поезда, а повезти, например, дальше вместе с ней, а можно было бы и вообще никуда не ехать, а остаться жить на Новой стройке, и Григорьев бы там тоже работал и жил бы в соседнем общежитии, и Сандра не шагнула бы в ослепительное окно, и было бы тогда все другим, правильным и неотклоняющимся.
Правильного и неотклоняющегося хотелось очень, и было непонятно, почему оно никак не желает воплощаться в зримые образы, а как-то застывает в самом начале и как бы прекращается, и Санька не может дорисовать до конца ни одной счастливой картины. В этом было нечто недоступное, какая-то жизненная тяжелая тайна, которой Санька в конце концов стала пугаться больше, чем неузнающего григорьевского лица и закрытой двери.
Промаявшись в этих мыслях ночь, Санька дожидалась пяти утра и с облегчением бежала шаркать метлой и подбирать бумажки, окурки и осколки бутылок на газонах, ежесуточно возобновлявшиеся на подведомственной ей территории в некоем постоянном большом количестве.
Санька ежедневно поднималась на четвертый этаж григорьевского дома, деликатно нажимала кнопку звонка и, напрасно прождав с полминуты, звонила уже настойчивее, а затем давила всей ладонью, и внутри трезвонило всполошно и безответно.
Вечером она дожидалась темноты и с улицы с отчаянием смотрела на неосвещенные григорьевские окна, отходила на несколько шагов и внезапно оборачивалась, словно хотела застать окна врасплох и уловить в них хотя бы остаток только что выключенного света, но темнота за ними была застоявшаяся, давняя и с каждым разом казалась все более нежилой.
Но не находя себе места и мучаясь, Санька все же знала, что Григорьев вернется. Но знала она также и то, что теперь все будет по-другому, и это другое беспокоило ее не меньше, чем самые худшие предположения.
Прошло около месяца.
Санька, как обычно, проделала свой бесполезный дневной путь до григорьевской двери и вернулась в свою клетушку, чтобы терпеливо дождаться сумерек и тем же каторжным путем пройти снова.
Она увидела два ярких окна и не поняла их, стала искать на их месте темноту, но не защищенные абажуром лампочки резали глаза, взрывали ее привычную, устоявшуюся боль, чтобы дать место новой, энергичной и молодой боли.
Санька стояла и, не отрываясь от двух ярких окон, плакала, радуясь тому, что Григорьев жив и вернулся, и страшась вплотную приблизиться к своему будущему.
Потом она сорвалась с места, перебежала улицу, а когда окна скрылись из-за близости, понеслась, расталкивая гуляющих. Но у самого подъезда остановилась: что она скажет Григорьеву? Вот войдет и что скажет? Зачем она, если из-за нее-то Григорьев и сбежал? Она пойдет, она, конечно, все равно пойдет, но хоть какой-то повод, хоть какое-то прикрытие пусть заслонит ее от его первого беспощадного взгляда.
Санька повернулась и побежала к себе, в свое подвальное жилье, где стоял под раскладушкой прикрытый газетой портфель, покинутый Григорьевым в поезде – с полотенцем, зубной щеткой, документами и пачкой денег. Она и в самом деле должна вернуть все это, и это будет вовсе не повод, а вполне основательная причина, по которой она может спокойно подойти к григорьевской двери и спокойно позвонить. Только бы он, пока она теряет время на дорогу, никуда не ушел, только бы никуда не ушел… И она бежала, бежала, забыв, что есть транспорт, что можно взять такси, она задыхалась и бежала.
…Санька коротко позвонила и, держа у груди портфель, чтобы его сразу было видно, ждала, вслушиваясь в тишину, в возникшее движение, в приближающиеся шаги, в громкий, как взрыв, щелчок замка.
Григорьев открыл дверь, нисколько не удивился ей, не обратил внимания на портфель, кивнул и пошел в комнату, будто Санька только что была здесь, и совершенно естественно, что она вернулась, и это не требует особого внимания и особых слов.
Санька оглушенно переступила низкий порог.
Когда она, скинув босоножки и еще чуть помедлив для успокоения сердца, вошла в комнату, Григорьев лежал на диване, отвернувшись к стене.
Санька обвела взглядом неприбранную комнату и увидела в углу одинокий сосуд, чем-то напоминающий приз за не слишком большое спортивное достижение. Вещи от него были отодвинуты, и вокруг разместилась подчеркнутая пустота. Санька посмотрела на отрешенного Григорьева и догадалась, что это за «приз», и старалась в дальнейшем не прикасаться к порожнему углу взглядом.
Тихо поставив на стул портфель и осторожно ступая, чтобы как можно меньше тревожить Григорьева, она прошла на кухню и, прикрыв дверь, занялась почти бесшумной уборкой. Порывшись в скудных запасах кухонного шкафа и в холодильнике, она приготовила что-то не имеющее названия из пшена, банки рыбных консервов и маргарина, а пока новоизобретенное блюдо допревало, быстро и тоже почти бесшумно навела порядок в комнате. Ей показалось, что Григорьев заснул. Тогда она перебралась в ванную и перестирала все грязное.
К концу она почти успокоилась, ощутила, что так и должно быть, потому что она, Санька, здесь не только давно, но и всегда здесь была, а если отлучалась, так по какому-то пустячному делу.
Она сложила настиранное в таз и прошла через комнату, чтобы развесить на балконе. Потом вернулась на кухню и, поколебавшись, потому что было уже к ночи, сварила кофе и понесла еду в комнату. Запахи разбудили Григорьева, он встал, умылся и сел за стол.
Они молча поели и выпили кофе. Санька унесла посуду на кухню, перемыла и, не заходя больше к Григорьеву, осторожно ушла, придержав дверь, но замок все равно сорвался оглушающе.
В эту ночь она впервые за весь месяц заснула в своей клетушке спокойно и устало.
Наутро, добросовестно выполнив обязанности дворника, Санька накупила продуктов и снова коротко позвонила в григорьевскую дверь.
Он открыл, и она успела застать уходящее беспокойство в его глазах, явное облегчение оттого, что она не ушла совсем. И она догадалась, что вчерашний оглушающий хлопок замка его испугал и что вряд ли ему в эту ночь совсем ни о чем не думалось.
– Вот я купила тут, – сказала Санька, – а то совсем ничего нет.
– Сашенька, вы берите деньги оттуда, – как-то спотыкаясь, проговорил Григорьев, и Саньке показалось, что он давно ни с кем не разговаривал и немного разучился.
Она кивнула и прошла на кухню и, пока Григорьева не было, немного поплакала там от счастья.
На этот раз она приготовила пахучий борщ, молодую картошку в сметане и компот. Отчуждение за столом уменьшилось, и Григорьев без видимого усилия сказал:
– Спасибо, Сашенька.
На что Санька тихо отозвалась:
– На здоровье, Николай Иванович.
После обеда Григорьев остался за столом, и Санька тоже. Каждый ушел в себя, но не тяготился присутствием другого. И не пытаясь разрушить разделявшую их почти осязаемую преграду, они все же сделали усилие и перебросили через нее едва заметные, прерывающиеся нити начального общения: каждый подумал о другом и осудил себя.
«Так было нельзя», – подумал Григорьев.
«Ему и так было тяжело», – подумала Санька.
«Я эгоист, я ужасный эгоист – как я выгляжу перед ней?»
«Ему и теперь тяжело, и эта урна, и все это, и это еще не кончилось, а меня хватило едва на месяц…»
– Понимаешь, я не мог! Я и сейчас не могу, это ужасно, я ничего не могу, я должен заботиться о тебе, но я не могу, мне надо выполнить другое, я не могу…
– Ты ничего для меня не должен, совсем ничего, мне только быть около тебя – если бы ты это понял!
– Я хочу, чтобы ты не уходила, и это ужасно, это безнравственно, потому что я только беру, но ничего не даю взамен.
– Это не так, это не так!
– И, может быть, я буду гнать тебя, и ты обидишься и уйдешь, и я буду виноват, ну, конечно, я виноват…
– Я вернусь, когда ты захочешь, чтобы я вернулась. И ты не виноват, виновато другое, я не знаю – что, но не ты.
– Я буду вспоминать о тебе только тогда, когда буду вдали, и ты даже не узнаешь, думал ли я о тебе…
– Пусть… У меня ведь только та дорога, по которой пойдешь ты.
– А если моя дорога никуда не ведет?
– Ты ошибаешься. Не мы оцениваем свои пути, мы только проходим по ним.
– Мне бы протянуть руку и коснуться твоей руки, но ведь я этого не сделаю, потому что лучше считать, что лишился великолепного, чем обнаружить, что получил грош… Как я пошл, боже мой, как я мерзок себе! Откажись от меня.
Санька посмотрела на Григорьева и отрицательно покачала головой.
Потерявшись во времени, они просидели друг перед другом за неубранным столом и так и не произнесли вслух ни одного слова.
* * *
Григорьев все-таки поехал в город, в котором они некогда поселились ради его института и где умерла мать. Он знал, что едет напрасно, что этому городу еще в большей степени, чем другим, нужны живые, а не мертвые, и потому не удивился, что прежнее кладбище закрыто, что крематорий функционирует с надлежащей исправностью, а прежний похоронный инструктор растолстел и продолжает с удовольствием слушать «Реквием» Моцарта.
Те, кто не поддавался увещеваниям любителя католического песнопения и не соглашался предавать своих близких огню, подсоединились на правах квартирантов к крохотному деревенскому кладбищу в двадцати километрах от промышленного гиганта. Квартиранты, впрочем, обжились на просторе основательно, прихватив и ближние деревенские угодья, усадив их богатыми мраморными плитами и скошенными черными стелами. Мирная деревенька, не придававшая ранее излишнего значения редким смертям, была парализована траурными шествиями, вереницами легковых машин, медью труб, публичными женскими стенаниями и воем автомобильных сирен, настойчиво и угрожающе обещавших что-то своим усопшим. Население трудящейся деревни внезапно задумалось о смысле бытия и бренности сущего, выронило подойники, вилы и прочий вспомогательный инструмент и тихо рассредоточилось по учреждениям областного центра, а немногие оставшиеся и жилистые стали приторговывать новыми и подержанными венками и радоваться жизни в значительно большей степени, чем до того.
Это самодельное бытовое обслуживание нисколько Григорьева не воодушевило, показалось даже оскорбительным. Теперь его оскорбляло чуть ли не все, и особенно почему-то существование растолстевшего инструктора. Григорьев потребовал немедленно выдать ему урну с прахом матери и, пригрозив непредсказуемыми партизанскими действиями, взял-таки инструктора внезапным напором.
Григорьев честно признавался перед собой в полной абсурдности своего предприятия, но отступить уже не мог, его в е л о. Вряд ли это было простое упрямство или странный заскок. Поначалу почти случайность – да если подумать, то это и была случайность: не отнеслись бы столь бюрократически-торжествующе к его беде на Новой стройке, похоронил бы он там сестру законно, он, скорее всего, к сегодняшнему дню изжил бы даже воспоминание о тех тяжких часах, – но изначальная эта случайность вдруг обратилась в исток последующих нелепых событий. Если бы все осталось в рамках пусть и неправильного, но привычного регламента, если бы ничто чрезмерностью своей не взорвало собственного григорьевского бездумья и собственной его полублагополучной, полускучной жизни («Все так, и я так, у кого иначе?»), то его подспудные совестливые шевеления вскоре одряхлели бы окончательно, не прорвав к деятельности его усыхающего существования. Но чрезмерность вызвала сопротивление.
Да, если бы не эта случайность, не эта смерть, не эта бездомная могила, которые внезапно сделали ответственным во всем его, ибо спрятаться за кого-нибудь другого не было возможности. Случай выбрал Григорьева, взвалил на него неясную вину, которая ото дня ко дню увеличивалась, разрасталась, разъедала заскорузлость обыденной жизни, преимущественно открывая ее всяким несовершенствам и болям.
Малое и частное поначалу, лишенное выхода и нормального разрешения, втягивало теперь в себя все больше других частностей, за которыми, как больные суставы за благополучной кожей, стали проступать общие закономерности, и Григорьев вскоре перестал чувствовать себя исключением, сделался для себя неким ходатаем и терпеливым деятелем, исполняющим отнюдь не свое, а полностью общественное дело. Он ощутил себя частью, уполномоченной представлять большую всеобщность, он почувствовал так, что эту всеобщность в его лице унизили и попрали, и этого-то общего попрания не захотел вынести и восстал.
Необходимость решить локальный вопрос обрушила на него лавину близких, сопутствующих и совсем вроде бы данной задачи не касающихся проблем, и он карабкался под ними, стараясь не утерять дыхания, и упорно вычленял из постоянно возобновляющегося хаоса свое направление и, оглушенный и сломленный, ради справедливости, понятой именно таким образом, на пределе сил восходил к поставленной случаем и противоборством цели.
И еще несколько дней прошло в молчании. Санька и Григорьев как-то сразу изменились, похоже было, будто они постарели, будто были мужем и женой множество лет, все знали друг о друге и не ожидали теперь ничего интересного. Григорьев большей частью лежал на диване, много спал, и Санька подозревала, что он научился засыпать по своему желанию, чтобы побольше отсутствовать. Проснется, кинет взгляд в окно, на Саньку в кресле со спицами или с книжкой в руках, убедится, что мир все тот же, и опять закроет глаза, отключится от наскучившего всего, уйдет в яркую тьму сновидений, а Санька будет смотреть, как подрагивают в иной жизни его веки или беспомощно пытается пошевелиться правая рука.
После ужина Санька уезжала к себе, тут же проваливалась в свой темный, скучный сон, в котором никогда ничего не было и который вместо отдыха приносил усталость. Она теперь тяжело вставала по утрам, тело ныло, как после непосильного напряжения, и только в работе Санька выправлялась, обретала необходимую для дальнейшего существования вялую энергию.
– Нет, – произнес среди неживой тишины Григорьев.
Санька туманно, издалека на него смотрела.
– Нет! – крикнул Григорьев, вскакивая с дивана. – Я вам не позволю! Да-с! С этой минуты мы развиваем бурную деятельность. Мы забираем петуха! Мы даем телеграмму тетушке!
Григорьев схватил Саньку за руку и потащил к выходу.
На улице он шагал так стремительно, что Санька едва поспевала за ним. Его охватило лихорадочное возбуждение. На почте, пока оформляли телеграмму Евдокии Изотовне, он нетерпеливо переминался у окошка, морщился, пока девушка подсчитывала количество слов, гримасничал, как мальчишка, не вытерпел выписки квитанции, кинулся прочь, сбежал с лестницы, махал рукой, подгоняя Саньку:
– Давайте, давайте! Живите бурнее! Вы в веке космоса! Дышите насыщеннее! Через двадцать лет такой воздух покажется оазисом!
Пробежавшись с неизвестной Саньке целью по нескольким улицам, он вдруг остановился около вывески с медведем:
– Зоопарк! Хотите в зоопарк?
Санька, естественно, хотела.
В зоопарке он хмыкал у каждой клетки, нигде долго не задерживался, к птицам не пошел, а в обезьяннике, перед прижавшимся к железной клетке мартышечьим лобиком, спросил:
– Как вы считаете, кто здесь кого рассматривает?
А на выходе, промчавшись мимо сонного льва и прикованного к барьеру за заднюю ногу слона, сказал еще хуже:
– Интересно, что они о нас думают?
Санька, выскользнувшая наконец из своего транса, с беспокойством следила за Григорьевым, ощущая явную нарочитость его поведения. Саньке тут же захотелось убежать от этого нового Григорьева, и не Григорьева вовсе, а внезапного, чужого человека, убежать и вернуться к тому, которого она знала и понимала, каким бы странным и даже пугающим ни было его непридуманное поведение.
Но если разыгравший роль потасканного лорда Григорьев быстро ощутил Санькину отстраненность, то сегодняшний замечать ничего не желал, крепко держал Саньку за руку и опять тянул по каким-то улицам.
Попался кинотеатр.
– Кино! – возопил Григорьев жизнерадостным голосом дикаря.
Хотела Сашенька или нет, но они уже сидели в зале, в постепенно меркнущем свете привыкали к темноте, смотрели в «Новостях дня» демонстрацию, плавку, покорение вершины, врача на вертолете, отчего Санька застеснялась своей несоразмерной времени, как бы из другого вещества произведенной жизни, но при этом не заметила в себе желания поменять ее на какую-нибудь героическую. Потом на экране засветилось основное произведение про большую любовь и производство, и опять Санька обнаружила, что и производство и любовь у нее не такие, а в словах героев она ничего не понимает, как будто они говорят на чужом языке, а ведь раньше смотрела такое же, и ничего. Григорьев и здесь хмыкал в самых неподходящих местах, чем раздражал соседей, соседи не вытерпели и сказали:
– Перестаньте выражать свое мнение, молодой человек!
На что Григорьев, не понижая голоса, ответил:
– У меня не мнение, у меня насморк.
С фильма они ушли.
А еще через пробежку оказались у парка культуры и отдыха, откуда гремела открытая дискотека, и Григорьев по-обезьяньи заверещал:
– О! Здесь пляшут! Сашенька, мы тоже!
Они уплатили деньги, получили билеты, проплыли через турникет, всосались в трясущуюся массу. Григорьев мгновенно поймал телом ломаный ритм и, подняв руки, словно сдаваясь в плен, начал кланяться, спотыкаться, припадать на сторону, соскакивать с позвонков и дергаться в параличе. Санька, не раз топтавшаяся на подобных площадках и получавшая от этого не то чтобы удовольствие, а скорее, удовлетворение от хорошо выполняемой работы, сейчас обмирала от стыда за Григорьева и едва сдерживала отвращение ко всем остальным.
А Григорьев прыгал, рьяно вихлял задом, призывно потрясая руками, приглашал Сашеньку к более активному самовыражению, и Санька, чтобы не видеть его искривленного, чужого лица, опустила голову, закрылась длинными волосами, ушла вниз, заграждающе сложила руки, но догадалась о приближающемся чужом человеке и внезапно уклонилась в сторону и так уклонялась каждый раз, точно и рассчитанно, и Григорьев больше не видел ее, а она не хотела видеть его, и так они бежали и нагоняли, не сходя с места, а пронзительная музыкальная подзарядка сверлила и рвала над ними воздух, а внизу стонал и скрипел танцевальный помост, тупой топот сотен ног раскачивал землю, и одиночные лживые вскрики напоминали о преступлении. Взвивались, прыгали, долбя цоколями свои подножия, новостроечные дома с непрочитанными перфокартами освещенных этажей, метались вверх-вниз черные деревья, взбивая корнями мертвый коктейль, звезды совершали гигантские прыжки в тысячи парсек, женские гривы стегали Млечный Путь, – дергался, прыгал частокол слепых тел, бесстрастно вожделеющих об оргазме и не достигающих его, и лица, лица, старательные и напряженные, как футбольные мячи, – неузнающие, бегущие в стадо, чтобы взорваться в одиночку…
Санька, задыхаясь, выбралась из людского клубка, скрученного звуковым насилием, прислонилась к корявому дереву и бессильно и немо заплакала.
Возник Григорьев, потянул ее за руку, она замотала головой, уцепилась за корявый ствол, увидела, что он сплошь изрезан инициалами и хулой, и выпустила его.
– Что у нас там на очереди? – орал Григорьев. – В кабак? Были! В вытрезвитель? Не готовы! В милицию?.. Эй, что еще у вас для меня? Хочу видеть! Человечество, что ты для меня приготовило?..
Он тащил Саньку и орал на всю улицу:
– Хочу видеть!.. Желаю зреть!.. Жажду!..
Санька волоклась, сцепленная с бушующим Григорьевым его напряженной рукой, которой перебросили сигнал не выпускать Санькину руку и которая этот приказ окаменело выполняла, отключенная от остального тела, единолично демонстрирующего неуважение к обществу.
Никто, впрочем, этой демонстрации не внимал, никто ее не слушал, никому не было до нее дела. Ну, наклюкался человек, ну, что-то там ему представляется, и не такое видали, нарвется вот на патруль и утихомирится, и будет вкалывать для будущего счастья как миленький.
– А я не пьян! – высокомерно прокричал обществу Григорьев.
Общество усмехнулось: давай, давай!
Ему хотелось скандала. Ему хотелось во что-нибудь плюнуть. Но развитое общество не желало потакать низким наклонностям. Оно поставило бетонные урны на углах. Сильно заплеванные урны.
Григорьев сдался. Но только на три четверти.
– Петух! – возопил он. – У нас есть петух!..
Не скандал, так небольшое представление. Сейчас он затащит ее к той женщине. И постарается извлечь из ситуации что-нибудь веселое.
Санька споткнулась и сломала каблук. Окаменевшая рука мгновенно стала мягкой и поддержала. Санька вышагнула из босоножек и пошла босая.
Дверь в квартиру Нинель Никодимовны была приоткрыта, изнутри пахло побелкой и крашеными полами. Григорьев позвонил.
Появилась, балансируя на досках, наложенных на свежий блестящий пол, круглая старушка в ситцевой кофте-разлетайке, явно не ведающая того, что одевается по последней моде.
– Вы, должно, к Нине Никодимовне? – не дожидаясь вопроса, заговорила старушка, кивая головой и гостям, и своим словам. – А их нету, нету Нины Никодимовны, нету. Уехали они, совсем уехали, поменялись с нами, квартирами поменялись. И уехали, на север уехали, а куда – не спрашивайте, не велели говорить, никому не велели. Да вы не за петухом ли, милые, не за петухом? У нас он, у нас, сию минуточку, у нас петушок…
Старушка, взмахивая короткими ручками и постанывая от опасности, забалансировала по доскам в глубину квартиры, погромыхала вещами на балконе и вернулась с сильно раздобревшим Константином Петровичем и соломенной сумкой.
– Уж я его и кормила, и гулять водила. Другие-то с собачками да с кошечками, а я с петушком, в порядке петушок, в порядке, у нас договоренность с Ниной Никодимовной была, чтоб петушок в порядке…
Григорьев и тут похмыкал, впрочем, вежливость перед старушкой соблюл, поблагодарил и покланялся.
Петуха нес сам, и не в сумке, а напоказ, а сумку препоручил Саньке. Константин Петрович восседал важно и сыто, радужный хвост свисал, как у павлина. Григорьев от чести, что несет петушиного короля, задрал нос кверху. Санька, все такая же босая, с допотопной соломенной сумкой в левой руке, ступала на полшага сзади.
Красочное трио, чего говорить, и прохожие решили, что скоро в их городе будут снимать новый фильм про колхозную жизнь.
Дома Григорьев завалился на диван, а Санька села в кресло ремонтировать босоножку. Константин Петрович ходил между ними, клацая когтями об пол и роняя драгоценный черно-белый помет. Санька поднималась с кресла и шла убирать. Григорьев хмыкал.
Петух быстро освоился, взлетел на желтый чемоданчик, появившийся в пустынном углу, и, натянув нижнее веко на глаз, заснул.
Санька отправилась к себе и не спала всю ночь.
* * *
Наутро принесли телеграмму. Тетушка Евдокия Изотовна сообщала, что устала телеграфировать, но все же приглашает Григорьева и Сашеньку приехать немедленно и, разумеется, с петухом.
После вчерашнего Григорьев выглядел свежим, как после бани, встретил Сашеньку галантно, по дороге на вокзал остановил такси и сбегал за цветами, так что до вокзала Санька ехала с петухом и букетом в целлофане и, лишенная таким образом обеих рук, едва смогла выбраться из машины.
Тетушка, открыв им дверь, с ходу заявила, что это безобразие, что неизвестно, чему учили эту молодежь, она ждет их третью неделю, отменила еще по весне запланированное путешествие с шер ами к башне Тамерлана, что за Каменным Поясом, и знают ли они, по крайней мере, где находится упомянутый Каменный Пояс, он же Рифей?








