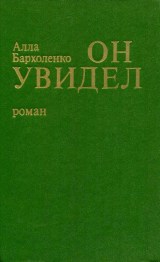
Текст книги "Он увидел"
Автор книги: Авигея Бархоленко
Жанр:
Драматургия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц)
«Холодильник у него на дне, что ли?.. Да он родник приспособил, лапоть старый, это как в прорубь!»
Григорьев ругался шепотом, кружил по прудку, но вылез, когда колотить начало. Ноги сами понесли в баню – греться.
Вот тут-то и началось. Старик уложил его на лавку и, выхватив из кадушки новый, запаренный на мяте березовый веник, в середине которого пряталась можжевеловая кисть, принялся похлопывать по григорьевской спине и ногам, потом окатил настоем из той же кадушки, велел перевернуться и тут похлопал. Потом ливанул и вовсе не водой, а чем-то холодным и вроде густым, с хлебным запахом, после чего принялся растирать пучком обваренной жилистой травы. Запахло полынью, степью и кочевьем. Григорьеву послышалось ржанье коней и дикие вскрики набега. Кем он тогда был? Полонянином, истекающим кровью, которого продадут на константинопольском рынке рабов, или пойманной за косу девкой, или ребенком, которого стряхнули с матери, перекинутой через коня, и оставили под жгучим солнцем среди пыльной полыни? Или, может, лихим наездником, увозившим в свою кибитку четвертую жену?
Дед снова обдал его холодным и темным, Григорьев слизнул смолистую каплю – квас.
– Лучше бы попить дал, старик… – простонал он.
– Не время, голубок, не время, – ласково приговаривал дед, начиная помалу хлестать его веником, да уж не как прежде, а с оттяжечкой, а потом и вовсе пошел работать с обеих рук, только посвистывало.
«Да ведь он уматузит меня до синего цвету», – лениво подумал Григорьев, поворачиваясь то так, то этак по велению Кузьмы Самсоновича. Было ему дремотно и покойно, обрывки странных образов быстро проносились мимо, неузнанные. Кузьма Самсонович все старался над ним, подсунул под нос какой-то пахучий пук и истово втирал новый бальзам. Потом его оставили, он невесомо куда-то поплыл, до него долетали приглушенные слова о каком-то Петруше, о сошнике, который теперь на кривой не объедешь – запатентован, что-то совсем тихо рассказывал отцу Самсонов о нем, Григорьеве, а старик слушал и гулко вздыхал:
– Ох, люди! Ну, люди!
Потом все слилось в одно размеренное: бу! бу! Мощно работал внутри Григорьева мотор. Григорьев ехал по полю, заросшему сизой, сиротливой полынью, вез что-то непонятное и тяжелое и все хотел сбросить его, чтобы ехать быстрее и не бояться, но ему никак не удавалось, непонятное пряталось за его спиной и его было не видно, и тогда Григорьев понял, что главное в том и состоит, чтобы увидеть, и стал вертеться и изворачиваться, но то потянуло его вниз, он стал оседать и проваливаться куда-то, а Санька хлестала его двумя вениками, чтобы он проваливаться не смел, а шел куда надо…
– Да милый, да слышишь ли? Ты гляди-ко, уснул как! – тормошил его дед. – Высохло в нутре-то? Пей вот теперь сколько влезет, эвон в углу кадушка с квасом, с хреном квас-то, как раз такую баню запивать. Хошь теперь мочалься в банной, а хошь окутайся да так лежи, пока главный пот сойдет, а я сынка постегаю малость…
И за все время, пока Григорьев так счастливо страдал в бане, поминутно ощущая абсолютную чистоту своего воскресшего благодушного тела, пока сидел, освежаясь, на крылечке и говорил со стариками о погоде («Будет гроза, непременно будет, сегодня же ночью и будет…»), то о кузнечном деле («В упадок пришло мастерство, в разорение и полную убыль». – «Да машины-то точнее делают и быстрее». – «И точнее, и быстрее, никто не спорит, а мастерства нет как нет!» – «Так, может, и не обязательно?..»), пока знакомился с младшими (явились с корзиной грибов две девицы-красы, с тонюсенькими талиями, в строченых джинсах, с косами едва не до колен – пижонство? самим нравится?), пока усердно потчевали его за долгим обильным столом («Огурчиков попробуйте, помидорок, парниковые у нас, ранние, а вот пироги с этим, пироги с тем, грибочки, жаренные в сметане…»), пока длилась вся эта семейная благодать, которой давно уже не помнил Григорьев и которую познавал сейчас с изумлением и горькой какой-то радостью, – за все это время так и не позволил он возникнуть перед ним недавнему, хоть и стояло оно темной тяжестью где-то рядом, незримо, наготове, но он упорно делал вид, что не замечает его. Прикоснувшись к иному укладу, к иным отношениям, он торопился заполниться ими, зарыться, спрятаться, втиснуться в тесноту чужого дружеского общения, чтобы сбросить с себя то темное, что висело над ним, и это ему почти удалось, можно даже сказать – совсем удалось, он почувствовал себя здоровым, сильным и необходимо эгоистичным, и младшие Самсоновы разок-другой посмотрели на него особо, тут явно клевало, вот так и надо, не с ними, конечно, а в принципе – понравиться самому себе и переть, в полминуты стать не таким, как все, а из другого теста, избранным, для которого все вокруг и предназначено и существует с единственной целью сделать ему приятное, – радужные ощущения возносили его все выше, во властелины мира. «До чего же это просто, – подумал Григорьев, – до чего просто быть властелином, брать, не подлежать вопросам, быть тугим узлом мышц и не замечать сопротивления». Он иронически взглянул на младших Самсоновых, но те несколько раньше утратили к нему интерес и больше не смотрели на него. «Здоровым же я вышел индюком», – подумал Григорьев и в полном отказе от всяких воспарений приналег на бесконечные пироги, по-новому приглядываясь к окружавшим его людям.
Семья Самсоновых, на первый взгляд подчеркнуто патриархальная, с банями, травами, с седыми бородами и девичьими косами, оказывалась на деле чем-то совсем другим. По дальнейшей логике кондовых примет требовался домострой, утеснение младших, несильное подчинение главе или тому, что главу заменяло, и хотя бы легкое мракобесие для начала. А тут была в ходу большая вольность, старики же и подавали пример, солено проезжаясь хоть по кому, и младшенькие, такие с виду березовые и медовые, не отставали, пробовали на остренький зубок и соседей, и родимый НИИ, а то и папу с мамой. И никто их не стукал ложкой по лбу, коль удачно сказалось – с удовольствием смеялись, но, впрочем, как все-таки заметил Григорьев, пустого зубоскальства не было, а были заинтересованность, соучастие и боление, издевались же над тем, над чем и следовало издеваться, что уж из рук вон, что хоть выбрось, хоть так положь. Да и какой там домострой, с пятью-то авторскими свидетельствами старцев, с подписями, с такими новенько-четкими гербовыми печатями, что смотреть завидно, да с двумя высшими образованиями Самсонова, с вереницей изобретенных и усовершенствованных им машин и способов обработки полей, вошедших даже в учебники по агротехнике, да с женой Натальей Онисимовной, закончившей Ленинградскую консерваторию по классу вокала, а сейчас исполняющей обязанности ученого секретаря в почтенном НИИ, да с дочками, которые, несмотря на косы, заканчивали одна институт механизации и электрификации сельского хозяйства, другая – биологический факультет МГУ, – странное, чего тут говорить, очень даже странное семейство. И страннее всего было, пожалуй, то, что этот разношерстный конгломерат не распадался, не тянул в стороны, а обладал такой притягивающей силой, которой поддался и Григорьев.
Он не мог определить, от какого же центра не хотят оторваться эти люди, к чему же тут тянет его самого – постороннего и случайного для них человека? Уж никак не баня эта, и не протяжные песни после ужина, от которых хотелось рвануть на себе рубаху от восторга, зарыдать напропалую не о своем, а свое прогулять к чертям в кабаке, – песни, которые без просьб, в добровольном порядке стала выводить, сев на деревянное крылечко, Наталья Онисимовна при тихом содействии дочерей своих и своих ничего не промотавших мужчин.
Да постойте, постойте, да почему же не в бане, не в песнях, не в травах, не в этом рубленном из вековых сосен доме, не в этой дали дальней вокруг них, не в этой шири земной и поднебесной, которая была здесь особенно заметна, которая отсюда вроде бы и начиналась, – почему же не в этом дело? Да, может, это-то как раз и потащило Григорьева, поволокло, не спросясь его желания, в этакую дальнюю-предальнюю страну, откуда он родом, но которую не видел и забыл прежде своего рождения, но которую вмиг узнал, едва приблизившись к ее рубежу, и потянуло его, поволокло, припаяло душой и вот теперь замаяло, затомило, да так, что хоть в снежную степь на взгорок да волчьим гениальным плачем на луну, или головой об стенку, или варнаком на дорогу, или куда же еще можно податься ненароком разбуженной, не чаявшей пробуждения, сгинувшей русской душе?..
– Наталья, Наталья… Господи боже, Наталья, Наталья… – простонал в сумерках голос Самсонова. – Да бросила бы ты нас к чертям, да попела бы людям хоть год-другой!
– Вот дурень! – в сердцах перебил его батя, Кузьма Самсонович. – А она что – не людям поет! Да если на то пошло, так на песне этой все мы и держимся, потому – выход душе есть, жить нам охота, широкую грудь против ветра расправить и переть – наперечь, наперечь… Ах, Наталья Онисимовна, зарница ты моя тихая, дай поклонюсь тебе… Жить буду, пока поешь!
«Да что же это, – думал Григорьев, – отчего же мне так горестно и свободно, и счастливо, и мучительно, и никогда мне так не было, никогда не было такой боли и освобождения, и тоски, такой неизбывной тоски неизвестно о чем, и не хочу я, чтобы этой тоски не стало, мне теперь страшно, если ее не будет, я снова стану неживой, нет, человек должен нести в себе боль, чтобы жить, а вдруг я лишусь этой боли и умру для себя, что же мне делать, чтобы жить, чтобы не покинули меня эти сумерки, эти всплески молний и причастность к этой земле? Не хочу, не хочу терять это чувство, это как мать, как семья, а я столько жил и не знал, откуда я. Я отсюда, отсюда, из этой земли, я ее сын, ее блудный сын. Не об этом ли говорила моя мать, умирая: мы крестьяне? Мы крестьяне, мы от земли, в нас еще может проснуться голос истока и племени».
Голоса поющих уплывали вдаль, таяли, понижались до вздоха, и вот уже казалось, что не они, а сумеречные дали вздыхают протяжно и чисто, и голоса их стали доноситься не отсюда, а приходить извне, с окрестных полей, от блеклых небес, пронзенных Вегой и Альтаиром, от всей земли, притихшей и терпеливой.
И оттуда же извне как жалоба, как упрек набежало темным шелестом: ты оставил ее, ты оставил ее. И взвились над тихим крыльцом пыль и натужный грохот грейдера, в новой яви полоснуло недавнее. Наплыли чужие лица, которые никогда не станут петь, тело свело судорогой, и он, чтобы не вывернуло его от беспощадной вины в присутствии всего семейства, в несколько прыжков спасся за кузней.
Судорога отпустила. Донесся сухой запах крапивы, растущей из-под бревенчатой стены. Взгляд приник к острым верхушкам.
Григорьев не сразу понял, что видит. Крапивные соцветия однообразно шевелились. Концы гнулись под тяжестью длинных редковолосатых гусениц. Хищный вид их, облепивших растения, что-то делающих и что-то пожирающих, пригвоздил Григорьева к месту.
Значит, они пели, а в нескольких метрах, за темной стеной шевелились эти твари.
И качнулось, и перевернулось. Только что смотрел с одной точки и видел одно, и вдруг переметнулся, то ли вознесся, то ли упал, и все разом очертилось иначе, может, исказилось, а может, прорвалось истиной. Он поспешил отойти от крапивных зарослей, пробормотал унылое извинение, но больше не сел со всеми, отделенный от всех и собою за всех наказанный.
Он смотрел на приютивших его. Смотрел придирчиво и без пощады. Это семейное сообщество, где все нашли свое место, где все объединены любовью, где за каждым обедом действует семейный совет, готовый вслушаться в любое замечание, а после обеда без бюрократической проволочки опробуются в домашней кузнице и мастерских легкомысленные вроде бы предложения, это сообщество, лишенное амбиций и не нуждающееся в интригах, поначалу восхитило Григорьева, как удачно решенная инженерная задача. Но вновь настигший его душу гул только что пережитого, навсегда соединившийся для него с грохотом корчащейся в пыли дороги, вдруг потребовал соотнести существование данного сообщества с остальными сообществами и единицами, а этот болезненный контраст задушевного пения и копошащихся на соцветиях гусениц, признающих только себя и отрицающих все иное, обрушил слишком легко возникшее поклонение. Как в затяжном сне, окружающее стало трансформироваться в фигуру с противоположным смыслом, и Григорьев подозрительно вглядывался в доброжелательно обращенные к нему лица, желая уловить в них фальшь, какое-то сокрытое от него второе дно. Но ни дна, ни фальши не прорезалось, и подозрительность усилилась.
Эта баня, эти вызывающие косы, эти старцы в брезентовых фартуках, с кожаными ремешками, удерживающими ничуть не поредевшие шевелюры, и даже песни хозяйки, которых лет пятьдесят никто не поет, – весь этот допотопный антураж, без смущения уживающийся с телевизорами в каждой комнате (здесь о вкусах не спорили в течение целой жизни, а из аванса разрешали в складчину творческое разногласие в городской комиссионке или задаром подбирали на помойках кучу хлама, который через неделю-другую преображался в функционирующие системы), эти микрокалькуляторы и дистанционное управление культиваторами и кухонной плитой, кондиционеры в кузне и мастерских, и даже непривычная, явно потомственная трезвость, и еще, и еще, из чего состояли быт и работа этой государственной ячейки, – все это взвихрило настырные мысли о том мире за пределами опытного хозяйства, о мире ухабистых дорог и ничегонеделания, о мире, где пьют и не поют и глобально дерутся за мелкие и сомнительные выгоды (Григорьев вспомнил сотрудницу из своего КБ, которая написала двадцать восемь жалоб на то, что ее кульман поставили не у окна, как ей хотелось, а у противоположной стены, – как бы решили эту проблему Самсоновы? прорубили окно в потолке? О том, что такая проблема у них не возникла бы, почему-то не хотелось думать). И тот внешний, неустроенный мир вдруг приобрел в глазах Григорьева какие-то права и преимущества перед здоровой ячейкой Самсоновых, как приобретает такие права и преимущества тяжело больной человек или малый ребенок, а Самсоновы стали казаться бессердечными, почти уродами, как бы нарушившими некую клятву Гиппократа, которая должна приноситься каждым вступающим в социальную зрелость.
Конечно, он понимал, что все они заняты важным делом и не на пустом месте противостоят вшестером двум научно-исследовательским институтам, но почему-то хотелось призвать их к ответу и спросить за двадцать восемь заявлений по поводу кульмана у стены, за хамство бытового сектора, за согласованную общественную подлость красного уголка и за безнадежный шаг его сестры, которая не снизошла до объяснений с оставшимся в живых человечеством. Шевельнулось смущение, что не на тех он вешает всех собак, что именно Самсоновы ему помогли, и встретили, и вывели из комы отчаяния, но тем больше ему хотелось обвинить их и потребовать ответа за зло, совершающееся в мире.
Не потому ли хотелось этого, что спросить можно лишь с тех, кто захочет принять на себя вину и решится пойти на крест за чужие нелепости, кто, мыслящий, избавит тебя от собственного недомыслия и кто, деятельный, оставит тебя в безответственной лени? Не хотел, не хотел он думать об этом, он жаждал обвинить их, чтобы оправдать других, и себя, и Сандру, и чувство это нарастало в нем, он уже не смел поднять глаза на приветивших его людей, чтобы не сорваться и не наорать, что ненавидит их лад, их покой и их неуязвимость, и он наорал бы, если бы не знал заранее, что и крик его внимательно выслушают, поймут и простят, и не перестанут улыбаться и, чего доброго, еще раз отпарят в бане и обратят в свою веру.
Он неловко оттолкнулся от стены, бормотнул безличное спасибо и что-то вроде того, что ему надо срочно идти.
Наталья Онисимовна участливо сказала, что гроза, он внутри себя заорал, что да, гроза, грозу-то ему и надо, что он не в силах больше видеть ничьи лица, особенно самсоновские, но не заорал, конечно, а только вымученно скривился как бы в улыбке, и хозяйка молча поднялась за ним и пошла проводить, и вывела за ворота станции и указала дорогу, и он пошел, не замечая расстояния и времени, пребывая только в себе, хмурясь и вслушиваясь в наполнявший его шум.
Я виноват перед тобой. Я виноват. Я был старше. На одиннадцать лет старше. Я мужчина. Но я не знал, что это значит. И вряд ли знаю сейчас. Ты догадалась и не ждала от меня помощи. А я, вероятно, думал, что если не ждут, то и не нуждаются.
Он шел усмехаясь и презирая себя до полного уничтожения, шел в быстро сворачивающихся сумерках, в устремившейся к нему со всех сторон плотной духоте и сухом, похожем на оборванный недобрый смех, треске обкладывающих его молний.
Он холодно и презрительно подумал, что не выйдет из этой грозы живым, и выгнал эту мысль вон. Он шел по середине дороги, зачем-то отпинывая ссохшиеся комья омертвелого грунта и не обращая внимания на скручивающийся вокруг него грозовой эпицентр. Рваные мысли высвечивались в мозгу и, многократно повторившись, сникали, чтобы вновь выскочить из темных внутренних пустот.
«А я не так уж занимался собой, – попробовал он оправдаться перед темными своими провалами, в которых нельзя было достичь дна. – И не так уж о себе заботился».
А о ком ты заботился? И кем занимался?
«Ну да, ну да, – думал он, – у каждого из нас ленивая и безработная душа, этого-то ты и не захотела».
– Зачем-то же я пришла в мир? – спросила ты, когда мы вдвоем встречали Новый год и когда тебе не было шестнадцати.
А я поставил пластинку Перси Фейса и потащил тебя танцевать, чтобы и у нас было, как у всех, и у нас было: Перси Фейс, Поль Мориа, две бутылки лимонада и два пирожных.
Я тянулся к стандарту, ты вслушивалась в себя. А я был старше на одиннадцать лет.
Все так. Все так.
Ты ушла в общежитие, я, слава богу, не женился. Ты приходила и наводила порядок в нашей комнате, стирала мои тряпки, поила чаем и непонятно улыбалась.
– Ты так никогда ничего и не сделаешь? – спросила ты, когда тебе было семнадцать и когда я, приятно расслабленный вниманием, смотрел в незапоминающийся лик телевизора.
Я не понял. Я почти совсем не понял. Я на девяносто девять процентов искренне удивился:
– А что я должен делать?
Ты, улыбаясь, налила мне еще чаю.
Ты догадывалась об одном проценте?
Зеленая молния ударила в обочину. Он зажмурился и остановился.
Зачем же ты сделала это? Зачем же ты сделала? Кто теперь спросит меня, для чего я живу? Кто, бесстрашный, посмотрит в глаза миру? Где найдет спохватившийся человек судью своим преступлениям и кто примет из родовых мук его раскаяние?
Сестра моя, земля моя! Поруганная земля моя! Это я. Это все я. Я изувечил тебя. Растлил и испохабил. Ты содрогаешься под моими ногами и молчишь. Может быть, ты еще надеешься.
Земля моя, сестра моя!
Вот я. Казни меня.
Он попытался свернуть в сторону, чтобы не мешать потом своим телом будущим путникам невидимой дороги и чтобы прикрыться от ненужных взоров недалеким кустом, но гроза встала перед ним огненными столбами, и вставала так, куда бы он ни сворачивал. Лишь дорога была свободна от ее бичей, и ему не оставалось другого, как идти.
Так легко было уничтожить его, но она помиловала его и определила его малодушный путь.
«Когда же меня убьет, – подумал он, – когда же произойдет это правильное, чтобы я не жил мертвым».
Но он шел, и расплавленные хлысты освещали дорогу, и гром выжидающе припадал за спиной. После каждого удара он удивлялся тому, что жив, что идет, потом понял, что идет к Новой, и в этой пустыне, терзаемой перуновым гневом, внезапно определил, что будет делать дальше.
При новом длительном всполохе он огляделся и, заметив невдалеке стог, направился к нему. Повыдергав и раздвинув еще не слежавшееся колкое сено, он втиснулся в углубление и, поворочавшись еще, устроился совсем удобно и под непрерывный грохот грома и ослепительные вспышки, пронзавшие стог насквозь, провалился в тяжелый, лишенный всякого бытия сон.
Проснулся он поздно, в девятом часу, одурманенный запахами свежего стога и послегрозового утра, когда размягшая земля, втолкнув мощную волну жизни в тщедушный зеленый мир, успела раскрыться крохотными цветами и листьями и благовестила о своем воскресении тончайшими ароматами, то сливающимися в единую струю щедрого букета, то летящими пронзительно и одиноко.
Дорога была пустынна, и Григорьев босиком, как древний странник, перекинув через плечо связанную обувь, шел по мягкому, прохладному, не совсем высохшему проселку, шел, не отягощенный суетными мыслями, через ясный, солнечный мир, и в душе его рождалось терпеливое спокойствие человека, отрешившегося от многих забот ради единственной, главной теперь заботы, которой и будет подчинено его существование, которая теперь есть судьба его, его отрада и его беда.
Он, не сбавляя шага, приблизился по вчерашнему лугу к могиле с белым, покосившимся от яростного ночного ливня крестом и, не меняясь больше в настроении, не страдая и не тяготясь, произнес как очевидное, давно решенное и всем миром поддержанное:
– Ты подожди. Я не оставлю тебя. Ты подожди.
И, не задерживаясь, уже приступив к выполнению обещанного, зашагал вниз, мимо не знающей отдыха Новой стройки, к разъезженной, гудящей, опять пыльной дороге, которая подкатила его к самому вокзалу пахнувшего сдобными пирогами городка.
У вокзальной кассы перед ним оказалась Санька.
– Ох, Николай Иванович, это вы? Здравствуйте! Вы еще не уехали? Ну, совпадение! А я вот тоже еду. Вам в Смоленск? Мне тоже, возьмите сразу два билета. У меня мама в Смоленске, заболела вот, а братишка маленький, неприятность такая, ногу ей кот подрал, нет, ну, бывает же! Такой приличный все время был кот, обожал ее просто, по пятам ходил, а тут кинулся на ногу и давай полосовать… Швы накладывали, ходить пока не может, а надо же и по дому и всякое такое, и братишка тоже, вот и еду. Ну, спасибо, Николай Иванович, ну, просто не знаю… Вагон один дали? И места вместе? Ну, надо же! Ну, ничего, может, не так скучно будет. Вы совсем без вещей? Я вот тоже налегке, сумка только. А чего надо? Постель дадут, поесть принесут, лежи да в окно посматривай – жизнь!
Слова вылетали из Саньки без остановки, похоже, она и не дышала вовсе, некогда было, но в вагоне, где они оказались в купе только вдвоем, Санька как бы споткнулась, внезапно умолкла, забралась на верхнюю полку и ее будто не стало.
Григорьев, вначале испугавшийся ее болтовни и только кивавший на все ее заходы, постепенно стал привыкать к ее бесшумному присутствию где-то наверху, а через несколько часов дороги выскочил на какой-то станции и купил у чистенькой старушки малосольных огурцов и горячей, облепленной тонкими лапками укропа картошки. Санька картошку с огурчиком приняла, виновато сказала «Спасибо!» и опять надолго пропала.
Григорьев сидел у окна, был доволен тишиной, одиночеством и тем, что сутки и даже больше может не делать ничего обязательного, что над ним на столько часов вперед ничто не висит.
Он бездумно посматривал в заоконную жизнь, которая была прекрасна тем, что его не касалась. То есть если долго в нее всматриваться, то причастный станешь непременно – в тебя войдет доверчивый взгляд молоденькой девчонки, провожающей парня, который уже сейчас зыркает по сторонам, – не вернется, девочка, обманет, зря ты так на него смотришь; беспомощно оглядывается старушка с десятком узлов – никто не встретил, да и кому нужна ты, старая? если и не выгонят тебя, так сама уйдешь, чтобы где-нибудь в сторонке помереть от обиды; похмельный дядька у ларька вопрошает сразу весь поезд: едешь? а куда едешь? и зачем? – ответь ему, попробуй. Лица читались легко, как детские книжки, незакрытость их и беззащитность связывала Григорьева, налагала ненужную ответственность, но поезд уносил его дальше, и Григорьев облегченно вздыхал. Он был свободен намного вперед, до следующего полустанка, до следующего взгляда, до следующего биения сердца.
Он, конечно, был странный человек: легко доверял и не стремился оказаться на виду, легко уступал, всегда, конечно, в ущерб себе, но сожалеть об этом не сожалел. Он считал, что раз уступает добровольно, то некоторое утеснение его интересов подразумевается само собой, и если кому-то из знакомых явилась в нем надобность, то, значит, у знакомого так сложились обстоятельства, и знакомому, конечно, нужнее, чем ему, отпуск в августе, билет на воскресный концерт, место у окна в рабочем кабинете или, например, новая квартира. У него из-под носа брали нужную ему книгу, перед прилавком выталкивали из очереди, хотя он всегда добросовестно отстаивал от самого хвоста, но делал это слишком незаметно, и никто на него не обращал внимания, пока не обострялась борьба за «жизнь» и не вспыхивала агрессивная настороженность ко всем посторонним, «незаконно» покушающимся на дефицит, а пока на Григорьева обрушивалось разрушительное негодование очереди, другие, обладавшие прямо противоположной способностью становиться незаметными в переломные моменты, беспрепятственно хапали у очереди из-под носа. Григорьев считал подобные происшествия случайными – ну, бывает. Его безбожно обсчитывали, а он, прекрасно все видя, стеснялся внести поправку, боясь поставить в неловкое положение невольно ошибшегося человека. При этом казалось само собой разумеющимся, что и с ним должны поступать столь же деликатно и должны когда-нибудь уступить, если у Григорьева явится в том необходимость. Необходимость несколько раз являлась, но ее почему-то совершенно не заметили. Нет, нет, совсем не поступили преднамеренно зло, а просто вот не заметили. Несколько обескураженный Григорьев и тут легко нашел всему оправдание. Да и кто, в самом деле, обязан замечать всякие его переживания, у него и лицо такое – однообразное, ничего на нем не видно, ну, подумаешь – потребовался ему внезапный отпуск за свой счет, захандрилось ему и захотелось смотаться к другу на Диксон, и правильно, что никакого отпуска не дали: у него настроения, а тут производство. Или потребовалось ему на неделю сто рублей – соседу завтра машину выкупать, свои Григорьев все отдал, а сотни все равно недостает, обегал всех коллег, изумляются: откуда? А и в самом деле, откуда у людей сотня в тот момент, когда Григорьеву взбрело эту сотню попросить? Не проси, милый, свое имей. А то вздумал Григорьев заболеть, ну и болей себе, для посещений общественный сектор имеется, а если Григорьев сам и есть этот сектор, так тут никто не виноват, совпадение. И вообще у людей и без него забот хватает, а со своими проблемами он и сам может управиться – ну, продал книги, которые очень не хотел продавать, ну, поскучал в одиночестве, ну, поговорить не с кем – другим-то до этого что? Или: стенгазету оформлять – один Григорьев, портреты после демонстрации нести – Григорьев, на субботник – Григорьев, в колхоз на уборочную – он же, он бессемейный, а остальные обременены. Но обременены-то – добровольно, и бессемейный он – тоже по каким-то причинам…
И Григорьев от нечего делать над всем этим очень задумывался и обнаружил во всем как бы закономерность и малодушно, даже чтобы и перед собой не очень громко признал, что как-то делается многое не лучшим образом. Он постарался в эти размышления не слишком углубляться, но тревога поселилась внутри неисчезающая. И как-то стало после этого Григорьеву стыдно, даже временами проходил и глаза опускал, но опять не для того, чтобы не увидеть и себя не травмировать, все равно ведь видел, а чтобы других не усугублять: зачем он своим взглядом будет подчеркивать им свое понимание и осуждение, они и сами понимают, им и самим неловко.
И Григорьев малевал газетки, диаграммы, общественная работа в их отделе считалась на высоте, отдел завоевал какой-то вымпел, который вручили заву вместе с какой-то грамотой, грамоту было удобно держать в руке – бумага, естественный предмет, а вымпел как-то не укладывался, и зав после торжественного вручения забыл его на сидении, а кто-то его подобрал и принес в КБ и там сунул флажок в нагрудный карман Григорьеву и при этом улыбнулся многослойной улыбкой. Ну, чего бы, казалось, особенного? А Григорьеву вдруг шлея под хвост, забастовал, руки в карманы: ни газет, ни плакатов, ни иной наглядной агитации.
Убеждали:
– Ты же несемейный!
– А у меня любовница! На это нужно гораздо больше усилий.
И не моргнет. Любовница у него. А у меня еще и жена – вот тут повертись! А мне эту дурацкую газетку. До чего же был удобный человек, а вот сбесился!
Руки в карманы – это, конечно, не позиция. Или, скажем, не совсем активная позиция. А традиция нашего теоретического воспитания требовала немедленного разоблачения всяческих недостатков и их победоносного разгрома. Григорьев долго топтался на этом фундаментальном аргументе и, вытащив руки из карманов, поднял их вверх: активной единоличной борьбы со злом у него не получалось. И получиться не могло по многим причинам. Прежде всего, Григорьев долгое время не определял наблюдаемые факты как зло. Для него это были мелкие недоразумения или его собственная нерасторопность, а то и вовсе нечто двуликое: ему неприятны, кому-то удобны – по какую сторону оси их истинное значение? Но когда их накопилось столько, что элемент случайности стал математически нереальным, пришлось волей-неволей определить вереницу сопровождающих его жизнь явлений как нечто в конечном счете отрицательное и потому требующее всяческого сопротивления. Но едва Григорьев (мысленно) пробовал занять активную позицию, как показался себе совершенно нелепым. И не потому, что к активной позиции нужно иметь призвание или хотя бы характер, Григорьев же привык интеллигентно замолкать на полуслове, едва кто-то другой открывал рот. Хорош бы у него получился, например, разговор с мастером телеателье, который имел обыкновение предъявлять счет всегда на восемь рублей и двадцать три копейки; или, допустим, в домоуправлении, где Григорьеву вздумалось бы потребовать капитальный ремонт, – да нет, капитальный ремонт – это, естественно, смешно, а вот хотя бы слезно умолять заменить прогнившие вентиля – да помилуйте, Григорьев, да в любом домоуправлении уже лет двадцать в глаза не видели этих вентилей! Вы еще поинтересуйтесь в какой-нибудь точке общепита содержимым говяжьих котлет!
Нет, дело тут, конечно, не в его небоевитости и не в том, что, стань он в активную позицию на одном конце улицы, его жизни не хватило бы, чтоб добраться до другого. В конечном счете, не такими уж страшными привыкли мы видеть не совсем мясные говяжьи котлеты, и можно допустить, что какому-то заводу, занятому решением более грандиозных задач, не до григорьевского сливного бачка в туалете, – нет, у всех этих случаев были если и не виновники, то причины, которые все сразу объясняли и очень успокаивали. Но бывали другие ситуации, когда самая сложная экспертиза не обнаружила бы преступления, но преступление тем не менее совершалось.








