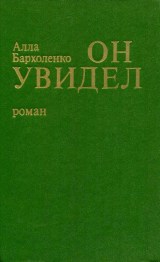
Текст книги "Он увидел"
Автор книги: Авигея Бархоленко
Жанр:
Драматургия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц)
– Я что – не человек? – спросил Илья Ильич. – У меня что – не обед?
– Илья Ильич, тут в виде исключения.
В комнате было три стола, два по одной стене и один отдельно, лицом к посетителю, у другой. За отдельным и сидел Илья Ильич, неопределенного возраста, с покатыми и полными, как у женщины, плечами, в сетчатой белой тенниске и квадратных очках.
– Слушаю вас, – в виде исключения сказал Илья Ильич.
– Мне надо похоронить, – сказал Григорьев, испытывая брезгливость к голым рукам Ильи Ильича, покойно лежавшим поверх многочисленных бумаг.
– Ах, вот о чем, – чуть отстранился Илья Ильич. – В чем же дело? Хороните.
– Где? – спросил Григорьев, глядя в искаженно-выпуклые за стеклами, как бы бессмысленные глаза.
Илья Ильич приподнял полные руки, отлепил приставшие к ним листы ведомостей, передвинул руки на другие листы и вежливо ответил:
– Там, где предписано.
– Предписано на кладбище, – с трудом проталкивая слова сквозь душившую его животную, неуправляемую ярость, проговорил Григорьев. – Так что позвольте узнать, где находится у вас предписанное кладбище.
– А нам здесь кладбище ни к чему, товарищ, – ответил Илья Ильич. – У нас здесь стройка, и люди у нас приехали строить, а не умирать. Если бы произошел героический случай, мы бы, разумеется, позаботились. Но открывать кладбище вашим позорным происшествием мы не имеем права.
– Вы бы хоть машину дали, – сказал Григорьев, стараясь не понимать, что ему говорится.
– А у нас машины делом заняты, товарищ, – ответил Илья Ильич, осторожно отлепляя от руки очередную ведомость. – У нас машины грунт возят…
Тут как-то само собой получилось, что Григорьев приподнял край стола и опрокинул на сетчато-теннисный бытовой сектор, но сектор, как резиновый, выскользнул и вместе со стулом и прилипшей к руке ведомостью отъехал на середину комнаты. Григорьев разъяренно прыгнул и дернул из-под бытового сектора стул, но сектор и тут остался на высоте положения, а Григорьев оказался со стулом, который он, чтобы не убивать человека, хряпнул о поваленный стол, после чего в его руке осталась только спинка, с конторой он и выскочил из комнаты, запоздало услышав, как визжат девицы у других столов.
И боком, неся на отлете спинку стула, готовый крушить направо и налево, пронесся Григорьев по коридору управления, и те, кому случилось в этот миг оказаться на его пути, вскрикивали и втискивались в ближайшие двери, которые он слепо пробегал, не слыша нарастающего позади возмущенного гвалта.
Он выскочил на улицу, солнце ударило ему в глаза яро и пустынно, подплыл темный «Запорожец» с сияющим белым гробом на багажной решетке. Григорьев ослепленно отвернулся, взгляд его упал на прекрасную вывеску строительного управления, он подскочил к ней и принялся крушить ее спинкой стула, сжав рот и мыча, а вывеска никак не билась и все оставалась целой, даже не треснула.
– Григорьев, Григорьев!.. – подбежал сзади и ухватил его поперек Самсонов. – Не сатанейте этак, Григорьев…
Он выпустил покалеченную спинку, поддался крепким рукам Самсонова и, не видя и шатаясь, побрел к «Запорожцу». Позади высыпали из здания негодующие и требующие милицию служащие, но, увидев водруженный на машину гроб, примолкли и стали зрителями.
Самсонов открыл дверцу, подтолкнул Григорьева к креслу, а сам потрогал гроб – крепко ли стоит. От его движения слетели и тут же сели обратно толстые мухи. С заднего сиденья, вжавшись в самый угол, испуганно и печально смотрела Санька.
– Куда теперь? – грузно опустившись за руль, спросил Самсонов.
Григорьев сжал руками голову и раскачивал ее из стороны в сторону, будто решил выдернуть, будто она совсем мешала ему.
– Куда-нибудь, – сказал он. – Куда-нибудь.
– Не довезем до города. Жара… – угрюмо уронил Самсонов.
Григорьев повернулся к нему и, дотрагиваясь до его руки на руле, стал говорить торопливо и сдавленно:
– Самсонов, голубчик!.. Виноват я. Вы из-за меня ввязались, простите ради бога! Но сделайте еще: достаньте у них, – Григорьев кивнул в сторону котловины, – достаньте две лопаты…
Самсонов кивнул, бережно спустил машину к дороге, идущей вокруг, проехал еще несколько, цепко вглядываясь вниз, где все продолжало что-то делаться, и, приметив нужное, оставил машину посреди дороги, а сам с насыпи, не выбирая пути, сбежал-съехал вниз. Вверх он взобрался так же ходко, помогая себе двумя лопатами, а вслед взмахивали и что-то кричали, должно быть, ругались белые женские платочки.
Как ни быстро провернулось дело с лопатами, но, когда Самсонов снова появился на круговой дороге, за его машиной уже стояла вереница самосвалов, задние нетерпеливо сигналили, из передних же, встретив столь необычное препятствие, водители вылезли, подходили заглянуть внутрь «Запорожца», встречали там зажатую руками голову Григорьева и дикий взгляд Саньки, молчаливо отходили и курили у своих кабин.
Когда появился Самсонов, когда запихнул поверх сидений две обляпанные раствором лопаты и снова сел за руль, водители самосвалов, затоптав окурки, тоже расселись по местам. Самсонов тронул машину и медленно, как и полагалось раньше в торжественной похоронной процессии, поехал серединой ныряющей, разбитой дороги. За ним так же медленно, не наседая и не отставая, тронулась вереница самосвалов, и в сухом полуденном мареве слышалось только раскаленное дыхание машин да хруст гравия под колесами. Потом у какой-то машины вырвался, как вопль, протяжный гудок, его подхватили другие, и над котловиной и окрестностями распространился долгий механический стон. Лицо Самсонова разгладилось, напряженно приподнятые плечи выпрямились, и он тоже положил ладонь на круглую клавишу гудка.
Так они двигались вокруг стройки, и уже не раз были спуски вниз для следующих позади самосвалов, но ни один не свернул, не выбрался из вереницы, а все тянулись, повторяя плавные объезды «Запорожца», повторяя движения впереди идущей машины и тем сливаясь в одно целое, сжатое пылью и криком, тоскующим и безвыходным криком каждого сустава. Потом «Запорожец», найдя удобную себе дорогу, взял в сторону. Самсонов, а за ним Григорьев и Санька вышли из машины и встали по бокам ее, лицом к самосвалам, и так стояли в неподвижности, пока не проехал последний из них, пока все они не скрылись в жемчужной пыли.
Самсонов повернулся к Григорьеву и обвел рукой три стороны:
– Что ж, выбирайте место.
Григорьев посмотрел и показал на блекло-зеленый луг у недалекой березовой рощи.
– Там…
Самсонов сошел с проселка, потопал по земле, боясь, не забуксует ли, но земля окаменела от суши, ехали как по дороге. На лугу гроб сняли и стали в две лопаты копать могилу. Санька, постояв без дела и посмотрев на спины молчаливо работающих мужчин, взяла в багажнике полиэтиленовое ведро и пошла искать воду.
Она шла по жесткой, огрубевшей без влаги траве с преждевременно пожухлыми цветами и мелкими, запекшимися коробочками семян, шла под уклон, к видневшемуся вдали оврагу, шла и думала, что в ее жизни совершилась главная перемена, но никто еще об этом не знает. Для всех, кто может интересоваться Санькой, это выглядит просто как невыход на работу, такое бывает, поругают, разберут и вычтут, ничего особенного, но никому не придет в голову, что сегодняшний дикий день – это лишь начало ее новой жизни. Вряд ли эта жизнь будет слишком приятна, но сегодня еще можно думать, что ее ждет не такое уж плохое, потому что вот она идет за водой по лугу, и еще попадаются цветы, и такое вокруг яростное солнце, а из оврага изредка доносит свежестью, и хотя позади на этом лугу копают могилу, все равно ей дано такое счастливое благо – по залитой солнцем земле идти за чистой водой…
Она и в самом деле счастливо вздохнула и спрыгнула с обвислого края оврага на лишенный растительности склон, сбежала на травянистое дно, где лежал плоский, почти неподвижный ручей, из которого пришлось черпать воду ладонями, так он был мелок, – ну и что, все равно это была вода.
Вернувшись, Санька нашла щетку и стала мыть машину, а когда снова пошла за водой, то прихватила сброшенные рубашки Самсонова и Григорьева, выстирала их и повесила сушить на кустах, а сама опять занялась машиной, тщательно протерла ее и снаружи и внутри, вытряхнула коврики и вымыла пол, и все делала прилежно и с затаенной радостью, что вон она жива и может что-то делать.
Яма углубилась, Григорьев и Самсонов уже работали по одному, ловко выпрыгивали из глубины, опираясь на положенную поперек лопату, пили принесенную Санькой воду, отдыхали и снова рыли, солнце жгло их спины, пот капал в могилу, потом бока ее стали давать тень и задышали подземным сырым холодом. Григорьев в последний раз вылез и, сев лицом к солнцу, пряча сожженную спину, стал отходить от подземного хлада, слышать окрестный покой и пение пыльных серых кузнечиков, а оглядывая окрестность дальше, заметил Саньку на покатой равнине. Она медленно шла, нагибаясь за редкими цветами, будто, прежде чем сорвать, кланялась им. Григорьева это зрелище очень привлекало, он завороженно смотрел, как шла по земле женщина в черном траурном шарфе, и что-то кольнуло его и что-то как бы сместилось, и Григорьев увидел другую картину, которая будет потом, тоже после могилы. Сердце его забилось глухо и редко, а звуки цикад, только что похожие на трясущийся мешок медных денег, совсем для него исчезли.
Когда Санька вернулась с блеклыми луговыми цветами, Григорьев странно на нее посмотрел. Санька поискала в себе причину этому взгляду и не нашла.
Григорьев и Самсонов умылись, надели чистые рубахи, а Григорьев повязал галстук. У Самсонова галстука не нашлось, но он отыскал у себя в машине кусок черной материи, аккуратно свернул и обвязал поверх рукава.
Подошли к гробу. Самсонов спросил:
– Открыть?
– Нет, – ответил Григорьев, опустив голову. Все постояли молча. Григорьев сказал тихо: – Прости, сестра…
Мужчины подняли гроб и понесли к могиле. А на прежнем месте растеклось по земле большое пятно, к которому жадно прилипли мухи. Санька стыдливо нагребла на это место земли.
Веревка оказалась коротка, при опускании опасно терялось равновесие, но подоспело дно, и все кончилось благополучно. Веревку бросили сверху, и она опоясала гроб серыми тяжами, будто захватила, будто нужно было привязать его к темной глубине.
Григорьев снова сказал свое:
– Прости, сестра.
Санька не сказала ничего. С ней что-то сделалось, и она неподвижными глазами смотрела вниз. Самсонов осторожно ее отстранил и принялся закидывать яму…
Когда охлопали могильную грядку, когда лопатные полукружия с вдавлениями от черенков замкнули все стороны, а Санька забросала свежий холм поникшими полевыми цветами, Самсонов, помолчав какое-то время, повернулся к Григорьеву и сказал:
– Не знаю, как вы смотрите на это, Григорьев, да я, собственно, смотрю так же, но я поставлю крест.
И он срубил в роще молодую березу, сделал крест и вбил его в изножие могилы.
– Вот теперь все, – проговорил он удовлетворенно и поклонился могиле, коснувшись пальцами земли у ее края. – Земля тебе пухом, девочка.
– Земля не была ей пухом, – пробормотал Григорьев, но Самсонов его не услышал, услышала только Санька и вдруг поняла, что ничего еще не кончилось, а только начинается.
Долог он был, этот летний день, знойный и пустой, с ленивым маревом над развороченной низиной, где в тяжком грохоте готовилось основание подо что-то будущее. В нем родилась и призрачно приподнялась белым крестом уже обсохшая могила, но он ненасытно распахнув пустынную пасть, ждал чего-то еще. Григорьеву захотелось скрыться от этого алчного светлого пространства, и он с облегчением подумал, что сейчас сядет в машину и уедет отсюда, чтобы торопливо забыть и никогда не вернуться.
«А она? – заставил он себя подумать о сестре. – А она?..»
Она останется здесь. Я не в силах представить, что ей все безразлично – где лежать и как быть похороненной. Да и не знаем мы, безразлично или нет ей, теперешней, наше отношение к ней. И даже если ничего уже нет и ничто не может иметь для нее значения, все это имеет значение для меня, а может быть, и для всех, потому что память о человеке должна быть длиннее его жизни.
И Григорьев медлил. Чувствовал спиной терпеливое и все-таки подталкивающее ожидание Самсонова и Саньки, но все равно медлил, пока наконец совсем не понял, что не смеет так трусливо бежать отсюда. Он посмотрел на Самсонова и Саньку, в основном на Самсонова, и сказал:
– Вы идите. Вы идите, а я должен подумать.
Они странно взглянули на него, но Санька тут же закивала и взяла Самсонова под руку, уводя. По пути Санька подобрала лопаты и вскинула их на плечо, чтобы вернуть государству, а Самсонов сел в «Запорожец» и собрался с запозданием ехать туда, где ему в который раз снимут голову.
Григорьев вдруг сорвался с места и побежал к «Запорожцу», замахал руками. Самсонов обеспокоенно открыл дверцу.
– Чтобы вы не думали, что я… Я благодарен вам, вы… Вот ей, наверно, попадались другие, и она… Я благодарен, я… Я благодарен! – говорил Григорьев, а Самсонов, мигая, растерянно смотрел на него.
– Поехали, Григорьев, не надо вам тут думать, ну поехали ко мне, жена пироги испечет, – в ответ на благодарность стал убеждать Самсонов. – Да точно же говорю, надо ехать! Ну-ка, садитесь! Садитесь и поехали…
После чего Григорьев с изумлением обнаружил, что лезет в машину, садится, захлопывает дверцу, машина трогается, и они, покачиваясь, едут по луговой целине, а сзади остается призрачно сияющий белый крест, который становится все меньше и меньше, расплывается в жарком струении воздуха, и вот его уже нет, и не было, никогда ничего не было.
Санька с государственными лопатами на плече оглянулась в последний раз и тоже увидела, что там, где они были, полностью свободно и пусто.
* * *
С плотно нарастающим свистом летели навстречу, обгоняли легковые, в личной собственности, ухоженные, поблескивающие, с попрыгунчиками-талисманами у передних ветровых стекол, с нахально болтающейся растопыренной поролоновой пятерней на заднем, с водителями в ослепительно белых рубахах, с плотными самодовольно застывшими женами, – летели обгоняя, встречаясь, едва не сталкиваясь, обдавая упругим, разорванным воздухом, летели стремительные и равнодушные, как выстрелы, мимо.
– Как много людей, – сказал Григорьев.
– Много? – удивился Самсонов, окидывая взглядом бескрайние поспевающие поля. – Разве это много?
– А вы посмотрите – все мимо, мимо, никто не хочет остановиться, разве только авария, да и то… Впрочем, может, не людей много, а живых мало.
– По-моему, вы смотрите предвзято, Григорьев. Вот я, по-вашему, более или менее живой, а тоже еду мимо.
– Ну, зачем же так буквально? – пробормотал Григорьев и опять надолго замолчал.
Им все более овладевали усталость и беспокойство, когда хочется скорее заснуть, тело разламывает от переутомления, но при этом наверняка знаешь, что не заснешь, внутри навертывается и твердеет предчувствие новых неприятностей, и ты бессилен дать душе недолгое забвение.
Километрах в пятнадцати от стройки была сельскохозяйственная опытная станция, где Самсонов работал чем-то средним между агрономом, инженером и толкачом, проектируя, строя из чего придется, испытывая новые уборочные агрегаты, пытаясь «пробить» их в серийное производство и восемнадцатый год стойко выдерживая натиск прямых и косвенных предложений о многофамильном соавторстве. Оно его почему-то не устраивало, а машины в широкое производство почему-то не шли. Самсонов говорил об этом со смехом, его явно забавляло, что два сельскохозяйственных НИИ не могут с ним справиться.
– Восемнадцать лет? – переспросил Григорьев с некоторым сомнением: то ли много показалось, то ли, наоборот, не слишком. – Очень весело.
– А что? – с большим удовольствием подтвердил Самсонов. – У них-то мощь какая – заводы! А я? Что я? На металлоломе, в основном.
– А машины ваши? Действуют?
– А вы как думали? Разваливаются, конечно, старье. Но тем не менее.
– Счастливый у вас характер, – вздохнул Григорьев.
– Еще бы! Зарплата девяносто, семья шестеро, весело. На «Запорожец» не смотрите, списанный, я его сам собрал. Ну, вылезайте, прибыли.
Семья Самсоновых занимала обширный крестовый дом с добротными саманными службами, в одной из которых звонко постукивал о наковальню молот, а из низенькой трубы полз в небо сизый дымок. Григорьев посмотрел вопросительно. Самсонов объяснил:
– Батя с тестем стараются. Старики у меня клад. И кузню, и слесарню – все сами. И любую мою хреновень на совесть – где такое возьмешь! Да еще так и этак прикинут, смотришь – идея. Я им уже пять авторских свидетельств оформил, у них в комнате на стенке висят. А вот и они, пойдем знакомиться.
Из кузни вышли два крупных седобородых старца в кожаных фартуках. Увидев, что Самсонов с гостем, повернули к умывальникам, что висели по обе стороны двери. Два старика и два умывальника. Григорьев улыбнулся сам не зная чему. Ему нравилось у Самсонова.
Старцы сняли фартуки, повесили на гвозди около умывальников и неторопливо зашагали к приехавшим.
– Заждались, поди-ко… – густо сказал один.
– Ну, живой, и ладно, – еще гуще прогудел другой.
– Товарища вот привез, – сказал Самсонов, подталкивая Григорьева вперед, как будто этим все его грехи искупались.
Старики закивали, шагнули к Григорьеву и, боясь повредить городского человека, осторожно тряхнули по очереди не слишком жилистую руку гостя.
Самсонов, с удовольствием на них поглядывая, сообщил:
– Это батя, отец мой, Кузьма Самсонович. А это папаша, тесть, Онисим Демидыч.
– Наталья-то уж звонить побежала, – заметив взгляд сына на окна дома, проговорил Кузьма Самсонович.
– Эко, делов-то – мужик меньше чем на сутки подзадержался, – успокоенно засмеялся Самсонов. Он был доволен, что дома все в порядке. – Батя, а нельзя ли нам баньку?
– Да всю ночь держали и сегодня с утра, – ответил Кузьма Самсонович. – В один момент все будет готово.
– В такую-то жару? – запротестовал Григорьев.
– Не спешите, Григорьев. Не судите о том, чего не знаете, – ответил посмеиваясь хозяин, а Кузьма Самсонович уже шагал к стоящей поодаль бане. – Батя великий мастер по этому делу – попробуете, и в город возвращаться не захотите.
Григорьев ничего возразить не успел, на улице послышались дробные шаги, во двор вошла женщина, быстрая, невысокая, в сдвинутой на спину косынке, и бросилась, не замечая постороннего, обнимать мужа. Самсонов, видно, шепнул ей что-то, и она, на ходу поправляя косынку, пошла к Григорьеву, протянула руку и легко заговорила:
– Вот и хорошо, ну и славно, что к нам надумали, отдохнете, за грибами сходим, сейчас белые пошли, да ты баню-то приказал ли, Володя? А ты, отец, чего? Ряженки бы холодной предложил, с дороги, поди, пить хотят. – Онисим Демидыч послушно заспешил в погреб, а хозяйка снова ласково смотрела на гостя и говорила: – Обедать-то мы с вами потом, после бани, чтобы без помех и как следует, а банька быстро, со вчерашнего жарится, я вам сейчас все там приготовлю…
Григорьев размякал от приветливости, обволакивающего голоса, теплые волны ходили вокруг него, все приятно покачивалось, старец принес ледяную кринку и глиняные кружки. Григорьев пил что-то особое, не простоквашу и не кефир, что-то резко-кислое, с маслянистыми комочками, продирающее, очень вкусное и настоящее, в теле начало проясняться, недавнее на время отступило, Григорьев стоял и улыбался, а Самсонов, до этого не видевший его улыбки, поразился ее доверчивости и беззащитности, ощутил от нее тревогу и подумал, что людям с такой улыбкой надо бы выделять охрану – так они открыты, уязвимы и приготовлены для бед, как громоотвод для молний.
Самсонов потрепал Григорьева по плечу, даже вроде погладил, но, чтобы не слишком уж было сентиментально, повернулся к тестю и спросил:
– Ну, что тут?
– Ну, так чего тут, – степенно отозвался Онисим Демидович. – Из твоего НИИ три раза прибегали. Петруша, говорят, ногами топал. Кричал, говорят, что уволит к чертовой матери.
– Кого уволят? – повернулся к ним Григорьев. – Вас? Так я пойду и объясню, я прямо сейчас, чтобы не затягивать…
– Полноте, полноте, Григорьев, – удержал его Самсонов. – Он меня двадцать лет увольняет. Тут все в другом, тут опять комиссия едет.
– Достал хоть? – спросил Онисим Демидович.
– А не мое это дело, – отмахнулся Самсонов. – Пусть Петруша других посылает, не могу я из-за тонны железа этому сукину сыну в десятый раз кланяться!
– Так-то так, да ведь тебе железо-то нужно. Опять у нас ось треснет, а комиссия через неделю, и что?
– Не водку же с ним пить…
– Мог бы и пострадать для идеи, – усмехнулся Онисим Демидович. – А теперь придется, видать, мне. Ну, я ему по-своему объясню… – Онисим Демидович многозначительно погладил свою апостольскую бороду. – Садитесь-ко, перекусим помалу, пока мастера баню готовят.
Старик крупно нарезал домашний сыр, поставил на садовый стол куски твердого прошлогоднего меда и белый пышный хлеб.
– На медок, на медок налегайте, хорошо меду перед баней. И ешь, ешь, на голодный желудок бани не потянешь, – говорил он Григорьеву, и тот налегал, жевал сочный сыр и запивал тающий мед резко-кислой ряженкой. Непривычная была еда, слишком полного неразбавленного вкуса, даже подташнивало с непривычки.
– Ну, миленькие, готово все, идите потрудитесь, – пригласила вскоре хозяйка.
Самсонов повел Григорьева по тропинке сквозь заросли малины к бревенчатому домику, где под стрехой в тени крыши вялились пучки трав, а под специальным навесом протянулись на шестах связанные попарно березовые, дубовые, можжевеловые, еловые и даже крапивные веники. Уже перед припертой колышком дверью густо запахло распаренной мятой, и еще какие-то запахи, то ли меда, то ли воска, вились вокруг бани.
– Дело, дело, – обрадованно повел носом Самсонов. – Расстарался батя.
Он распахнул дверь в предбанничек, где воздух и вовсе загустел, где уже и влагой, и парком шибало и тянуло жаркой печью, и мягко стлался распаренный березовый дух. Тело почувствовало влагу, затомилось, зачесалось, будто не в первый раз вваливалось в этот пахучий омут, предвкушало то, что его ждет, и торопилось. Григорьев мимоходом этому удивился и стал спешно вылезать из одежд, разделся раньше неторопкого Самсонова и топтался у двери, ожидая его.
Они вошли в банную. В нее выходила печная топка, около стояли три бочки – с холодной водой, кипятком и запаренными вениками. На стенах висели берестяные тазики, легкие и безопасные, без всякого грома – ничего железного, кроме печного инструмента, здесь не было. В углу на сухом корявом суку топорщились три старые фетровые шляпы и три лыжные шапочки, на полочке были аккуратно разложены брезентовые рукавицы, какие бывают у строителей, и добротные варежки деревенской толстой вязки.
«Зачем?» – удивился Григорьев. Вдоль свободных стен тянулись широкие лавки, на которых можно было и сидеть, и лежать, над ними висели пышные мочалки из лыка. Вошел Кузьма Самсонович с охапкой елового лапника, мелко порубил его на пенечке. Запахло смольем, лесом и зноем. Самсонов сунул Григорьеву берестяной тазик:
– Делай по вкусу!
И, показывая, что нужно делать, пошел к бочкам, начерпал деревянным ковшом холодной воды и окатился, крякнул и начерпал еще. Григорьев не захотел отставать, опрокинул на себя ледяную, прямо, видно, из колодца – захлестнуло, будто в темень провалился.
– Ты не шали, – неодобрительно сказал Самсонов. – Не геройствуй – зачем? Делай, чтобы хорошо тебе и приятно. У бани иной задачи нет.
Григорьев развел погорячее и взялся за мочалку.
– Стой, стой, – сказал ему Самсонов.
Григорьев торопливо повесил мочалку на место – решил, что не ту взял, чужую.
– Не в этом дело, – добродушно усмехнулся Самсонов. – Рано мыться, париться не сможешь.
– То есть как? – не понял Григорьев.
– Кожу мытьем обнажишь, настоящего пара не вынесешь.
– Да пар-то где?
– Там, – кивнул Самсонов на вторую дверь, куда с порубленным лапником и пучками каких-то трав прошел Кузьма Самсонович. – Здесь мы с тобой вроде как в КПЗ – созреваем, а все дело впереди.
Самсонов поставил на лавку берестянку с крышкой, приказал:
– Поди-ка сюда!
Григорьев с любопытством придвинулся.
– Поперек лавки поздно, ложись вдоль.
Григорьев лег, принюхиваясь к берестяному сосуду. Самсонов откинул крышку, ухватил пятерней, ляпнул Григорьеву на спину – в нос шибануло резко, выдавило слезу – то ли редька, то ли хрен, да не просто, а еще с чем-то. Самсонов похохатывал, нашлепывал, размазывал.
– И как у вас называется эта закуска? – поинтересовался Григорьев.
– Замазкой. Ничего особенного, редька да хрен, угадали. Да немного уксуса. Ну, и посолили – все, как полагается.
– Примите во внимание, что я тощий и несъедобный.
– Ну, это как сказать. Пожалуйте животиком кверху.
Григорьев пожаловал. Самсонов облепил его редькой и с этой стороны.
– Послушайте, Самсонов, дерет же!
– Ну, и пусть дерет. Это и хорошо, что дерет. Вы проходили про Спарту? Про лисенка знаете? А про Савонаролу читали?
«Ну, если вспоминать про спартанцев, то терпеть можно», – решил Григорьев. Самсонов между тем намазал и себя.
– Вам же спину не достать, давайте я, – предложил Григорьев.
– Ну, давайте. Да не втирайте, а только сверху. Эта штука сама все делает. А теперь признайтесь, чего вам больше всего охота?
– Смыть ваше зелье.
– Ну, и смойте. Там в шкафчике полотенце, вытритесь насухо. Да волосы-то зачем мочите? Насухо волосы, насухо. А теперь шляпу наденьте.
– Да? У нас званый обед?
– Ну, шапочку, если вам больше нравится.
– А галстук?
– Только рукавицы, Григорьев. Шляпу и рукавицы. Или варежки, если вы такой интеллигентный. И там же в углу дощечки – прихватите одну, садиться на нее будете.
Григорьев надел шерстяную шапочку и шерстяные варежки, надеясь, что его не слишком разыгрывают, прихватил дощечку для сидения и поинтересовался:
– Я экипирован?
– Полностью. Можете войти в ту дверь.
Ясное, воскового цвета помещение, с довольно большим окном в сторону заката, где уже наливался золотом небесный свод, обхватило сухим зноем. Широкие, из цельных тесин ступени полка протянулись от стены до стены. Свободные промежутки занимали скамьи. И полок, и скамьи были сухи, пол покрыт свежим сеном и рубленым лапником. На стене у самого потолка висел термометр со шкалой до 150 градусов, столбик ртути стоял на девяноста. «Испорченный», – подумал Григорьев. Неподвижный зной и перемещение ароматов – то смола, то подсыхающая на солнце земляника, то что-то мятное, и этот сложный букет сена с десятками видов, листьев, стебельков, соцветий и семян. Григорьев задышал глубже, и носом, и открытым ртом.
– Во, во, дыши, милый, прочищайся, – услышал он голос Кузьмы Самсоновича. Голый апостол в старой ушанке раскладывал по полку ошпаренные травы. – Все и растет для того, чтобы человеку дышать.
– А градусник тут что – не действует? – спросил Григорьев.
– Зачем не действует? Здесь все в точности действует.
– Да вы посмотрите, что он показывает – девяносто!
– Ну? Эк… Спустился, покуда я туда-сюда… Сейчас поддам!
Кузьма Самсонович прытко слез с полка, поколдовал у скамьи с берестяными туесками, надел брезентовые рукавицы и, встав в стороне, размашисто и плавно плеснул из ковша на раскаленные докрасна камни – там взорвалось, выстрелило белым клубом. По бане расплылся жаркий дух улья. Старик плеснул еще. Шальной термометр перевалил за сто.
– Да ты, милый, куда? – воскликнул Кузьма Самсонович, когда Григорьев, сохраняя жизнь, чуть не лбом бухнул в дверь.
– С ума сошли? – крикнул Григорьев. – Там больше ста!
– Ну и что? – спросил Самсонов благодушно. – По-моему, вы даже не вспотели.
Григорьев и в самом деле ощутил озноб, в банной комнате показалось холодно, как в погребе, захотелось в жар, против которого только что протестовал.
– Ну, пошли, – проговорил Самсонов, окатом смыв с себя редечную приправу и вытеревшись. – Пошли погреемся.
Григорьева снова охватил приятный знойный жар, сухой и легкий. Он решил не смотреть больше на термометр – все равно врет, окаянный. Забыв про дощечку для сидения, он сел на нижнюю ступень полка и вскочил: обожгло. Воодушевился, спросил:
– А наверх можно?
– Успеете, успеете, – лениво отозвался Самсонов. – Постелите полотенце да полежите внизу.
Сам он тоже устроился на лавке и закрыл глаза.
Григорьев исполнил совет наполовину, лег повыше, на вторую полку. Дышалось глубоко, как на подъеме, но без надсады и усилий. Тело прислушивалось и расслаблялось. Стало незнакомо и приятно греться внутри, и Григорьев, временами баловавшийся йогой, прошелся мысленно по всему, что знал в себе, как бы огладил себе сердце, желудок и легкие, и остальное, что мог представить, проверил и еще больше расслабил суставы. Тело благодарно примолкло, покачиваясь в невесомости. Обдавали запахи соснового бора, цветущего луга, весеннего сада, пахнуло снежной свежестью, березовым соком – колдовал у туесков Кузьма Самсонович.
– Вошли во вкус? – услышал он голос Самсонова. – Вставайте, лежебока!
– Ну, что вам неймется, Владимир Кузьмич? – взмолился разомлевший Григорьев.
– Пошли, пошли!
Григорьев потащился в банную, там Самсонов окатил его холодненькой – Григорьев и не поморщился.
Ну, теперь валяйте сами, – довольно сказал Самсонов. – Догадались о принципе сего тысячелетнего крестьянского заведения? Гимнастика внутренних органов, дорогуша, особенно сосудов: жар – холод, сжимать – разжимать… Облейтесь еще разок и можете на верхотуру.
Самсонов вытащил из кадушки два парных, пахучих березовых веника, и они вернулись в густой зной. Григорьев залез на верх полка, и тут к нему, подняв веники к потолку и слегка ими потряхивая, чтобы ушла лишняя влага, приступил с торжественным лицом Кузьма Самсонович. «Живого места не оставит», – подумал Григорьев и решил терпеть, как спартанец. Но старик только помахивал около, не касался даже, только расчетливо, по какой-то системе, направлял на тело самый верхний жар, и жар, казалось, беспрепятственно входил внутрь, охватывал там что-то и калил, калил… Жутковато было, будто лежал Григорьев перед стариком весь, до самой сердцевины своей, до позвоночника развернутый, и старый ведун ревизовал его, поправлял, подновлял и восстанавливал на место. Через несколько минут внутри занялся ровный пожар, захотелось пить, все нагнеталось к какой-то нестерпимой точке, и едва эта точка приблизилась, старик опустил опахала, протер григорьевское тело березовой листвой и любовно сказал:
– Ну, передохни… Без спеха только.
Видно, Григорьев не совсем ясно соображал, потому что Самсонов, орудовавший у каменки в брезентовых рукавицах и покоробленной фетровой шляпе, подтолкнул его в другую сторону. Он послушно повернул и, распахнув дверь, вывалился из парной прямо на волю, в вечерний воздух, в запах спелой малины, на выложенную прохладными кирпичами дорожку. Григорьев попрыгал и помахал руками, охлаждаясь, а сделав несколько шагов, увидел среди малинника прудок, размером со среднюю комнату, три взмаха туда, три обратно. Сквозь прозрачную воду просвечивалось кирпичное дно, глубина была изрядная, Григорьев отважился нырнуть, но до дна не дошел, свечой взмыл вверх.








