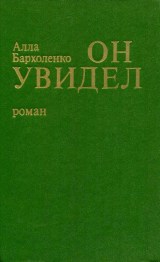
Текст книги "Он увидел"
Автор книги: Авигея Бархоленко
Жанр:
Драматургия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 14 страниц)
Annotation
Спасение духовности в человеке и обществе, сохранение нравственной памяти народа, без которой не может быть национального и просто человеческого достоинства, – главная идея романа уральской писательницы.
Он увидел
Он увидел

* * *
Перебрасывая с руки на руку горячий чайник, она вошла в комнату и увидела, как Сандра спокойно, будто прогуливаясь по их тощему Бродвею, шагнула с узенького подоконника в раскрытый зев окна. Санька закричала одновременно с криком внизу и потому почти не услышала его, но, боясь, что услышит, с ужасом глядя на растекающийся из выроненного чайника кипяток, на замедляющееся движение его и остановку, на белый парок над плоской лужей, продолжала длинно и сверляще кричать, зажимая себе уши. С кухни вбежали девицы и, думая, что она ошпарилась, стали ощупывать ей ноги. Санька оттолкнула всех, ринулась вон и заперлась в туалетной. Часа через два ее насильно вытащили, а она все упиралась и никуда не хотела идти.
Ей объясняли:
– Дура! Следователь, понимаешь? Рост – во, плечи – во, молодой и без кольца… Следователь требует!
Не доходило. Порывалась обратно, чтобы в любую сторону стена, чтобы ни людей, ни окон, но ее втолкнули в комнату, в ту ужасную комнату.
– Вот, товарищ следователь, она все видела!
Санька зажмурилась и затрясла головой, но вообще-то уже не испытывала прежней паники, а все трезво отмечала. Услышала, например, как девицы уходят и как осторожно прикрывают дверь с таким расчетом, чтобы если не видеть, так слышать, что тут будет дальше, отмечала сторонним зрением, напряженно ожидая каких-то особых, пронзительных вопросов, заранее отчаиваясь, что ничего не знает и не сможет ответить. Но и это чувство тоже было где-то на задворках, а наполнял ее сейчас окаменелый протест против того, что произошло, и особенно против того, что будет сейчас происходить, против всех этих обязательных и равнодушных заглядываний в чужую жизнь и, может быть, смерть.
Следователь сидел за их терпеливым длинным столом посреди комнаты и усердно заполнял какие-то бланки, будто готовил ведомость для оплаты. Будничность его занятия и позы потрясла Саньку, а иконописное личико с просвечивающей сквозь бородку белой кожей показалось слишком ухоженным и потому оскорбительным для предстоящего дела.
Не прерывая аккуратного письма, следователь проговорил:
– Слушаю вас.
Санька молчала, разглядывая чужого человека, который положил свою папку с бумагами на кровать Сандры и, доставая новые бланки, прикасался коленом к голубому покрывалу.
– Так что же? – спросил следователь.
– Ничего, – сказала Санька хриплым голосом.
Он поднял на нее огромные глаза, утомленные тяжестью ресниц:
– Вы обязаны отвечать на мои вопросы.
Санька догадалась, что этому человеку ни в каких обстоятельствах не захочется выйти из окна и что она ненавидит его за это.
– Расскажите о том, что вы видели, – предложил следователь, намекая голосом на чью-то и как бы в первую очередь ее собственную заведомую вину.
Санька проглотила застрявший в горле шершавый ком и воспаленно воззрилась в распахнутое окно.
– Она… будто шла. Будто совсем спокойно. Будто собиралась идти долго.
– Куда идти? – спросил следователь.
Санька молчала, не поднимая глаз.
– Вы должны, когда отвечаете, смотреть на меня, – сказал следователь.
– Я не хочу, – возразила Санька, стараясь не видеть его.
– Почему? – изумился следователь.
И совсем не профессиональным было это «почему», и смотреть он требовал не из-за того, что так полагается при опросе свидетелей, ему самому все время очень этого хотелось, ему нужно было, чтобы все смотрели и восхищались, и млели, и тайно влюблялись, а он бы шел равнодушно через всех, и это было бы ему вместо всякого другого счастья, и все это Санька понимала ясно и определенно, будто все было записано в протоколе четким почерком. Следователь нетерпеливо повторил:
– Почему?
– Потому что мне стыдно, – сказала Санька.
Он такого ответа не ожидал. Он понял, что Санька имеет в виду, но поверить ей никак не мог, и тогда бы не смог, если бы она совсем прямо сказала ему, сказала бы, что он эгоист, пустой и подонок, – и поэтому повернул на другое и спросил очень тонко:
– Вы чувствуете свою вину?
– Нет! – не поддалась Санька. – Я чувствую другое.
Голос ее наполнился яростью и как бы отделился от нее, самостоятельно образуя слова, которых она потом опять не вспомнит, как и в последний раз перед начальником участка, когда завалили бетоном общую собачонку Сильву.
– А именно? – слегка усмехнулся следователь.
– А именно, что вы никогда ничего не поймете в том, что случилось! – Она уперлась в него беспощадным презирающим взглядом.
– А вы? Понимаете?
Эта девица не укладывалась в его представления о прочих людях, и потому нетерпеливо раздражала его, да еще навязывала собственные вопросы.
– Ей не понравилось, – послышался короткий ответ.
– Что же именно не понравилось гражданке Григорьевой? – спросил следователь, пытаясь переделать глупый разговор в протокольную однозначность.
– А я не знаю, – сказала Санька.
– Не знаете, а утверждаете!
Санька пожала плечами и замолчала. Видно, ей было наплевать на нелогичность ответов, просто говорила то, что думала, и в нем запоздало сработал сигнал: удача! не зевай! Такое случалось и раньше: он допрашивал людей, у которых было интуитивно ощущение парадоксальной сути – нелепой, бездоказательной и точной, и тогда можно было выстраивать оригинальные версии, на которые начальство обращало положительное внимание. У него был нюх – нюх на людей, умеющих видеть. Ну, а то, что действительным автором его версий был кто-то другой, это уже мелкие частности. На какое-то время он забыл об отсутствии восхищения в глазах этой девки с большими руками и замер в охотничьей стойке.
– Вы замечали в последнее время за гражданкой Григорьевой что-нибудь странное?
– Не замечала, – буркнула Санька, но перемену в собеседнике уловила. И, помедлив, добавила, заставляя себя забыть о неприязни к сидящему в ее комнате постороннему человеку: – Она всегда была странная.
– Подробнее, подробнее! – подталкивал следователь. – В чем это выражалось!
– Да мало ли… Ну, например, не любила говорить.
– Что говорить?
– Ну, уходила, если мы начинали о тряпках или парнях.
– У нее был мрачный характер?
– Ничего не мрачный, просто трепа не любила. Уйдет на кухню варить, или стирать, или в душ. А чаще в читалку.
– Любила читать?
– Это тоже. И училась.
– Заочно?
– Тут другого нет. А училась, знаете, где? На курсах цветоводов.
– Где-где?
– В Москве, кажется. Курсы цветоводов-декораторов.
Следователь разочарованно откинулся на спинку стула:
– Что же во всем этом странного?
– Но вы же удивились, когда услышали про цветоводов? Это и есть странное, когда другие так не делают, а только удивляются.
– Можете что-то добавить?
– Она была… ну, принципиальная.
– А это, по-вашему, плохо?
– Плохо, конечно. Живешь – как в президиуме сидишь. Я вот решила недавно, что буду принципиальная на один день, так к вечеру чуть не задохнулась.
– Отчего же?
– От неудобства. Надо же все, как есть. А ко мне, например, Наташка в новом платье подходит и спрашивает: идет? А я должна что? Я и должна, как есть: нет, говорю, не идет. Так до сих пор со мной не здоровается. А Наташка кто? А Наташка, между прочим, автолавкой заведует. Так что сами понимаете.
– Что я должен понимать?
– А то, что всем дефицит из-под прилавка, а я лифчик купить не могу.
– Давайте ближе к делу. Вы хотите сказать, что у Григорьевой с кем-то обострились отношения из-за ее принципиальности?
– Ничего такого я не хочу сказать. Она же не специально, как я, у нее это само собой. Заработал – получай. Никогда сама не лезла, все мы. Раз у нее Валентина десятку взаймы попросила. А Сандра спрашивает: зачем? А Валька говорит – на французские духи. Сандра сразу: не дам! Валька тоже в принцип: почему, если послезавтра получка? Послезавтра и купишь. Да не будет их послезавтра! Ну, значит, без них проживешь. Валька ревела даже. Мы ее, Вальку то есть, пожалели, скинулись по рублевке, купила она эти духи, а Ганька пришел и выпил. Так что правильно Сандра денег не дала.
– Потому что Ганька выпил?
– При чем тут Ганька? Вообще правильно. Мне, например, Валентина рубль так и не вернула. Спрашивать – неудобно, но рубль-то – мой!
– Значит, Григорьева не давала в долг, так как боялась, что долг не вернут?
– Да с чего вы взяли? Как раз и давала, если что. Вот у Лизочки мать в Ярославле умерла, две сестренки остались, так Сандра не то что Лизочке на дорогу, а каждый месяц потом посылала. А Лизочка ей кто? Да никто, даже не дружили, вот тут у нас в соседней комнате жила. Несовременная она была, вот что. Или преждевременная. Видно, поняла это и – пожалуйста!
– Что же в ней преждевременного? Обычный честный человек, да и то…
– Да? А мы, по-вашему, кто? Не честные?
– Вы меня не так поняли.
– Я так поняла! И не надо мне тут!
Вздрюченная все-таки девица. И нюх у него на этот раз сработал не туда. Неуравновешенная, склонна к истерии, неуживчива. А говорили, что тихая и скромная. Тихоня, как же. Того гляди, царапаться начнет.
Надо же, какой дурбень. И как таким поручают? И вопросы дурацкие. А уж виду напустил. А самому даже неинтересно.
– Скажите, у нее был друг, жених – что-нибудь в этом роде?
– Ничего у нее здесь в этом роде не было.
– Она получала письма?
– Получала. У нее брат в Смоленске.
– У нее есть родители?
– Нет. Только брат, это она сама говорила.
– В ее вещах не оказалось ни писем, ни записной книжки.
– А их и не было. Она читала письма прямо на почте, и сразу рвала и выбрасывала. У нас же общежитие – любят коллективные просмотры устраивать. А записная книжка ей и совсем ни к чему, у нее память – сдвинуться можно, получше, чем у счетной машины. Она книги каким-то способом читала – за вечер вот по такому кирпичу.
– Может быть, Григорьева оставила записку?
– Не знаю. Вряд ли. Зачем?
– Иногда пишут, чтобы никого не винили, или указывают виновного, это намного упрощает.
– Вы считаете, что она должна была позаботиться об упрощении?
– Но кто-то виноват в происшедшем? Или кто-то другой, или сама Григорьева.
– Это перед кем же она виновата? – изумилась Санька.
– Ну, допустим, перед собой. Ее у вас любили?
– Ну да, любить человека, который в любую минуту может сказать, что ты вчера в десять ноль-ноль совершил подлость.
– Григорьева знала, что ее не любят? Переживала из-за этого?
– Ну, не очень-то мы были ей нужны.
– А она вам?
– А вот это другой вопрос. А что? Может быть, и нужна была. А то слишком легко все.
– Это плохо, что легко?
– А чего хорошего? Соси себе лапу и мурлыкай. Вот вам – трудно было школу кончить? Или в институт попасть? Ну, и мы – хоть в институт по конкурсу не прошли, но зато на комсомольской стройке – герои, в газетах пишут. Думаете, трудно – в героях? Не сильно надрываемся, культурно в героях живем.
– Это плохо, что культурно?
– А вы все свое…
– Она чем-нибудь болела?
– Никогда. Даже гриппом. У нас носы, как подушки, говорим по-французски, а она хоть бы хны. Спортсменка, по лыжам первый разряд. Да она самый здоровый человек на всей стройке!
– Здоровый человек – и такое. Не вяжется.
Санька пожала плечами:
– Бывает.
– Что – бывает? – подозрительно посмотрел следователь.
– Когда не вяжется.
– А серьезно вы можете? – взорвался он вдруг. – Я серьезный человек, понятно? И профессия у меня серьезная, ясно?
– Ах, ах. А я вот бетонщицей работаю, так прямо со смеху лопнуть можно.
– Фамилия, имя, отчество?
– Козлова Александра Федоровна… А зачем?
– Заполнить надо. Год рождения?
– Шестьдесят пятый. Образование среднее, беспартийная, научных трудов не имею, родни за границей нет.
– Спасибо, очень остроумно. В последние дни Григорьева была чем-нибудь расстроена?
– Не заметила. Нет, была, как всегда.
– Чем она занималась – вчера, позавчера?
– Порядок наводила. Чистюля была ужасная. Перестирала все, перегладила. Пуговицы, где оторвались, пришивала. Старую обувь выбросила. Членские взносы вчера заплатила. Я и брать не хотела, я с получки собираю, но она обязательно хотела заплатить. Я еще спросила: ты что, уезжать собираешься?
– И что?
– А она сказала: возможно… Вот! Она заранее! Заранее все обдумала, теперь я точно знаю! Она что – насмерть? Умерла?..
– К сожалению.
Санька ссутулилась, съежилась, завяла.
– Ну да. Понятно. Скучно ей стало. Всё это.
– Что – это? – уже с раздражением спросил следователь.
Санька снова вскинулась:
– А всё! Может же умному человеку стать скучно? Или вы считаете, что не может? Хорошо, что у меня в голове – так себе, а то взяла бы и вышагнула, а какой-нибудь допрашивал бы: было у меня в этом роде или не в этом?.. Послушайте, надо же брату сообщить!
– Пожалуйста, можете сообщить.
– Видали, какой хороший? Да как же мы сообщим, если адреса нет?
– Ну, этого я не знаю.
– Да он же в Смоленске, брат! Я вам точно! Григорьев Николай Иванович, проще пареной репы. Ну, чего смотрите? Запишите! У вас-то, надо полагать, записная книжка имеется? Город Смоленск, Николай Иванович Григорьев, как придете, так сразу и сообщите.
– Что сообщить? Куда?
– По своим каналам, объяснять вам, что ли? Пусть передадут, что сестра… Они же двое на всем белом свете… Ну? Сделаете?
– Да что вы мне указываете…
– Я не указываю, я прошу. Или даже требую, чтобы вы как человек!
– Прошу говорить со мной официально!
– Да сколько угодно!
– Она не была – ну, скажем, беременна?
– Чего? Тоже мне проблема в наше время.
– А любовь? А несчастная любовь в наше время возможна?
– Всё возможно.
– Но вы полагаете, что этого не было?
– Да я не знаю, каким нужно быть человеком, чтобы она полюбила, а во-вторых…
– А каким нужно быть человеком?
– А вам это интересно, да? Могу и сказать. Несчастным нужно быть. Или очень талантливым. А лучше – то и другое вместе. Вы можете быть несчастным? А талантливым можете? Непризнанным гением, а?
– А во-вторых?
– А во-вторых, как раз несчастной-то любви ей и не хватало.
– Почему вы так думаете?
– Я не думаю так. Я так чувствую.
– Значит, Григорьева не смогла найти непризнанного гения и поэтому… Это вяжется, по-вашему?
– Вы насчет несчастной любви заинтересовались – я ответила. Ну, а когда женщине любить некого… Тут уж вы ничего знать не можете, тут уж вам не дано. И для вас это не вяжется. А для некоторых не вяжется, если без любви жить. И вообще я с самого начала сказала, что ничего вы не поймете.
– Но должно же что-то относиться к этому случаю?
– А может быть, всё относится! Не понравились ей мы с вами, например, вот и не захотела она с нами на одной земле жить. Скучные, говорит, люди. Бабы матом кроют, мужики по три часа перед зеркалом сидят, бороду себе расчесывают, да на черта ли мне такая бодяга?.. Опять не вяжется? Ну, и черт с вами, надоело мне всё, слова больше не скажу…
* * *
Добирался Григорьев сначала самолетом, потом поездом с ночной пересадкой и, наконец, вышел в старозаветном районном городке, откуда нужно было километров сорок проехать на какой-нибудь из попутных машин, что тяжким несмолкаемым гулом возвещали о себе с восточной стороны. Городок хоть и был разбужен грохотом невероятной техники, взлохмачен пылью, но по-прежнему выпускал своих гусей и кур на проезжие улицы, которые теперь и на самом деле стали проезжими, птицам приходилось отскакивать, хлопая крыльями и роняя перья в смертном полете, от гигантских колес невиданных чудовищ, но, ошалело передохнув, они снова возвращались на излюбленные уличные выпасы, еще недавно сплошь покрытые лысоголовой аптечной ромашкой. Городок как-то разом одряхлел, дома и палисадники покрылись пылью, хозяева уже отчаялись свести серый налет со стекол, и окна смотрели на происходящее старчески незряче и покорно.
«Снесут скоро, – подумал Григорьев. – А может, и не снесут, а протянут по краям высокомерные многоэтажки, и устарелые домишки, еще недавно заботливо подновляемые, долго будут хиреть ни живые, ни мертвые, пока не вызреет в них новое поколение и не уйдет работать на стройку и не осядет там прочно, перетянув к себе и стариков, и лишь брошенные псы останутся стеречь не нужное хозяевам добро».
Дорогу можно было и не спрашивать, все здесь двигалось в одну сторону. Григорьев проголосовал, первая же машина подхватила его и понесла в сплошном облаке пыли к невидимой цели.
Часа через два выворачивающей внутренности езды, когда Григорьев то и дело норовил пробить теменем металлическую крышу свирепо рычащего КрАЗа, глазам открылось нечто огромное, смятое в белесый пространственный куб, занимающий нижнюю часть неба. Это было грандиозно, малопонятно и не то чтобы устрашало, а действовало цепеняще, казалось похожим на войну или стихийное бедствие. Природная низина, которую еще недавно вспахивали под пшеницу, до сих пор кое-где перечеркнутая узкими березовыми колками, в середине своей была разворочена, дыбилась отвалами земли, стрелами кранов, железной арматурой, стонала самосвалами и бульдозерами, ухала размеренными ударами пневмомолота, вгоняющего в раненую твердь спичечные сваи. В земное тело вживлялся ощеренный железными сетками бетон, медленно двигались редкие точки людей, не имеющих, казалось, никакого отношения к происходящему новому творению. Далекое летнее небо отмечало это взбунтовавшееся место комом поднятой на высоту пыли. Над низиной простирался исходящий из ее сердцевины вязкий, содрогающийся гул. Еще трудно было представить, что вырастет из этой вспашки через несколько лет, но увиденное поразило Григорьева дикарской дерзостью, отсутствием эстетического начала, упрямой мощью машин и сравнительно ничтожными усилиями людей. Сам инженер, Григорьев впервые мог обозреть сосредоточенное напряжение нулевого цикла строительства. Его охватило чувство беспокойства, истоки которого были неотчетливы, но касались вроде бы этих крохотных темных точек, неспоро двигающихся по котловине, касались сонного и одуревшего от неожиданного пробуждения городка, из которого он недавно выехал, и даже его, инженера Григорьева, тоже чем-то касались.
– Ну, и как? – остановив машину на повороте к сияющему побелкой жилому комплексу и впервые заговорив за всю дорогу, спросил шофер. Григорьев взглянул на него, а шофер указал подбородком на многокилометровый строительный простор. – Знай наших! Ну, бывай, паря, не кашляй…
И он лихо рванул свое утробно ревущее чудовище к разъезженному спуску в котлован.
Этот человек гордился стройкой и был определенно приятен Григорьеву. И Григорьеву вдруг захотелось догнать его и спросить: а тебе будет лучше? Ты построишь это самое большое в мире техническое чудо, но станет ли лучше от этого тебе, симпатичному белобрысому парню? И станет ли лучше мне, Григорьеву, от этих усилий?
Но содрогающий землю оранжевый КрАЗ уже скрылся в густой пыли, и больше никого не оказалось рядом, чтобы выслушать наивные вопросы задумавшегося у обочины человека, который все смотрел и смотрел вниз, в клубящееся, ухающее, в гул и шорох, в крохотные, бессильные голоса невидимых почти людей, в тяжкие развороты механизмов, в замешиваемое этой минутой будущее, смотрел и продлевал свою неконкретную тревогу, чтобы еще на минуту, еще на миг отодвинуть свою реальную боль, которая стояла и ждала, и взяла наконец его за руку и за сердце и повела вверх, к жилому городку, так хорошо расположенному по отлогому склону, где рядом со свежими пятиэтажками взбиралась к небу березовая роща.
Он еще пытался не верить, предполагал, что, может быть, ошибка, бывают же ошибки, но снова и снова вспоминался вежливый участковый милиционер у себя там, в Смоленске, и надежда в очередной раз таяла, заново обдавая его пронзительным и жарким холодом.
Дома уже были рядом, но Григорьев струсил еще раз и свернул в березовую рощу, и вышагивал там от ствола к стволу, натыкаясь на пустые консервные банки и бутылки из-под питья. «Надо, – убеждал он себя, – надо, все равно ведь надо». Однако заторопился к домам только тогда, когда заметил, что к котловине потянулся народ на вторую смену.
В общежитие его не пустили, сказали, что в той комнате нет никого, все на работе, вот смена кончится, тогда и придут, недолго уже.
Людские ручейки вниз иссякли, стала надвигаться, напирать людская волна снизу. Григорьев маячил около общежития, бесцельно пробегая взглядом по лицам, корил себя за что-то неопределенное, морщился и медлил. К нему, неуверенно от всех отделившись, то и дело останавливаясь и разглядывая его, направилась девушка.
«Чего ей, ну, чего ей», – подумал Григорьев, испытывая желание убежать и скрыться, пропасть в какой-нибудь темноте, чтобы на него не смотрели и с ним не говорили. Но девушка все-таки приблизилась.
– Григорьев?
– Да, да!. – сразу же обрадовался он. – А вы… вы?
Девушка опустила голову, искоса разглядывая что-то в стороне. Прозвучало виноватое и тихое:
– Мы вместе… В одной комнате.
– Да, да, понимаю, – торопливо отозвался Григорьев. – Хорошо, что вы подошли. Да, да, а то меня не пускали, и вот я ждал. Господи, да, да…
– Вы не волнуйтесь, – сказала девушка разумно и участливо. – Что же теперь.
– Да, да, – кивнул он, – теперь что ж… Как вас зовут?
– Александра, – сказала девушка, и он дернулся всем телом. – Вот видите как – тоже Александра.
– Да, да, извините, я ничего. Как это… Как всё это?..
Она сострадательно смотрела и кивала, и он, видя ее печальное лицо, уже совсем бесповоротно понял, что все это правда, что обманывать себя с этой минуты бесполезно, надо остановиться и принять случившееся.
– Пойдемте, Николай Иванович, день хороший, походим, – позвала Санька, стараясь дать время, чтобы он привык. – Лучше, чем дома, пойдемте…
Григорьев охотно подчинился осторожному, успокаивающему голосу, послушно пошел рядом, а Санька стала говорить о его сестре, о том, каким она была особенным человеком, независимым и прямым и не всегда для них, обычных людей, понятным, но теперь-то уж все ее оценили как надо и сожалеют, что не стремились жить так, как жила она, – не напоказ, не замороченно, а без суеты и пустословия.
Санькины слова были добрые и проникающие, Сандра вставала перед ним живая, но с неким ореолом, который ему не пришло бы в голову заметить самому, и Григорьев стал упрекать себя за то, что редко ей писал, и хотя любил нежно как единственного родного человека, но мало вникал в ее жизнь и интересы, а теперь вот не повиниться и не оправдаться. И мысль, что он теперь один, обдала его в этот летний день замогильной стынью. Он остановился, напрочь этой мыслью потрясенный, представил себе великое множество всяких иных людей по стране, но себя среди них – одного, молчаливого, толкаемого, с другой, чем у всех, кровью, разносящей по его телу тоску по родичам, которую из всех миллионов живущих не мог теперь утолить ни один человек. И эта прерванная связь между ним и его родом, который всегда был, существовал многие тысячелетия и вдруг к сегодняшнему дню сузился до иголочного острия, до лишь его, Григорьева, существования, то есть, собственно говоря, потерялся полностью, – эта исчезнувшая опора подкосила его, и он понял, что один ничего не сможет, что обречен, и уже не имеет значения, когда именно он станет тленом – чуть позже или в эту минуту.
Санька, замерев, смотрела в белое лицо Григорьева, страшилась далее мигнуть, боясь этим малым движением толкнуть человека к конечной гибели, ибо видела, что человек перед ней быстро умирает, а она не знает, чем преградить этому умиранию свободный путь, и, отчаявшись, затормошила Григорьева и заговорила слова, не доходящие до его сознания.
– Тело… тело… – пробилось в Григорьева сквозь сторонний гул что-то отчасти понятное.
– Какое тело? – с трудом спросил Григорьев.
– Не видели тело… Посмотреть тело… Убрать тело… – назойливо повторял плачущий женский голос.
– Да, да… Простите… – пробормотал Григорьев, частично возвращаясь в себя.
– Ох… – передохнула Санька. – Ох, и напугали вы меня!
И она заплакала от радости, а еще от страха, потому что догадалась и начала понимать свою судьбу в этом человеке.
– Да что вы… Ну, что вы? – спрашивал Григорьев и уговаривал как мог: – Я же не плачу, а вы зачем?
Санька сквозь слезы улыбалась:
– А вам и не надо, это мне плакать придется, а вам это ни к чему…
Он не понял ее, а Санька в эту минуту узнала, что он долго не будет ее понимать, а может быть, и никогда не поймет, но темная дорога не удручила ее и не оттолкнула. Санька вздохнула и приготовилась идти, покуда будут силы.
* * *
Санька привела Григорьева к больничному зданию, занявшему поляну на отшибе, сказала, что подождет, и опустилась на ребристую скамейку перед тощей клумбой.
Она сидела притихшая, испуганная и ничему не верила, то есть в первую очередь не верила себе, словно все вокруг сон или кино, а в действительности никакого Григорьева нет. То есть, он где-то существует, но не такой, каким был тут, а некий другой, который, может, и появится сейчас из этой двери, но она его не узнает и будет всю жизнь чахнуть от несвершившегося.
Санька сидела, а Григорьев все не шел, и можно было уже начинать плакать и отчаиваться, но ей вдруг вообразилось, что Григорьева там, за этими ослепительными белеными стенами, притесняют и обижают и что он тот самый, которого нужно защитить, и сделать это может только она. И она ринулась на выручку.
– Где тут – такой? – сделав сложное зигзагообразное движение рукой, спросила Санька у дежурной.
Дежурная мгновенно ее поняла, указала в прохладную даль коридора и сообщила приниженным голосом:
– У главврача…
Без стука войдя в кабинет главного врача, Санька услышала:
– …мы обязаны чтить! Стыдно, молодой человек! Чтобы молодая девица, двадцати лет, комсомолка… Это возмутительно!
Полная, вполне приятная женщина лет тридцати, в туго обтягивающем накрахмаленном халате, надменно вскинув маленькую голову, отчитывала Григорьева:
– Неслыханно, да! Новый город, стройка, место в общежитии, впереди будущее, да, да, будущее, молодой человек! А что у нее? Амурные дела? А вы знаете, что у меня план? У меня и больных-то нет, а вы мне – смертный случай! Первый смертный случай в этой больнице! Вы это можете понять, молодой человек?
Молодой человек, такого же, в общем, возраста, что и накрахмаленная хозяйка стерильного кабинета, и в самом деле смотрел без понимания.
Санька зловеще двинулась вперед.
– Чего это ты к нему пристала? – вопросила она неожиданно блатным голосом. Главный врач замолкла и развернулась туго накрахмаленным бюстом в сторону нового явления. – Чего пристала?.. У человека горе, а ты тут чего? Тоже мне лекарь! Чего ты ему нотации читаешь, дура?
– Да как вы смеете?.. – задохнулась главный врач. – Выйдете из моего… Сию же минуту освободите помещение!
– Я тебе сейчас освобожу помещение, халда ты этакая! – обмирая от собственных слов и при этом считая себя совершенно правой, еще ближе придвинулась Санька, готовая хоть в милицию, хоть в тюрьму за свою дерзость. «И пусть, пусть в милицию, я им и там все скажу, а еще клятву, небось, после окончания медицинского давала, а сейчас и прикончит, лишь бы вежливо, я ей сейчас выдам вежливость, я ей прочитаю лекцию на моральную тему!» – Перебью сейчас все к черту, если как человек не станешь!
Главный врач какое-то время продолжала смотреть на приготовившуюся к разрушению Саньку, хотела пронять огненным взором, но Санька не пронялась, а сказала:
– Чтобы в следующий раз думала, прежде чем на нормальных людей свои праведные гнусности лить!
Главный врач уяснила, что погрома можно избежать, и повернулась к бедному, молчаливому Григорьеву и совершенно ровным голосом произнесла:
– Так вы хотите забрать труп?
И слово «труп» получилось у нее особо выпяченным, большим и почти сладостным.
– Вам что, нравится, когда людям больно? – изумленно спросила Санька.
Григорьев опустил глаза.
– Так что же? – игнорируя Саньку, спросила главный врач.
– Я хотел… Я взглянуть… – невнятно пробормотал Григорьев.
– Там не на что смотреть, уверяю вас, – сказала главный врач и, уловив агрессивное движение со стороны Саньки, с некоторой поспешностью добавила: – Как я поняла, вы отказываетесь хоронить?
– Как – отказываюсь? – потрясенно взглянул на нее Григорьев.
– Вы привезли гроб?
– Гроб? – Григорьев растерянно оглянулся на Саньку. Та на этот раз молчала. – Ну да, ведь нужен гроб…
– Представьте себе, – с сарказмом заметила главный врач, – покойников обычно кладут в гроб.
– Ты чего же это, а? – опять полезла Санька. – Ты почему не понимаешь ничего?..
– Ну, вот что, молодые люди, – повернулась к ним спиной главный врач, – у вас эмоции, а у меня дела. Мой рабочий день окончен. Если вы забираете труп, я дам распоряжение. Если нет, то займитесь более насущными вопросами, как-то: гроб, одежда и прочее. Советую поторопиться, сейчас лето.
– Простите… А где это… заказать? – как-то виновато спросил Григорьев.
– В похоронном бюро, я полагаю. Не смею вас больше задерживать…
И главный врач стала снимать хрусткий коробящийся халат. Григорьев снова опустил глаза, а Саньке очень захотелось на халат плюнуть.
– Пойдемте, Сашенька, – предупреждающе позвал Григорьев, и Санька незаметно для себя оказалась в коридоре.
Когда они вышли из гулких, необжитых больничных коридоров в солнечный день, Санька зашипела:
– Похоронное бюро, похоронное бюро… Кто его здесь строил, твое похоронное бюро!
– Что вы хотите сказать? – остановился Григорьев.
– А то! Нету его здесь, вот что! – И добавила тише, увидев на лице Григорьева нарастающее томительное недоумение, перехватив его взгляд назад, в сторону больницы, и вниз, в сторону стройки: – Это в район надо, здесь нет такого ничего…
– А-а, в район… Ну, значит, в район!
И как-то неопределенно махнув рукой и ничего не сказав Саньке, Григорьев заторопился к знакомой уже, громыхающей дороге.
* * *
Это была третья смерть в его жизни.
Первым умер отец, давно, сестре тогда едва исполнился год, а Григорьев пошел в пятый класс. Он едва начал свыкаться с тем, что этот, отдаленный расстоянием от последней парты до классной доски человек, весело рассказывающий про извержения вулканов или о белых медведях на Новой Земле и бодро лепящий единицы в классный журнал, и тот домашний, ежедневный, в смятых шлепанцах и овчинной телогрее, по ночам потихоньку, чтобы не разбудить сына, стонущий от давних ран в груди и ногах, есть один и тот же человек, его отец, как вдруг этого человека вообще не стало. Утром был, влепил здоровенную двойку за то, что сын упорно искал Альпы в районе Тибета, а вечером в доме всхлипывали и с бесшумной деловитостью сновали женщины, а мать потерянно сидела в дальнем углу. Григорьева больше всего терзала двойка. То есть он ее исправит, но как узнает об этом отец?








