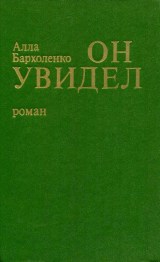
Текст книги "Он увидел"
Автор книги: Авигея Бархоленко
Жанр:
Драматургия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
Григорьев с галантной улыбкой, начавшейся у него еще в Смоленске, вручил тетушке пук свеженьких бессмертников, за которыми они с Санькой гонялись на такси по всем московским рынкам и которые теперь стоили дороже, чем черные тюльпаны, доставленные самолетом из Голландии. Тетушка этому венику хмыкнула совсем по-григорьевски – значит, это у них фамильное, интересно бы знать, кто впервые в их роду так хмыкнул и над чем. Бессмертники тетушку с молодым поколением примирили, но за порог она все равно их не пустила, а всучила Григорьеву чемодан с наклейками, а у Саньки забрала Константина Петровича, радостно чмокнула петушиного короля в гребешок и распорядилась:
– Двинули!
И они снова оказались на вокзале, где Евдокия Изотовна торжественно заявила:
– Я тоже хочу посетить родные места!
Григорьев кивнул, будто и не ожидал другого.
– Так вот, дети мои, – продолжала тетушка, – в Воронеже, а точнее – около него, я выяснила следующее: твоя деревня, Николя, называлась пятнадцать лет назад Житово, а фамилия твоего деда по матери – Капустин.
– Почему же деда? – обеспокоился Григорьев. – Мне нужно было – матери.
– Молодые люди! – взметнула ручками в белых перчатках тетушка. – Дед по матери – это значит отец твоей матери! В таком случае твоя мать, естественно, носила до замужества фамилию твоего деда!
– Капустина? – проговорил Григорьев, не обращая внимания на тетушкин сарказм. – Мария Кузьминична Капустина из деревни Житово…
– Что, не совсем по-княжески? – поинтересовалась Евдокия Изотовна.
Григорьев взглянул на тетушку довольно хмуро и промолчал.
– Ну, ну, Николя, – засмеялась Евдокия Изотовна, – стоит ли из-за этого меня ненавидеть? Наш с вами общий предок, мой прадед, а ваш, соответственно, прапрадед, носил фамилию Забледяев. Чего только не узнаешь о себе, дожив до семидесяти! А папа товарища Забледяева полжизни провел на каторге. Жаль, не смогла выяснить, за что.
Григорьев смотрел-смотрел на тетушку в белых перчатках и стал похохатывать и пофыркивать, а когда смеху внутри накопилось сверх критической точки, взорвался таким жизнерадостным ржаньем, что заглушил тысячный гомон в зале ожидания.
А Санька очень заинтересовалась:
– Каторжник? Тогда это он.
– Что – он? – спросили Григорьев и тетушка в один голос.
– Это он начал хмыкать, как вы.
Григорьев и Евдокия Изотовна помедлили, осмысливая. А когда дошло, хмыкнули разом и посмотрели на Саньку с удовольствием.
– А что, Николя, – хитро сказала тетушка. – Эта девочка с юмором, с ней можно иметь дело.
– Евдокия Изотовна, а у вас есть дети? – вдруг спросил Григорьев. – Они для меня троюродные – я правильно разобрался?
– А, да, да. Ну, как же, как же, – скороговоркой ответила Евдокия Изотовна. – Мой сын с семьей в торгпредстве в Японии. Дочь двенадцать лет назад умерла от рака. Вот, собственно…
Недавняя улыбка еще медлила у нее на губах, а глаза мигали часто, изгоняя что-то непрошеное, застрявшее у зрачка. Тетушка как бы покачивалась перед Григорьевым, склоняясь то в сторону застигнутой врасплох и не успевшей спрятаться горечи, то в сторону неувядающей насмешки над собой, в которой, возможно, и был секрет ее молодой бодрости.
Изгнано, изгнано было непрошеное, застрявшее у зрачка. Тетушка легко стояла перед Григорьевым и взирала на него с благожелательной улыбкой.
Григорьев наклонился и поцеловал Евдокии Изотовне руку.
– Простите… – пробормотал он. – Простите… Я за чемоданом.
Евдокия Изотовна проводила его внимательным взглядом и покачала головой.
– Вы, Сашенька, тяжелый крест выбрали себе, – сказала она. – У бедного Николя слишком низкий порог чувствительности, его захлестывает даже мелкая волна. Может быть, такие натуры интереснее, но ведь вам придется выполнять роль громоотвода.
– Я знаю, – кивнула Санька и тут же пожалела, что сказала так, будто наябедничала на Григорьева.
– Ну, и сильно потряхивает? – усмехнулась тетушка.
На этот вопрос Санька только улыбнулась вежливой улыбкой. Евдокия Изотовна тут же переменила разговор, принялась рассказывать о поездке в Воронеж.
Той безногой знакомой, Антонины Викторовны Голубевой, по адресу не оказалось. Не лишенные приятности мужчина и женщина в ответ на расспросы пожимали плечами, повторяли, что куда-то уехала, а куда – они не знают, у Антонины Викторовны так много знакомых и такая обширная общественная деятельность, что она может оказаться в Полтаве и Барнауле в один день. Что-то в Полтаве и Барнауле Евдокии Изотовне не понравилось, и она, мило извинившись за причиненное беспокойство, спустилась лифтом вниз и внизу услышала, что квартира, у которой она только что разговаривала, закрылась лишь после того, как хлопнула, выпуская Евдокию Изотовну, дверь лифта.
Ну уж, извините. Евдокия Изотовна свернула в скверик около дома, где выгуливали малышей бабушки, села со всеми, похвалила карапузов, поинтересовалась семьями, записала два рецепта печенья и без труда узнала, что Антонину Викторовну Голубеву сынок с невесткой поместили в дом престарелых.
– Вот ведь детки-то, вот ведь нынче как, а квартира-то четырехкомнатная, Антонина Викторовна и получала, как персональной пенсионерке исполком выделил, а им, видишь ли, тесно стало, своих детей переженили, раздельные комнаты потребовались. Антонина Викторовна что, ей во второй раз намекать не надо, всю жизнь для других жила, сама же в престарелый дом и попросилась, чтобы, дескать, не сходя с места общественной работой заниматься. Бабушки покачивали колясочки и с недоверием поглядывали под кружева.
– Вот так-то нянчишь, нянчишь и что выходит? Брак, подруги, брак выходит, а отчего?..
Адрес дома престарелых и как туда проехать бабушки подробно растолковали и просили, чтоб Евдокия Изотовна на обратном пути не посчитала за труд, заглянула бы сюда и все подробно рассказала.
Едва Евдокия Изотовна прошла за высокую ограду, как увидела Антонину Викторовну, собиравшую с расстеленных под яблоней одеял крупные яблоки. Антонина Викторовна осторожно брала каждое в руки и аккуратно складывала плоды в плетеный короб. Поодаль стояли другие, уже полные короба, и Евдокия Изотовна подумала, что плели их, наверно, тут же. В саду, или, лучше сказать, парке стояло несколько двухэтажных домиков и по песчаным дорожкам между ними невесомо передвигались светлые старики.
Евдокия Изотовна в ту минуту ощутила мировую печаль и от нее заплакала, а Антонина Викторовна Голубева подняла голову, выпрямилась, узнала Евдокию Изотовну и улыбнулась.
Евдокия Изотовна прожила в пустой комнате для приезжих больше недели и теперь считает, что это была одна из самых богатых впечатлениями недель в ее жизни. Но расскажет она об этом как-нибудь в другой раз. Или напишет книгу, первую и последнюю, единственную книгу, какую ей хотелось бы написать – о людях, ставших стариками. «Вы представить не можете, что это такое, Сашенька. И никто не может представить. Никто, пока не закончится его бодрое время».
У Евдокии Изотовны дрожали руки. Она заметила это и нашла им дело – заставила взять кинутый на чье-то сиденье журнал, полный молодых, счастливых лиц.
– Просила Антонина Викторовна черемуху выкопать и привезти ей, и поклониться Житову и рассказать, – проговорила Евдокия Изотовна, спокойно опуская журнал на место. – Но я бы и без того с вами поехала, любопытно через столько лет взглянуть на давние места. А ваша родина где, Сашенька?
– У меня нет родины, – сказала Санька. – Я городская.
– Да мы все городские, – возразила Евдокия Изотовна. – И Николя тоже.
– Не знаю, – сказала Санька. – У Николая Ивановича тоска, это, может быть, заменяет.
– Что заменяет?
– Родину. Но, наверно, такая тоска рождается с первой могилой. Не знаю, у меня еще не было могил.
– Как ты говоришь, девочка, бог с тобой! – воскликнула Евдокия Изотовна и почти испуганно уставилась на Саньку.
Вскоре появился Григорьев с портфелем и с новым желтым чемоданчиком. Они направились к вагону и выглядели дружным семейным трио, правда – с некоторым прискоком, на них даже в посадочной суматохе пялились, и совсем не из-за петуха, которого сейчас и не видно было вовсе, а из-за чего-то совсем другого, что их выделяло и отличало, и Санька никак не могла понять, какой же такой необщей печатью они отмечены.
– Дети, мы имеем успех, – бормотнула тетушка, стараясь не опережать желтый чемодан, но и не слишком видеть его. – Мне это нравится, но не очень.
«Или дело в том, – подумала Санька, – что они исполняют другие, чем у большинства, роли? Они не отягощены заботой о преуспеянии, не ограничены скрипящей на сочленениях накипью семейных отношений, они чужие, но они вместе, их объединили не обязательность, не равнодушие, а их собственный выбор, они не тянут авосек с колбасой и детскими колготками, они оторвались от насущных забот и тем поставили себя вне круга остальных, и остальные почти инстинктивно замечают это и, наверно, хотели бы знать, как это кому-то удается».
А Григорьев в это время забыл и о тетушке, и о Саньке, Григорьев прислушивался к нарождающемуся внутри неуверенному волнению, которое рисовало перед ним дорогу с тихим вечерним светом в конце, и что-то жаркое и томительное стало зажимать и захватывать его сердце, и от этого захотелось лететь, встретить ликующим шумом крыльев воздух гнездовья, и снизиться, припасть, распластаться по той единственной земле, чей зов доносился за тысячи километров, и Григорьев был уже там, в прозрачном вечернем свете и тишине, и отрадно погружался в земную твердь, и тело его раскрылось и зацвело, и это было, наконец, то счастье, которое он не отверг.
Проводница потребовала у него билеты.
* * *
Через несколько часов они, возбужденные и нетерпеливые, погрузились в такси. Шофер, рыжеватый парень с большим носом, никакого такого Житова не знал, Евдокия Изотовна назвала более близкие ориентиры, но парень все чего-то сомневался.
– Да что вы, мон шер! – рассердилась наконец Евдокия Изотовна. – Не в пустыню едем, спросим где-нибудь, раз вы такой недоверчивый!
– Далеко, – вздохнул шофер, все не трогаясь с места.
– Ну, и что? – все не могла понять Евдокия Изотовна.
– Так обратного-то пассажира где я возьму? – недовольно сказал носатый шофер. – Сотню километров за здорово живешь?
– Так вы бы раньше сказали, голубчик! – очень огорчилась тетушка. – Мы бы прямо из Москвы обратного пассажира прихватили, там их навалом таких, которые обратно хотят!
Шофер покосился на тетушку и взял с места.
Пока таксист петлял на выезде из города, мелочно удлиняя себе путь, Санька вертелась от окна к окну, провожая взглядом возникающие на холмах и уплывающие вспять церкви, непривычно маленькие и как бы домашние, выраставшие, казалось, из огородов и лопухов, а когда наконец выехали на суздальскую дорогу, так и смотрела назад, на покачивающиеся от движения валы древнего города, и Григорьев видел сбоку, как напряженно хмурились ее брови, не в силах помочь отсутствующему воспоминанию.
– Стойте! – сказал он шоферу. Тот резко принял в сторону и испуганно оглянулся. – Назад! – проговорил Григорьев и добавил: – Пожалуйста…
Назад так назад, водителю что, но «пожалуйста» вызвало сопротивление, немужское словечко, вози тут слабаков, и таксист недовольно осведомился:
– Зачем это?
– Голубчик, – вклинилась тетушка, – предположите для себя самое приятное – что мы хотим увеличить ваш доход.
Шоферское ухо налилось краской, и парень со скрежетом развернул машину.
«Странно, – подумал Григорьев, – второе ухо у него совершенно белое».
– Ты прав, Николя, – проговорила тетушка, придерживая в сумке встревожившегося Константина Петровича. – Мы все время спешим и полагаем, что это нас оправдывает. Голубчик, – обратилась она к шоферу, – вы можете показать нам свой город по своему усмотрению.
– Я не здешний, – буркнул шофер.
– Ну, это вы напрасно, – возразила тетушка. – Мы все в определенном смысле здешние.
– Это вам, может, в первый раз, а мне в тысячный! Надоело, каждый день одно: Золотые ворота, Козлов вал, Детинец, Страшный суд… Ну, чего за обломки цепляться?
– Сам ты обломок! – воззрилась в затылок парню Санька.
Парень дернул шеей, будто хотел из-под взгляда выбраться, машина под его рукой вильнула, но возражения не поступило.
Пошли явно на недозволенной скорости, вжимало то в один борт, то в другой. И вдруг зазвучал спокойный голос Евдокии Изотовны, начавшей вспоминать прежний Владимир. Тетушка нашла, что город не так уж и изменился, и слава богу, и хорошо, что новые районы в стороне, но все равно мы слишком варварски относимся к прошлому, и подумать только, что все это древнее Москвы, что вся русская предыстория неистовствовала на этих холмах. И Евдокия Изотовна, поглаживая петуха, стала рассказывать о монастырях и фресках, о княжеской вражде и клятвопреступлениях, о пленении и разоре Киева, о предательском; убийстве Андрея Боголюбского, о великих пожарах при Всеволоде, когда погибло более тридцати каменных церквей с сокровищами и книгами, о взятии Владимира Батыем, о подожжении татарами Соборной церкви, где затворился народ, о многой крови и разорении…
Таксист упорствовал и гнал, не объезжая ухабов, всех кидало и подбрасывало, но голос тетушки был печально-спокоен, а Григорьев и Санька слушали молча, и шофер увидел в зеркале отражение их темных лиц и понял, что может делать хоть что, хоть сверзнуть машину с обрыва, но за спиной его не прекратится ясный голос старухи и непонятная, молчаливая сила других. И он сдался, прижал машину к тротуару и выскочил, сделав вид, что возникла срочная необходимость в магазине.
Теперь помолчали вместе. Тетушка вздохнула и проговорила:
– Я отдохну, пожалуй, а вы сходите – вон по той улице…
Они вылезли и пошли не спрашивая.
Соборная площадь, отлученная от автомобильной цивилизации, со случайными туристскими группами и одиночками, которые не знали, что тут нужно делать и кем казаться, предстала раздетой и как бы неприличной, как полонянка на опустелом торге, которую никто не захотел взять в наложницы. Запоздалые покупатели обегали тело собора равнодушным взглядом и недоумевали, зачем его кому-то предлагают, если это ни у кого не вызывает вожделения. У гидов, в остальные дни заполнявших чувственные бреши тренированно-хозяйскими голосами, был выходной, и туристы, отбывая тягучие минуты перед недоступной Историей, исподтишка переглядывались, не решаясь на преждевременно открытое разочарование и уговаривая себя на дальнейшее культурное обогащение, и скрыто надеялись на какое-нибудь постороннее оживление.
– Византия… Икона Владимирской богоматери… Рублев… Русский ренессанс… – бойко затараторил уверенный девичий голосок.
Шеи с любопытством вытянулись: цена предлагаемого товара пошла в гору.
– Роспись собора, которая неоднократно утрачивалась при пожарах, в 1408 году возобновили Андрей Рублев и Даниил Черный, – быстро сыпал нерусский голос, уверенно переваривший чужую память. – Иконы главного ряда иконостаса, представлявшие «деисусный чин», были высотой в три целых и четырнадцать сотых метра… Самый грандиозный иконостас пятнадцатого века… Выражал в живописном и архитектурном синтезе догматическую и церковно-политическую концепцию русского средневековья…
Голосок сунулся в закрытые врата портала. Из зажатой темноты вышел кто-то похожий на сторожа и молчаливо выслушал громкую просьбу впустить прибывших для полновесного ознакомления. Сторож молчаливо качнул головой, не соглашаясь.
– А мы скинемся, – уверенно и все так же громко, ни из чего не делая тайны и приглашая прочих к присоединению, оповестил все тот же голос.
Сопутствующие полезли по карманам, отсчитали легковесную мелочь. Чья-то ладонь протянула собранное в тень портала.
– Сие храм… – тихо возразил страж.
Кто-то из прочих шагнул ближе и протянул дензнак красного достоинства. Григорьев напрягся и опустил глаза, ожидая позора. Но врата скрипнули, затворяясь.
Кучка, предводительствуемая несомневающимся голосом, без сожаления передвинулась по маршруту дальше.
– Галереи… Аспиды… Закомары… Композиция… – не затухало в пустоте и прочем молчании.
Григорьев и Санька продолжали стоять перед входом, угнетаясь навязываемым ненужным знанием и желая отъединения от внешнего существования.
Бесшумно явился портальный страж и, оттянув тяжелую дверь, сказал им:
– Войдите.
Взгляд прикоснулся к взгляду и не встретил преграды. Они проникли друг в друга и восприняли необходимое для дальнейшей минуты, которое не вызвало раздражения и оказалось пригодным для доверия.
Впустивший остался на границе между выжидающим внутренним сумраком и пустынным светом несовпадающей жизни.
Гулко звучали, возносясь ввысь нищим подаянием забытому богу, их одинокие шаги. Они остановились, смутно ощутив в себе всеобщую вину, и посмотрели наверх. В далеком свете простертого над ними свода мешалось нерастаявшее слоение ладана. Суженная высота даровала полет, но они стыдливо отвернулись от парящей под куполом фигуры.
От алтаря единым мощным ударом проникло в них звучание застывшего иконостаса. Они не захотели рассматривать подробности, чтобы не разрушить в себе прозвучавший для них единый аккорд, рожденный живописью поколений, и обозрели внятную тишину собора. Тишина была живой и вопрошала следами тех, кто был здесь ранее, кто здесь молился, благодарил, горел в пламени, захлебывался в крови своих умерщвляемых детей и кто, отторгнутый, молчал в убывающей надежде.
В них не нашлось ответа.
Не интересуясь частностями, и без них переполненные, они направились к выходу. Но, пройдя арку, оглянулись и остановились снова.
На арочных полукружиях, зовя на суд, трубили нежные ангелы. Миг перед прикосновением чистой стопы к грешной тверди, миг перед воскресением мертвых, которого ужасались все жившие. Но не страх, а милость и свет исходили от их облика и тонких труб, и отсвет предстоящей гармонии одухотворял их лица. Не конец света, а его начало, простершаяся из веков надежда на справедливость.
«Не Страшный суд, нет! – подумал Григорьев. – А суд Прекрасный, необходимый каждому и всем. Не для богов воздвигались храмы, а для человека. Для сосредоточения и покаяния, и неизбежного очищения. И не убояться, а захотеть Суда, совершить его и воскреснуть…»
– Спасибо, – сказали они человеку у портала. Человек был в поношенном пиджаке, лицо его было многолетне-терпеливо. – Вы почему-то впустили нас… Спасибо.
Привратник ответил:
– Вы не торговали в храме.
Они присоединились к направлению редких посетителей. За углом открылся Димитриевский собор, зрителей около него оказалось погуще, рассматривали пояс каменной резьбы по наружной стороне стен. Звериные головы, лики чудовищ и людские личины, плоды и цветы – фантазия художников не истощалась, вела, пренебрегая повторениями, от пилястры к пилястре. Внутренность собора была закрыта, но оттуда доносилось что-то неопределенно живое – то ли голоса, то ли стук. Люди, непонятные созерцающим, что-то делали взаперти, и осторожные звуки изнутри говорили о долгой целеустремленной работе. Мелькнуло слово «реставрация», и опять нашелся знающий, который сообщил о XII веке, о Дмитрии Донском и Николае I.
Теперешнее сокрытое движение за стенами произвело на Григорьева особое впечатление, будто храм не восстанавливался из забвения, а именно сейчас изначально строился, и там, внутри, присутствуют те самые мастера, которые резали из удобного белого камня языческие нестрашные морды, любили солнце и высь и вливали свою жизнь в благодарный камень, который в ответном упорстве продлит эту жизнь на века.
Из-за угла грянул внезапный металлический рок. Храм вобрал в себя забытые столетия и покорно прорезал стену давней трещиной.
Григорьев шагнул за угол. Там веселились брючные люди. На земле стоял магнитофон, кто-то отделившийся крутил киноаппарат, остальные выламывались в ненатуральной пляске. Тот, кто снимал, присел на корточки, потом, жертвуя заграничными штанами и голым пупком, лег на живот, чтобы запечатлеть культурный отдых на фоне варварских каменных харь и ажурного медного креста на единственном куполе.
Санька рванулась к Григорьеву поздно, он уже наступил на магнитофон. Рок металлически достоверно скрежетнул и оборвался. Лишившись заменяющего жизнь звука, культурно отдыхающие обездвижели, застыв вывернутыми без смысла формами.
Пребывавший оператором, метнув взгляд, на раздавленный не его аппарат, крикнул «снимаю!» и, парализовав неначавшееся движение, продолжал плотоядно жужжать пленкой.
Санька тянула Григорьева прочь, а он пытался вырвать от нее свою руку и оглядывался в нарастающем недоумении, не слыша за собой кликов возмездия.
Она отпустила его, он развернулся и пошел навстречу слипающейся толпе, в которой от его приближения азарт погони замедлился. Вперед выбежал киноснимающий.
Он им мешал, свой и напрасно одетый в фирму, они умно сообразили, что и общее избиение будет увековечено, и, похоже, обозлились на него больше, чем на Григорьева. Только красивая девочка, с льняными волосами до пояса, которые недавно перечеркивали портал и амбразуры окон, яростно звала к отмщению, ибо потеряла собственность. Она не сомневалась, что красива и сейчас, и безбоязненно позволяла себя снимать. У кинопарня было хищное лицо Созидающего. Остальные стояли разнополой вратарской стенкой, готовой пропустить мяч.
Григорьев прислушался и уловил из собора терпеливый стук молотка.
– Может быть, ты мастер? – спросил он у парня.
Глаз объектива оторвался от глаз человека.
И опять двое смотрели друг на друга.
Кинопарень отвернулся прежде, чем осознал это.
– Чокнутый, братва! На хрен связываться – себе дороже…
Кто-то скрыто метнул неуверенный взгляд на дальние купола.
В грехе рождающийся мастер схватился за камеру.
Тихий шофер встретил отсутствующих безропотно и взял с места интеллигентно, будто вез родню.
Они молчали, осторожно привыкая к своему прошлому, чувствуя себя не слишком удобно в малопочетной роли потомков, где-то незаметно спустивших наследство.
– А сейчас здесь тихо, как во сне, – проговорила Санька.
Григорьев смотрел на дорогу с разноцветными машинами туристов, с комфортабельными автобусами, с голоногими велосипедистами с фотоаппаратами на груди и ощущал нарастающую пустынность в душе и неясную, ноющую, как начинающаяся зубная боль, неудовлетворенность.
Впрочем, когда они миновали Суздаль, и многочисленные, как саранча, туристы, жаждавшие запечатлеть себя на фоне захоронений и впитавших предсмертные вопли стен, остались позади, Григорьев смог забыть о себе и просто смотрел на расстилавшуюся впереди землю, за каждым распадком все более туманную и бледную, касающуюся вдали мутных небес, – смог смотреть и ни о чем не думать.
Перед маленькой деревушкой у поворота на проселок шофер остановился и сказал:
– Всё!
– Позвольте, я извиняюсь! Что значит всё, молодой человек?
– По такой дороге не могу, – не поднимая глаз, сказал парень. – Тут дождь шел.
– Но нам еще пять километров! – настаивала Евдокия Изотовна.
– А застряну? Кто тут меня вытаскивать будет?
– Ладно, – сказал Григорьев и вылез из машины. – Давайте багаж.
Парень обрадовался и открывать побежал бегом. И даже вытащил из багажника что поменьше. Григорьев вытаскивал остальное. Евдокия Изотовна и Санька вышли из такси и стояли рядом. Петух взволнованно крутил головой и озирался.
Григорьев заплатил за оба конца. На мгновение на лице носатого парня отразилось колебание, но отказаться от дармовых двух десяток он не смог, забрал деньги и, старательно не глядя на пассажиров, стал торопливо разворачивать машину, в поспешности съехал на травянистую обочину и застрял.
– Подтолкни, а? – высунулся он из окошка.
Григорьев вознамерился кое-что сказать, но удержался и подтолкнул молча. И остался у дороги в обляпанных густой грязью брюках.
Санька кинулась чистить, но Евдокия Изотовна сказала, что не надо, пусть лучше высохнет, и удивленно посмотрела вслед такси:
– Какой же обременительный молодой человек!
Шум мотора затих, и они остались в тишине, как на краю пропасти.
Григорьев стоял и обводил взглядом то, что было вокруг: деревню на взгорке в полукилометре от них, пойменный луг со стадом бурых коров, а по другую сторону, куда уходил не слишком наезженный проселок, сплошной лес, начинавшийся от шоссе молодыми березами и осинником. Все было освещено уже низким солнцем, все было неторопливо, мирно, а лес, прятавший дорогу, по которой они должны идти, о чем-то молчал тайно и устало, и только крупные листья, багровые на еще не одеревеневших вершинах, дремотно вызванили привычную тревогу.
Григорьев улыбнулся, принимая это место таким, каким оно было – обычным, бедным и щемящим сердце, и впустил его в себя, навсегда сделав единственным, и попросил, чтобы оно тоже впустило и приняло его, как принимало многих.
Он взял чемоданы и сошел с большой и твердой дороги на малую и мягкую, заросшую муравой и подорожниками. За ним, тоже обведя луг, деревушку и лес повлажневшим взором, двинулась Евдокия Изотовна, а Санька, больше настроенная на восприятие других, чем на свое собственное, пошла за ними покорно и осторожно, человеком, вступающим не в свой дом, равно готовым и любить его и проклинать.
Они шли неторопливо, часто отдыхая. Евдокия Изотовна хоть и бодрилась, но задыхалась от непривычки и возраста, но ни за что не желала идти без ноши и воодушевляла себя тем, что брала у Саньки портфель и отдавала петуха или совала обратно портфель и забирала обалдевшую птицу, объясняя при этом:
– Лучший отдых – перемена ноши!
Петух, увидев вольные края, шуршал стиснутыми крыльями и подпрыгивал в соломенной сумке. Григорьев предложил дать птице свободу, тетушка бурно запротестовала, но еще через километр вытащила Константина Петровича, судорожно дышавшего открытым клювом, и поставила на землю. Петух покачнулся, похромал на одну ногу, на другую, установился твердо, захлопал крыльями и проголосил. Постоял, вертя головой, прокукарекал снова и вдруг припустил по дороге в обратную сторону.
– Костик! Костик! – простонала тетушка.
Григорьев кинулся за птицей и вернулся через полчаса, неся обиженного и изрядно потрепанного Константина Петровича под мышкой.
– По-моему, его надо было съесть еще в Смоленске, – сказал он.
– Молодой человек! – воскликнула тетушка, водворяя петуха в сумку. – Человечество съедает сотни миллионов кур ежедневно! Может же среди миллионов хотя бы один остаться несъеденным!
Двинулись дальше, но через десяток метров петух, всполошно кокча, вывалился из сумки и кинулся в лес, и Санька во вратарском броске едва успела ухватить его за хвост. Спятившему Константину Петровичу связали ноги.
За километр перед Житовым проселок уперся в речку. Моста не было, одни сваи торчали из воды редкими, гнилыми зубьями.
– Да, да, я помню эту речку, – умилилась Евдокия Изотовна. – Тут был мост, да, да, помню, что был… Дорога вроде бы есть, а моста как будто нет. Или я перепутала?
– Николай Иванович, а там лодка, – сказала Санька. – Видите, на том берегу?
– Ну, хотя бы лодка, вот видите! – обрадовалась Евдокия Изотовна.
Григорьев разделся и поплыл к противоположному берегу. Речка была не слишком широкая, но холодная, кое-где спокойная поверхность завихрялась – со дна били ключи.
Григорьев пригнал лодку, перевез сначала тетушку с задремавшим петухом и чемодан с наклейками, а потом явился за Санькой и остальным.
– Странно… – проговорила Санька, оказавшись на середине реки и всматриваясь в густую, черную воду. – Я эту картину много раз видела во сне. Именно эта речка, даже эти мокрые, позеленевшие сваи, и кто-то на том берегу, кто-то в светлом, я помню. И я вот так в лодке, и тень от леса на воде, и тянет холодом. И что-то меня ожидает, я даже один раз увидела, что меня ожидает, но сразу забыла. И если я сейчас очень постараюсь, то смогу вспомнить и буду заранее все знать. Хотите, я вспомню, Николай Иванович?
– Нет, – серьезно отозвался Григорьев. – Зачем лишать себя неожиданности?
– Какая темная вода… – протянула Санька. – Как граница между прошлой и будущей жизнью. Николай Иванович, скажите мне что-нибудь. Скажите здесь, сейчас, чтобы я потом помнила об этом..
– А что я говорил в вашем сне?
– В моем сне? А в моем сне вас почему-то не было, – удивилась Санька и замолчала.
Лодка ткнулась носом в низкий травянистый берег, Григорьев вышел и протянул Саньке руку и, когда она вышагивала из качающейся лодки, проговорил:
– Сашенька, я вам скажу все, но не сейчас. Я вам скажу много, Сашенька, я скажу очень много, только потом, потом…
Санька недоверчиво покачала головой, но улыбнулась, и улыбка была благодарной и снисходительной, как у взрослого, которому ребенок дарит свою наивную ценность, ненужную и бесполезную в мире больших людей, давно покинувших детство.
За речкой лес вскоре кончился, отступил на закраины. Открылось огромное, добела раскаленное поле спелой ржи, на краю которого, как далекие корабли, начали всплывать крыши деревни Житово. Тетушка заволновалась, засеменила, закивала этим крышам с низкими трубами и, не замечая слез на своем лице, заспешила по узкой тропинке, проложенной кем-то через ржаное поле, и склонившиеся сухие колосья касались ее узеньких плеч, качались и кланялись ей, шелестя и позванивая. И Григорьев вступил за ней в это поле и тоже заплакал, а спелая рожь высохшими руками слепой матери припадала к его груди, а Санька, до этого никогда не видевшая ржаного колоса, тянулась и гладила белое поле, и головки колосьев покорно уходили под ее пальцы, и поле показалось ей живым и беспредельно добрым существом и запало ей в душу и ранило печальной, отрадной любовью, которая будет теперь сопровождать ее до конца жизни.
Они вошли в Житово, приблизились к первому дому и увидели крест-накрест заколоченные окна, торопливо перекинулись взглядами к следующему и встретили то же самое, и с другой стороны широкой улицы тоже смотрели перечеркнутые окна, пустые, как глазницы черепов, и все это походило на усталый, внезапный сон.
Григорьев поставил чемоданы посреди улицы, сел около них на землю и с неясной улыбкой повернул свое пыльное, изборожденное недавними слезами лицо к желтому, низкому солнцу. Евдокия Изотовна и Санька молча сели рядом. Евдокия Изотовна достала из соломенной сумки петуха, развязала ему лапы и подтолкнула:
– Иди, дружок, иди…
Петух хрипло возвестил о себе окрестностям.
– Может, посмотреть? – предложила Санька. – Я пойду дальше и посмотрю.
– Сходите, Сашенька, сходите, – со вздохом отозвалась Евдокия Изотовна. – Может быть, какой-нибудь дом не заколочен, мы бы в нем переночевали.
Санька пошла.
Григорьев сидел не шевелясь и все смотрел на желтое светило. Евдокия Изотовна снова вздохнула и осторожно дотронулась до его плеча:








