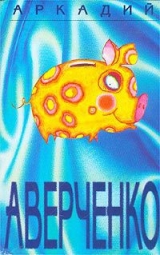
Текст книги "Том 6. Отдых на крапиве"
Автор книги: Аркадий Аверченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 32 страниц)
Так как я настаивал, то горничная протянула мне руку, но немедленно после этого расплакалась и убежала.
Теперь я слыву среди знакомых чудаком, толстовцем, народником.
А когда я прихожу в тот дом, где мне случилось поздороваться с горничной, то, к великому изумлению новых гостей, здороваюсь с этой горничной, лакеем и швейцаром.
Иногда в передней сталкиваюсь с кучером, пришедшим за приказаниями. Здороваюсь и с ним. Что ж делать…
– Ах, он такой оригинал, – говорят обо мне хозяева. Так говорят они, дальнозоркие люди.
Никогда им не понять близорукого человека!.. Несчастные мы!
Акулы (Биржевики на прогулке)
…На берегу реки у взморья собралась кучка каких-то людей. Все прикладывают к глазам ладони щитком и напряженно всматриваются вдаль.
– Ой, рыба, – горячо говорит один.
– Ой, нет, – бойко возражает другой.
– Ах ты, господи! Да я ее лицо вижу так же хорошо, как ваше.
– Где же это вы у рыбы лицо нашли?
– А что же у рыбы?
– Морда.
– Мерси. Ну, все равно, морду вижу. И прямо на нас плывет. Поймать можно. Как к самому берегу причалит – так ее и бери руками.
– Серьезно? И скажите вы мне: можно различить ее породу или не видно?..
– Я так думаю – это не иначе, как большой сом.
– Что вы говорите? А почем нынче сомовина?
– А по рублю с четвертаком.
– И можете вы приблизительно определить, сколько в ней весу?
– В рыбе-то? Пятнадцать пудов.
– Это, значит, по оптовой выйдет рублей пятьсот на круг!
Голос сзади:
– Беру.
– Что вы берете?
– Весь, кругом. По восемьдесят фунт. Без хвоста и жабр.
– Даю по девяносто с хвостом. Голос сбоку:
– Беру восемьдесят пять без хвоста.
– Губа не дура! Господа!! Даю девяносто без хвоста.
– Послушайте, Чавкин… Зачем вы играете на повышение? Это же недобросовестно.
– А что?.. Коммерция есть коммерция… Я ее в холодильнике выдержу, а потом по полтора на рынок выброшу.
– Вас самого выбросить нужно за такие штуки. Даю восемьдесят шесть.
– С хвостом?
– При чем тут хвост? Ну, пусть будет такой хвост: восемьдесят и шесть копеек, как хвост.
– Беру девяносто восемь.
– Даю.
– Что? Что вы даете? Это ваша рыба? Она уже у вас на руках? Вы ее поймайте раньше.
– И поймаю. Большая важность! Главное, твердую цену на нее установить, а поймать – плевое дело.
– Да позвольте, господа… Рыба ли это? Вот оно ближе подплывает, и как будто бы это не рыба.
– А пропустите вперед, я взгляну… Ну, конечно! Какой это дурак сказал, что плывет рыба? Бревно! Самое обыкновенное бревно.
– Беру.
– Что вы берете?
– Вот это… Обыкновенное десятидюймовое бревно. Вы даете?
– Ну, хорошо. Даю. По восьми с полтиной.
– Беру по семи.
– Отлипните. А вы, молодой человек, что предлагаете?
– Я… по восьми… даю… Франко – склад.
– Ловкий вы какой. Теперь отсюда доставка не меньше пяти рублей. Даю девять, франко – склад.
– Умный вы, молодой человек, а дурак. Даю восемь без доставки.
– Беру.
– Опять вы повышаете?
– Что значит повышаю?! Я тут же по девяти с полтиной продам. Идете в долю? Господа, хорошее сухое бревно – даю по девяти с полтиной!
– Как вы говорите – сухое, когда оно по воде плывет?
– Внутренняя сухость. А наружно его полотенцем вытрешь, вот и все. Так берете?
– Беру.
– Даю.
– Слушай, зачем ты ему отдал?
– Чудак, я сейчас начну играть на понижение. Уроню до пяти рублей, а потом куплю.
– Вы даете?
– Что?! По морде я вам дать могу!! Какое это бревно? Откуда это бревно? Разве на бревне волосы бывают? И разве на бревне ноги торчат? Черти! Утопленником торгуют.
– А ведь верно – это человек.
– И, кажется, прилично одет.
– Беру!
– Что берете?
– Костюм.
– Даю за тридцать.
– Беру без сапог пятнадцать.
– Даю двадцать пять.
– Опять повышаешь? Чавкин, что это за ажиотаж?
– Беру костюм и сапоги за сорок пять.
– Сделано. Господа! Даю чистый вес без упаковки – десять рублей!
– Чистый вес? А куда он? Суп из него сваришь, что ли?
– …Позвольте! Как же вы мне предлагаете костюм, когда он плывет и руками размахивает?
– Кто, костюм?
– Не костюм, а то, что внутри. Это уже наглость! На живом человеке костюм – разве это спекуляция?
– Подплывает!
– Черта с два. Захлебывается. Помогите же ему! Вытащите его!
– Зачем его вытаскивать? Что это – рыба или бревно?
– Дураки вы, дураки. А может быть, если его вытащить, – ему можно будет спустить десяточек бугульминских? Бумага камнем лежит, а он с угару, пожалуй, не разберет.
– А верно!
Один из толпы бросается в воду и, рассекая волны руками, бодро кричит:
– Слушайте, как вас… утопающий! Даю пятьдесят бугульминских по семидесяти. Берете?
– Подавитесь ими, – хрипит, захлебываясь, утопающий. – У меня у самого сто, как свинец, осели.
– Свой, – разочарованно вздыхает спаситель и поворачивает к берегу.
Аукцион
В ясное летнее утро уселся я в экипаж, который должен был доставить меня в Евпаторию.
Кроме меня места в экипаже были заняты: 1) прехорошенькой жизнерадостной белокурой дамой, в которую я, после двадцатиминутной внутренней безмолвной, но ожесточенной борьбы с самим собой, – тихо влюбился; 2) молодым развязным господином чрезвычайно активного вида.
Моя мужественная борьба с самим собой продолжалась все-таки 20 минут, а этот молодой человек безо всякой борьбы, в первые же две-три минуты всем своим поведением показал, что отныне единственная цель, единственное устремление его жизни – белокурая дама, – и ни на что другое он не согласен.
Тут-то и вышло между нами состязание, которое так блистательно завершилось битвой на аэроплане.
* * *
Надо сказать, что вообще женщины – прехитрое, проклятое бабье, и почти всю жизнь они устраивают свои делишки по принципу аукционного зала.
Предположим, существует в природе металлическая резная ваза для визитных карточек. Никому в мире она не нужна, и ни одному человеку в подлунной не пришла бы в голову малая мысль зайти в магазин и купить ее.
Но ее выставляют в аукционном зале; вы и тут все-таки не обращаете на нее никакого внимания, пока аукционист не провозгласил магического: «Кто больше?»
– Сто рублей! Кто больше?! – орет аукционист.
– Полтораста, – говорит ваш сосед.
Вы вдруг загораетесь («Если он хочет ее приобрести, то почему и мне ее не купить?») и бодро перебиваете:
– Сто семьдесят!
Сосед делается похожим на горящее полено, на которое плеснули керосином:
– Сто девяносто пять!!..
– И пять!!..
И пошла потеха.
И кончается потеха тем, что вы отдаете все, что имели за душой, за вещь, о которой десять минут тому назад у вас и грошовой мыслишки не было… Тащите ее домой, а в голове начинает ворошиться мысль, складывающаяся в знаменитую фразу крыловского петуха:
«Куда она? какая вещь пустая».
Вот так же и дамы. Они живут по принципам аукционного зала: если человек один, он, может быть, и не посмотрит, а если двое – тут-то в самую пору и крикнуть:
– Кто больше?!
Конечно, эта фраза произносится в самом высшем смысле, без всякой меркантильности.
Так у нас и пошло. Когда мы уселись, Голубцов (так звали этого человечишку) заявил, что он счастлив, имея такую визави, и прочее.
Я постарался покрыть его – заявлением, что хотя я и отвык от дамского общества, однако такое общество, как соседка, сократит путь по крайней мере в четыре раза.
Суетная душонка, Голубцов, сбросил с рук довольно крупного козыря, заявив, что, если у нее в Евпатории нет знакомых, он будет счастлив, если его скромная особа и т. д.
А я сразу шваркнул по всем его картам козырным тузом («Если вам негде будет остановиться, я устрою для вас комнату»).
Раздавленный Голубцов увял и осунулся, но ненадолго.
– Я вам должен сказать, Мария Николаевна («Кажется, так? Мария Николаевна? Мерси! Прехорошенькое имя!»)… Итак, я вам должен сказать, что русские курорты отталкивают меня своей неблагоустроенностью. То ли дело заграница…
– А вы были и за границей? (Огромный интерес со стороны Марии Николаевны. Сенсация.)
– Да… Я изъездил всю Европу. Исколесил, можно сказать.
Безмолвное лицо Марии Николаевны, обращенное в мою сторону, так будто бы и кричало: «Кто больше? Кто больше?!»
Я решил закопать этого наглого туристишку в землю, да еще и камнем привалить.
– А вы (ехидно спросил я) в Струцеле были?
– Ну, как же! Два раза. Только он мне, знаете ли, не особенно понравился…
– Кто?
– Струцель.
– А вы знаете, – отчеканил я. – Струцель – это вовсе не город. Это слоеный пирог с медом и орехами.
Молоток аукциониста уже повис в воздухе, чтобы ударить в мою пользу, чтобы тем же ударом заколотить этого слизняка в гроб, но… наглость его была беспримерна:
– Благодарю вас, – холодно ответил он. – Я это знал и без вас. Но вам, вероятно, неизвестно, что пирог назван по имени города. Может быть, вы будете утверждать, что и города Страсбурга нет только потому, что существует страсбургский пирог?! Да-с, Мария Николаевна… В этом Струцеле (Верхняя Силезия, 36 000 жителей) я даже имел одну замечательную встречу, о которой я вам расскажу когда-нибудь потом, когда мы будем вдвоем…
Я был распластан, распростерт во прахе, и колесница победителя проехалась по мне, как по мостовой…
– Значит, вы хорошо говорите по-немецки? – приветливо спросила Мария Николаевна.
– Ну да. Как же! Как по-русски.
«А не врешь ли ты, братику?» – подумал я и вдруг стремительно наклонился к нему:
– Ви филь ур, мейн герр?.. – А? Чего? – растерялся он.
– Это я вас по-немецки одну штуку спрашиваю. А ну-ка, ответьте: «Ви филь ур, мейн либер герр?»
Он подумал минутку, выпрямил свой стан и сказал с достоинством, которого нельзя было и подозревать в нем:
– Видите ли что, молодой человек… Хотя я действительно говорю по-немецки, как по-русски, но с тех пор, как Германия, привив России большевизм, погубила мою бедную страну… я дал обет… Да, да, милостивый государь! Я дал обет не произносить ни одного слова на этом ужасном языке…
– Так вы ответьте мне по-русски…
– Постойте, я не кончил… я дал обет не только не говорить на этом языке, но и не понимать этого языка!.. О, моя бедная страна!..
– Неужели вы так любите Россию? – сочувственно спросила растроганная Мария Николаевна, и ее нежная ручка ласково легла на его лапу…
«Кто больше?!» – вопил невидимый аукционист, а у меня нечем было покрыть: я обнищал.
В это время с небес донесся до нас шум мотора, – и прекрасный, изящный, похожий на стрекозу аэроплан бросил легкую тень на дорогу впереди нас. (О милый, так выручивший меня аэропланчик!.. Если бы у тебя был ротик и если бы это было возможно, я поцеловал бы тебя…)
Все мы задрали головы и стали с интересом следить за эволюциями легкокрылой стрекозы.
– Вы когда-нибудь летали? – обратилась Мария Николаевна… конечно, к нему! Не ко мне – а к нему.
– Я? Всю немецкую войну летал. Ведь я же летчик.
– Что вы говорите! Ах, как это интересно. И вы встречали когда-нибудь в воздухе вражеский аэроплан?
– Я? Сколько раз. Даже в драку вступал.
– Расскажите! Это так интересно… (Руку свою она так и забыла на его лапе.)
– Да что ж рассказывать? Как-то неловко хвастать своими подвигами.
Однако это похвальное соображение не удержало его:
– Однажды получил я приказ сделать разведку в тылу неприятеля… Ну-с… Подлил, как водится, в карбюратор бензину, завинтил магнето, закрутил пропеллер, вскочил на седло – и был таков. Лечу… Час лечу, два лечу. Вдруг навстречу на Блерио – немец. И давай он жарить в меня из пулемета очередями. Однако я не растерялся… Дернул выключатель, замедлил пропеллер, спустился на одно крыло к самому его носу, вынул револьвер, приставил к уху, говорю: «Сдавайся, дрянь такая!» Он – бух на колени: «Пощадите, – говорит, – господин». Но не тут-то было. Я его сейчас же за шиворот, перетащил на свою машину, а его Блерио привязал веревкой к своему хвосту, да так и притащил и немца, и его целехонький аппарат в наше расположение.
Во все время его рассказа наше расположениебыло прескверное. То есть только мое, потому что глаза Марии Николаевны искрились восторгом.
– Боже, какой вы герой! Скажите, а меня бы вы могли покатать на аэроплане?..
– Сколько угодно, – беззаботно ответил этот храбрый боец.
– А вы меня не разобьете?
– Как в колыбельке будете!
– Впрочем, с вами я не боюсь. Вы такой… мужественный! Когда же вы меня покатаете?
– Хоть завтра. Только жалко, что в Евпатории у меня нет аппарата.
– А вы на всякой системе можете летать? – небрежно спросил я, делая вид, что все мое внимание занято кружащимся над нами аэропланом.
– О, на какой угодно, но предпочитаю Блерио. На этой старушке я чувствую себя как дома.
– Ну, так вам, господа, повезло, – торжественно сказал я, простирая руку к небу. – Дело в том, что у меня в Евпатории есть два совершенно исправных Блерио, только что собранных и проверенных. Извозчик! Мы когда приедем в Евпаторию? В два часа? Прекрасно! До четырех умоемся, переоденемся, приведем себя в порядок, пообедаем, а часиков в пять я вас повезу на аэродром. Сегодня же, Мария Николаевна, он вас и покатает.
Никогда я не видел человека более расплющенного, чем этот жалкий Голубцов.
Он пробормотал, что летает на бензине только фирмы Нобеля: я его успокоил, что у меня Нобель; он протявкал, что нужно еще проверить, какой сегодня ветер. Сколько баллонов (?!)… Я его успокоил, что ветра никакого нет. Тогда он прохрюкал, что для полета нужно специальное разрешение. Я вогнал его на три аршина в землю заявлением, что такое разрешение у меня имеется.
После этого он, подобно тому немцу, невидимо для глаз упал на колени, сдался и просил его пощадить, заявив, что сейчас же по приезде его ждет куча дел и что освободится он только дня через три-четыре и то часа на два… и то едва ли.
Теперь он лежал распростертый у моих ног… А я ходил по нем, как хотел, топтал его каблуками, пинал носком сапога в лживую пасть, и рука Марии Николаевны уже, как хорошенькая ящерица, переползла на мою руку, и уже Мария Николаевна смотрела только на меня и даже чуть-чуть прижималась ко мне, – а над нами парила мощная, так прекрасно выручившая меня птица, и ее огромные крылья, распростертые над нами, будто благословляли нас – меня и Марию Николаевну, Марию Николаевну и меня!!
Голубцов представлял собой бесформенный мешок костей, будто он только что шлепнулся с аэроплана.
Наконец-то невидимый молоток аукциониста стукнул в мою пользу, и я торжественно перед самым носом конкурента мог унести выигранную мною вазу для визитных карточек.
* * *
А в общем, если бы не аукцион – на что она мне?..
Война
Пройдет еще лет двадцать. Мы все, теперешние, сделаемся стариками…
Мировая война отойдет в область истории, о ней будут говорить как о чем-то давно прошедшем, легендарном…
И вот, когда внуки окружат кого-нибудь из нас у горящего камина и начнут расспрашивать о нашем участии в мировой войне, – воображаю, как тогда мы, старички, начнем врать!..
То есть врать будут, конечно, другие старички, а не я. Я не такой.
И так как я врать не могу, то положение мое будет ужасное.
Что я расскажу внукам? Чем смогу насытить их жадное любопытство? Был я на войне? Был. Кем был? Солдатом, офицером или генералом? Никем! Нелегкая понесла меня на войну, хотя меня никто и не приглашал.
Когда я, во время призыва, пришел в воинское присутствие, меня осмотрели и сказали:
– Вы не годитесь! Я обиделся:
– Это почему же, скажите на милость?!
– У вас зрение плохое.
– Позвольте! Что у вас там требуется на войне? Убивать врагов? Ну, так это штука нехитрая. Подведите мне врага так близко, чтобы я его видел, и он от меня не уйдет!
– Да вы раньше дюжину своих перестреляете, прежде чем убьете одного чужого!..
Вышел я из этого бюрократического учреждения обиженный, хлопнув дверью.
Решил поехать на войну в качестве газетного корреспондента.
Один знакомый еврей долго уговаривал меня не ехать.
– Зачем вам ехать?! Не понимаю вашего характера! Что это за манера: где две державы воюют – вы обязательно в середку влезете!
Однако я поехал, и, как говорил этот мудрый еврей, – конечно, влез в самую середку…
* * *
На позициях (под Двинском) ко мне привыкли как к неизбежному злу.
Некоторые даже полюбили меня за кротость и веселый нрав.
Однажды подсел я к солдатам в окопе. Сидели, мирно разговаривали, я угощал их папиросами.
Вдруг – стрельба усилилась, раздались какие-то крики, команда – я за разговором и не заметил что, собственно, скомандовали.
Все закричали «ура!», выскочили из окопов, побежали вперед. Закричал и я за компанию «ура», тоже выскочил и тоже побежал.
Кто-то кого-то бил, колол, а я вертелся во все стороны, понимая по своей скромности, что я мешаю и тем, и другим… Люди делают серьезное дело, а я тут же верчусь под ногами.
Потом кто-то от кого-то побежал. Мы ли от немцев, немцы ли от нас – неизвестно. Вообще, я того мнения, что в настоящей битве никогда не разберешь – кто кого поколотил и кто от кого бежал…
Это уж потом разбирают опытные люди в главном штабе.
Бежал я долго – от врага ли или за врагом – и до сих пор не знаю. Может быть, меня нужно было наградить орденом как отчаянного храбреца, может быть – расстрелять как труса.
Бежал я долго – так долго, что когда огляделся, – около меня уже никого не было.
Только один немец (очевидно, такого же неопределенного характера, как и я сам) семенил почти рядом со мной.
– Попался?! – торжествующе вскричал я.
Он вместо ответа взял на изготовку штык и бросился на меня.
Я всплеснул руками и сердито вскрикнул:
– С ума ты сошел?! Ведь ты меня так убить можешь! Он так был поражен моим окриком, что опустил штык.
– Я и хочу тебя убить!
– За что? Что я, у тебя жену любимую увез или деньги украл?! Идиот!
Рассудительный тон действует на самые тупые головы освежающе:
– Да, – возразил он сконфуженно, ковыряя штыком землю. – Но ведь теперь война!
– Я понимаю, что война, но нельзя же ни с того ни с сего тыкать штыком в живот малознакомому человеку!!
Мы помолчали.
«Во всяком случае, – подумал я, – он мой пленник, и я доставлю его живым в наш лагерь. Воображаю, как все будут удивлены! Вот тебе и „плохое зрение“! Может быть, орден дадут…»
– Во всяком случае, – сказал немец, – ты мой пленник, и я…
Это было верхом нахальства!
– Что?! Я твой пленник? Нет, брат, я тебя взял в плен и теперь ты не отвертишься!..
– Что-о? Я за тобой гнался, да я же и твой пленник?
– Я нарочно от тебя бежал, чтобы заманить подальше и схватить, – пустил я в ход так называемую «военную хитрость».
– Да ведь ты меня не схватил?!
– Это – деталь. Пойдем со мной.
– Пойдем, – подумав, согласился мой враг, – только уж ты не отвертишься: я тебя веду как пленника.
– Вот новости! Это мне нравится! Он меня ведет! Я тебя веду, а не ты!
Мы схватили друг друга за руки и, переругиваясь, пошли вперед. Через час бесцельного блуждания по голому полю мы оба пришли к печальному заключению, что заблудились.
Голод давал себя чувствовать, и я очень обрадовался, когда у немца в сумке обнаружился хлеб и коробка мясных консервов.
– На, – сказал враг, отдавая мне половину. – Так как ты мой пленник, то я обязан кормить тебя.
– Нет, – возразил я. – Так как ты мой пленник, то все, что у тебя, – мое! Я, так сказать, захватил твой обоз.
Мы закусили, сидя под деревом, и потом запили коньяком из моей фляжки.
– Спать хочется, – сказал я, зевая. – Устаешь с этими битвами, пленными…
– Ты спи, а мне нельзя, – вздохнул немец.
– Почему?!
– Я должен тебя стеречь, чтобы ты не убежал.
До этого я сам не решался уснуть, боясь, что немец воспользуется моим сном и убежит, но немец был упорен как осел…
Я растянулся под деревом. Проснулся перед вечером.
– Сидишь? – спросил я.
– Сижу, – сонно ответил он.
– Ну, можешь заснуть, если хочешь, я тебя постерегу.
– А вдруг – сбежишь?
– Ну, вот! Кто же от пленников убегает. Немец пожал плечами и заснул.
Закат на далеком пустом горизонте нежно погасал, освещая лицо моего врага розовым нежным светом…
«Что, если я уйду? – подумал я. – Надоело мне с ним возиться. И потом – положение создалось совершенно невыносимое: я его считаю своим пленником, а он меня – своим. Если же мы оба освободим один другого друг от друга, то это будет как бы обмен военнопленными!»
Я встал и, стараясь не шуметь, пошел на запад, а перед этим, чтобы вознаградить своего врага за потерю пленника, положил в его согнутую руку мою фляжку с коньяком.
И он спал так, похожий на громадного ребенка, которому сунули в руку соску и который расплачется по пробуждении, увидев, что нянька ушла…
Вот и все мои похождения на театре войны.
Но как я расскажу это внукам, когда ничего нельзя выяснить: мы ли победили или враг; мы ли от врага бежали или враг от нас, я ли взял немца в плен или немец меня?
Теперь, пока я еще молодой, – рассказал всю правду. Состарюсь – придется врать внукам.








