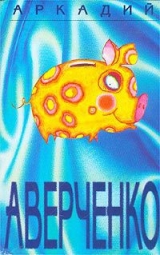
Текст книги "Том 6. Отдых на крапиве"
Автор книги: Аркадий Аверченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 32 страниц)
Я отошел от нее, схватился за голову и простонал:
– Лидия! Будьте мужественны! Я колебался, но теперь решил сказать все. Знайте же, что ваша мать зарезала вашу сестренку и отравилась сама.
– Ах! – вскрикнула Лидия и, мертвая, шлепнулась на пол.
* * *
Нас вызывали.
Я же того мнения, что если мы и заслужили вызова, то не перед занавесом, а в камере судьи – за издевательство над беззащитной публикой.
Находчивость на сцене
О своих первых шагах на сцене я рассказывал в другом месте. Но мои последующие шаги должны быть (я так полагаю) также интересны для читателя.
Вот один из таких шагов.
* * *
Я уже три недели, как играю на сцене. Вид у меня импозантный, важный, и на всех не играющих на сцене я смотрю с высоты своего величия.
Сидел я однажды с актерами в винном погребке за бутылкой вина и шашлыком и поучал своих старших товарищей, как нужно толковать роль Хлестакова, не смущаясь тем, что задолго до меня мой коллега Гоголь гораздо тщательнее и тоньше объяснил актерам эту роль.
Худощавый молодой господин с белыми волосами и истощенным вечной насмешкой лицом подошел к нам и принялся дружески пожимать руки актерам:
– Здравствуйте, Гаррики! Нас познакомили.
– Вы тоже актер? – снисходительно спросил я.
– Что вы! – возразил он, оскаливая зубы. – Как это вы можете по первому впечатлению так дурно судить о человеке?! Я не актер, но в вашем деле кое-что понимаю. Вы давно на сцене?
Я погладил свои бритые щеки:
– Порядочно. Завтра будет три недели!
– Ого! Значит, через восемь дней можно уже и юбилей праздновать. Хе-хе… Воображаю, как вы волнуетесь на сцене!
– Кто – я? Ни капельки.
– Ну да, знаем мы! Конечно, если роль вызубрили, да под суфлера идете, да окружены опытными товарищами – тогда ничего. А представьте себе – на сцене какая-нибудь неожиданность, что-нибудь такое, что не предусмотрено ни автором, ни режиссером, – воображаю вашу растерянную физиономию и трясущиеся колени…
– Ну, – усмехнулся я. – Меня не легко смутить.
– На сцене-то? Да бывают такие случаи, когда и Варламова с Давыдовым можно, что называется, угробить!
– Меня не угробите.
– Люблю скромных молодых людей! – вскричал он. Потом задумался, искоса на меня поглядывая. У меня было такое впечатление, что я действую ему на нервы…
– Что у вас идет завтра в театре?
– «Колесо жизни» Рахимова. Сам автор обещал завтра прийти посмотреть, как я играю Чешихина.
– Ах, вы играете Чешихина? И вы говорите, что вас невозможно на сцене смутить, сбить с толку?
– Да. По-моему, это гнилая задача.
Он зловеще улыбнулся, протянул костлявую руку.
– Хотите заклад? На 6 бутылок кахетинского, на 6 шашлыков.
– Не хочу.
– Почему?!
– Мало. По десяти того и другого, плюс кофе с бенедиктином.
– Молодой человек! Вы или далеко пойдете, или… плохо кончите. Согласен!
Таким образом состоялось это странное пари.
* * *
Шел второй акт «Колеса жизни». У меня только что кончилась бурная сцена с любимой девушкой, которая заявила мне, что любит не меня, а другого.
– Кто этот другой? – спросил я крайне мрачно.
– Это вас не касается, – гордо ответила она, выходя за двери.
Свою роль я хорошо знал. После ухода любимой девушки я должен схватиться за голову, поскрежетать зубами, уткнуться головой в диванную подушку, а потом вынуть из кармана револьвер и приставить к виску. В этот момент хозяйка дома, которая тайно любит меня, а я ее не люблю, – выбегает, хватает меня за руку и, рыдая на моей груди, признается в своем чувстве… Такие пьесы, скажу по секрету, играть не трудно, а еще легче – писать.
Я уже схватился за голову, уже по авторскому замыслу поскрежетал зубами и только что подскочил к дивану, чтобы «уткнуться головой в подушку», – как боковая дверь распахнулась, и худой молодец с белыми волосами – тот самый, который взял подряд как бы то ни было смутить меня на сцене, – этот самый парень вышел на первый план самым непринужденным образом.
С двух сторон я услышал два шипения: впереди – суфлера, из боковой кулисы – помощника режиссера. Из директорской ложи глянуло на нас остолбенелое лицо автора.
– Здравствуйте, Чешихин! – развязно сказал беловолосый, протягивая мне руку. – Не ожидали? Я на огонек завернул.
Впереди я слышал шипенье, сбоку за кулисой отчаянное проклятие.
– Здравствуй, Вася, – мрачно сказал я. – Только ты сейчас зашел не вовремя. Мне не до тебя. Может быть, завернешь в другой раз, а? Мне нужно быть одному…
– Ну, вот еще глупости! – засмеялся беловолосый нахал, развалившись на диване. – Посидим, поболтаем.
Публика ничего не замечала, но за кулисами зловещий шум все усиливался.
Я задумчиво прошелся по сцене.
– Вася! – сказал я значительно. – Ты знаешь Лидию Николаевну?
Он покосился на меня и, незаметно подмигнув, проронил:
– Конечно, знаю. Преаппетитная девчонка.
– А-а! – вскричал я в неожиданном порыве бешенства. – Так это, значит, ты тот, из-за которого она отказала мне?! (Суфлерская будка вдруг опустела, но я от этого почувствовал себя еще увереннее и легче.) Ты?! Отвечай, негодяй!
«Вася» поглядел испуганно на мои сжатые кулаки и сказал примирительным тоном:
– Бросьте… поговорим о чем-нибудь другом…
– О другом?! – заревел я, торжествующе поглядывая на автора, который метался в директорской ложе, как лошадь на пожаре. – О другом? Ты меня довел почти до смерти и теперь хочешь говорить о другом?! Отвечай! (Я бросился на него, стал ему коленом на грудь и стал колотить головой об спинку дивана.) Отвечай – как у вас далеко зашло?!
«Вася» побледнел как смерть и прошептал:
– Пустите меня, медведь! Вы так задушите! Шуток не понимаете, что ли?
– Ты сейчас умрешь! – прорычал я. – Другой раз тебе будет неповадно!
Он глядел на меня умоляющими глазами. Потом прошептал:
– Ну, я проиграл пари, какого черта вам еще нужно? Пустите, я уйду.
– Смерть тебе! – вскричал я со злобным торжеством – и так стукнул его голову о спинку дивана, что он крякнул и свалился на пол.
– Неужели я убил его?! – вскричал я, театрально заламывая руки. – Воды, воды этому несчастному!
Я схватил графин с водой и вылил щедрую струю на корчившееся тело «Васи». Он испуганно закричал.
– Очнулся! – обрадовался я. – А теперь иди, несчастный, и постарайся на свободе обдумать свое поведение!
Я взял его в охапку и почти вышвырнул в боковую дверь. Схватился за голову. Прислушался. По мягким звукам ударов и по заглушенным стонам за кулисами я понял, что передал неудачливого Васю в верные руки.
– Итак, вот кто ее избранник! – вскричал я страдальчески. – Нет! Лучше смерть, чем такое сознание.
Дальше все пошло как по маслу: я вынул револьвер, приставил к виску, из средних дверей выбежала любящая женщина, упала на грудь – одним словом, я опять стал на рельсы, с которых меня попробовали стащить так неудачно.
«Колесо жизни» завертелось: в будке показался суфлер, в ложе – успокоенный автор.
* * *
После спектакля мне подали в уборную записку: «Жрите сегодня ваше вино и шашлык без меня. Я все оплатил. Иду домой сохнуть и расправляться. Будьте вы прокляты!»
Рассказы циника
Искусство и публика (Вместо предисловия)
Вы – писатели, актеры и живописцы! Вы все (да и я тоже) пишете, играете и рисуете для того многоголового таинственного зверя, который именуется публикой.
Что же это за таинственный такой зверь? Приходило ли кому-нибудь в голову математически вычислить средний культурный и эстетический уровень этого «зверя»?..
Ведь те, с которыми мы в жизни встречаемся, в чьем обществе вращаемся, кто устно по знакомству разбирает наши произведения – эти люди, в сущности, не публика. Они, благодаря именно близости к нам, уже искушены, уже немного отравлены сладким пониманием тонкого яда, именуемого «искусством».
А кто же те, остальные? Та Марья Кондратьевна, которая аплодирует вам, Шаляпин, тот Игнатий Захарыч, который рассматривает ваши, Борис Григорьев, репродукции в журнале «Жар-Птица», тот Семен Семеныч, который читает мои рассказы.
Таинственные близкие незнакомцы – кто вы?
* * *
Недавно я, сидя на одном симфоническом концерте, услышал сзади себя диалог двух соседей по креслу (о, диалог всего в шесть слов).
– Скажите, это – Григ?
– Простите, я приезжий.
Этот шестисловный диалог дал мне повод вспомнить другой диалог, слышанный мною лет двенадцать тому назад; не откроет ли он немного ту завесу, за которой таинственно прячется «многоголовый зверь»?
Двенадцать лет тому назад я сидел в зале Дворянского собрания на красном бархатном диване и слушал концерт симфонического оркестра, которым дирижировал восьмилетний Вилли Ферреро [13]13
Этот крохотный гениальный мальчик разъезжал по России, с огромным успехом в годы 1911–1913, выступая как дирижер огромного симфонического оркестра. Впечатление от его концертов было потрясающее. Несколько лет тому назад Вилли Ферреро умер.
[Закрыть].
Я не стенограф, но память у меня хорошая… Поэтому постараюсь стенографически передать тот разговор, который велся сзади меня зрителями, тоже сидевшими на красных бархатных диванах.
– Слушайте, – спросил один господин своего знакомого, прослушав гениально проведенный гениальным дирижером «Танец Анитры». – Чем вы это объясняете?
– Что?
– Да вот то, что он так замечательно дирижирует.
– Простой карлик.
– То есть, что вы этим хотите сказать?
– Я говорю, этот Ферреро – карлик. Ему, может быть, лет сорок. Его лет тридцать учили-учили, а теперь вот – выпустили.
– Да не может этого быть, что вы! Поглядите на его лицо! У карликов лица сморщенные, старообразные, а у Вилли типичное личико восьмилетнего шалуна, с нежным овалом и пухлыми детскими губками.
– Тогда, значит, гипнотизм.
– Какой гипнотизм?
– Знаете, который усыпляет. Загипнотизировали мальчишку и выпустили. Все ученые заявили, что под гипнозом человек может делать только то, что он умеет делать и в нормальной жизни. Так, например, девушку можно под гипнозом заставить поцеловать находящегося вблизи мужчину, но никак нельзя заставить говорить ее по-английски, если она не знала раньше английского языка.
– Серьезно?
– Ну, конечно.
– Тогда все это очень странно.
– В том-то и дело. Я поэтому и спрашиваю: чем вы объясняете это?
– Может, его мучили?
– Как это?
– Да вот, знаете, как маленьких акробатов… Рассказывают, что их выламывают и даже варят в молоке, чтобы у них кости сделались мягче.
– Ну, что вы! Где же это видано, чтобы дирижера в молоке варили?
– Я не говорю в буквальном смысле – в молоке. Может быть, просто истязали. Схватят его за волосы и ну теребить: «дирижируй, паршивец!» Плачет мальчик, а дирижирует. Голодом морят тоже иногда.
– Ну, что вы! При чем тут истязания. Вон даже клоуны, которые выводят дрессированных петухов и крыс, – и те действуют лаской.
– Ну, что там ваша ласка! Если и добиваются лаской, так пустяков, – петух, потянув клювом веревку, стреляет из пистолета, а крыса расхаживает в костюме начальника станции. Вот вам и вся ласка. А здесь – маленький мальчуган дирижирует симфоническим оркестром! Этого лаской не добьешься.
– Значит, по-вашему, его родители истязали? Странная гипотеза! – Он обиженно пожал плечами.
– Значит, по-вашему, выходит так: берем мы обыкновенного миловидного мальчика, начинаем истязать, колотить его по чем попало – и мальчишка через год-два уже дирижирует симфоническим оркестром так, что все приходят в восторг?! Просто же вы смотрите на вещи.
– Виноват! Вы вот все меня спрашиваете: объясни, да объясни. А как вы сами объясняете?
– Что? Вилли Ферреро?
– Да-с.
– Тут если и может быть объяснение, то гораздо сложней. Последние завоевания оптической техники.
– Вы думаете – посредством зеркал?
– То есть?
– Знаете, зеркало под известным углом… Фокусники достигают того, что…
– Нет-с, это пустяки. А видел я летом в «Аквариуме» механического живописца. Маленький человек, который собственноручно портреты с публики писал. Представьте себе, я узнал, как это делается: он соединен электрическим проводом с настоящим живописцем, который сидит за кулисами и рисует на другой бумаге. И что же вы думаете? Устроено так, что маленький живописец гениально точно повторяет все его движения и рисует очень похоже.
– Позвольте! Механического человека можно двигать электричеством, но ведь Ферреро живой мальчик! Его даже профессора осматривали!
– Гм! Пожалуй. Ну, в таком случае – я прямо отказываюсь понимать, в чем же тут дело?!
Я не мог больше слушать этого разговора.
– Эй, вы, господа! Все, что вы говорили, может быть, очень мило, но почему вам не предположить что-либо более простое, чем электрические провода и система зеркал…
– Именно?
– Именно, что мальчик – просто гениален!
– Ну, извините, – возразил старик – автор теории об истязании. – Вот именно, что это было бы слишком простое объяснение!
* * *
Подумайте только: на красном диване позади меня сидели люди, для которых мы пишем стихи, рассказы, рисуем картины, Шаляпин для них поет, а Павлова для них танцует.
Не лучше ли всем нам, танцующим, поющим и пишущим, с Шаля
пиным и Павловой во главе, заняться оптовой торговлей бычачьими шкурами? Я знаю немного бухгалтерию – возьму на себя ведение конторских книг.
А Вилли Ферреро будет у нас мальчишкой на посылках, – относить счета заказчикам… А?
Новый миллионер
Здравствуй, племя младое, незнакомое!..
Смешно сказать: в течение двух дней я встретил этого человека три раза; и он мне был совершенно чужд и ненужен! А существуют люди, которых любишь и с которыми хотел бы встретиться, – и не видишь их годами…
Первая встреча с этим человеком произошла у крупного ювелира, где я выбирал булавку для подарка, а «этот человек» (до сих пор не знаю, как его зовут) бессмысленно переминался с ноги на ногу у прилавка, тоскливо вздыхая и то распахивая, то запахивая роскошную шубу с бобровым воротником.
– Вам, собственно, что хотелось бы? – спрашивал терпеливый приказчик.
– Да вот этих купить… ну, каких-нибудь драгоценных камней.
– Каких именно?
– Эти беленькие – бриллианты? – Да.
– Значит, бриллиантов. Потом еще голубых я взял бы… красных… А желтеньких нет?
– Есть топазы.
– Это дорогие?
– Нет, они дешевые.
– Тогда не стоит. Бриллианты – самые дорогие? Они как – поштучно?
– Нет, по весу.
– Вот вы мне полфунтика заверните.
– Видите ли, так, собственно, нельзя. Бриллианты продаются на караты…
– На что?
– На караты.
– Это скучно, я этого не понимаю. Тогда лучше поштучно.
– Вам в изделии показать?
– А что шикарнее?
– Да в изделии можно носить, а так, отдельные камни – они у вас просто лежать будут.
– Тогда лучше изделие.
– Желаете, колье покажу?
– Хорошо… Оно дорогое?
– Сто двадцать-тысяч.
– Это ничего себе, это хорошо. Вот это оно? А почему же на нем одни белые камни? Хотелось бы чего-нибудь и зелененького…
– Вот вам другое, с изумрудом.
– Оно симпатичное, только куда я его надену?
– Виноват, это не мужская вещь, а дамская. Если жене подарить…
Незнакомец хитро прищурил один глаз:
– Экой вы чудак! А если я не женат?
– Гм! – промычал приказчик, усилием воли сгоняя с лица выражение отчаяния. – Вы, значит, хотели бы что-нибудь выбрать для себя лично?
– Ну да же! А вы что думали?
– Тогда возьмите кольцо.
– А оно сколько стоит?
– Смотря какое. Вот поглядите здесь: какое понравится.
– Вот это – почем? Голубенькое.
– Две тысячи пятьсот.
– Гадость. Мне тысяч на полтораста, на двести.
– Тогда бриллиантовое возьмите. Вот это – редкая вода: семнадцать с половиной тысяч.
– А дороже нет?
– Нет. Да ведь вы можете три взять!
– И верно ведь. Заверните. Вы думаете, что они достаточно шикарны?
– О, помилуйте, м-сье!
– Вы меня извините, но я в этом ничего не понимаю. Вот насчет бумаг я хорошо намастачился.
– Биржевых?
– Какая биржа! Я говорю о газетной бумаге, писчей, оберточной – все, что угодно! Получите за кольца. Вы их пришлите ко мне с мальчишкой – не хочется таскаться с этой ерундой. Или лучше я их на пальцы надену. Экие здоровые каменища. Не выпадут?
– О, помилуйте…
– А то выпадут – и пропало кольцо. Куда оно тогда? Вместо камня, дырка. Будто окно с выбитым стеклом. Прощайте.
* * *
В тот же день вечером я увидел его в мебельном магазине…
– Послушайте, – горячился он. – Поймите: если бы вы сказали мне: хочу иметь самую лучшую бумагу – я ответил бы: вот эта лучшая. А вы мне не говорите прямо, что хорошо, что нет. Вы говорите, что эта гостиная розового дерева, а эта – Людовика, ну? Какая же лучшая?
– Какая вам понравится…
– А которая дороже?
– Розового дерева. Тридцать семь тысяч двести.
– Ну, вот эту и заверните. Затем – какие еще есть комнаты у вас?
– Кабинет, спальня, столовая, передняя…
– А еще?
– Будуары еще есть.
– Ну, это всего шесть. А у меня десять комнат! Чем же их заставлять прикажете?
– А кто у вас еще будет помещаться в квартире?
– Я один!
– Гм!.. Можно тогда библиотеку.
– Семь! А еще?
– Можно тогда какую-нибудь комнату в русском стиле. Потом, ну… сделайте второй кабинет. Один для работы, другой… так себе.
Оба глядели друг на друга бессмысленными от натуги глазами и мучительно думали.
– Это девять. А в десятую что я поставлю?
– А десятую… сдайте кому-нибудь. Ну, на что вам одному десять? Довольно и девяти. Сдайте – вам же веселее будет.
– Это идея. Мне бы хотелось, чтобы эта комната была стильная.
– В каком стиле, м-сье?
– В хорошем. Ну, вы там сами подберите. Охо-хо… Теперь подсчитайте – сколько выйдет?
* * *
А на другой день я, к своему и его удивлению (он уже начал привыкать к моему лицу), встретил его на картинной выставке.
Он поместился сзади меня, поглядел из-за моего плеча на картину, перед которой я стоял, и спросил:
– Это – хорошая?
– Картина? Ничего себе. Воздуху маловато.
– Да! Дышать нечем. А я уже, было, хотел купить ее. Вижу, вы долго смотрите – значит, думаю, хорошая. Я уже три купил.
– Какие?
– Да вот те, около которых стоят. Я себе так и думаю: те картины, около которых стоят, – значит, хорошие картины.
Я принял серьезный деловой вид.
– А сколько людей должно стоять перед картиной, чтобы вы ее купили?
– Не меньше десятка, – так же серьезно ответил он. – Не меньше. Три, пять, шесть – уже не то.
– А вы – сообразительный человек.
– Да, я только ничего не понимаю во многом. А природный ум у меня есть. Вы знаете, как ловко я купил себе автомобиль? Я ведь в них ничего не понимаю… Ну, вот, прихожу в автомобильный магазин, расхаживаю себе, гуляю. Вижу, какой-то господин выбрал для себя машину… осмотрел он ее, похвалил, сторговался, а когда уже платил деньги, я и говорю: «Уступите ее мне, пятьсот отступного»… Удивился, но уступил. Хороший такой господин.
– У вас, очевидно, большие средства?
– Ах, и не говорите. Намучился я с ними… Вы уже уходите? Пойдем, я вас подвезу на своей машине… Прогуляться хотите? Ну, пойдем пешком…
* * *
Взяв меня под руку, он зашагал подле, заискивающе глядя мне в глаза и согнувшись в своей великолепной шубе…
– Скажите, лошадь иметь – шикарно?
– Очень.
– Надо бы купить. Знаете что? Я в лошадях ничего не понимаю. Вы купите лошадь, с этой самой… с повозкой! А потом продайте мне с надбавкой. Заработаете – и мне спокойнее.
– Нет, я этими делами не занимаюсь.
– Жалко. На кого это вы так посмотрели?
– Дама одна прошла. Красивая.
– Серьезно, красивая?
– Да, очень. Эффектная!
– Слушайте, а что если ее взять на содержание?
– Почему непременно ее?!..
– Я в этом, видите ли, ничего не понимаю, а вы говорите – красивая. Возьму ее на содержание, а?
– Позвольте! А вдруг это порядочная женщина?
– Ну, извинюсь. Большая беда. Сколько ей предложить, как вы думаете?
– Ей-Богу, затрудняюсь.
– Предложу три тысячи в месяц, черт с ним…
Он догнал даму, пошел с ней рядом… Заговорил… На лице ее последовательно выразились: возмущение, удивление, смущение, недоверчивость, колебание и, наконец, – радость, розовым светом залившая ее красивое лицо.
Покупатель бумаги нашел самое нужное в своей пустой жизни…
* * *
И подумал я:
«Теперь ты научишься и бриллианты покупать с. толком, и обстановку выбирать в настоящем стиле, и лошадь у тебя будет не одна, а двадцать одна, и картины появятся такие, перед которыми будут останавливаться не десятки, а сотни, и во всем поймешь ты смысл и толк… и когда поймешь ты все это, как следует, – не будет у тебя ни картин, ни лошадей, ни бриллиантов, ибо есть справедливость на земле, ибо сказано: из земли взят, в землю и вернешься».
Люди с прищуренными глазами
I
Хотя близорукость – физический недостаток и хотя над физическими недостатками смеяться не принято, но я думаю, что несколько слов о близорукости мне можно сказать.
Постараюсь не хихикать, не подсмеиваться над несчастными, обиженными природой людьми, тем более что сам я близорук очень сильно и сам я перенес из-за этого много неприятностей и огорчений, о которых дальнозоркие люди и не слыхивали.
Вообще, дальнозоркие люди не могут себе представить, что такое близорукость, а близорукие смотрят на дальнозорких, как на что-то чудесное, непонятное и загадочное.
Однажды я, мельком, слышал такой разговор:
– Видите вы на той крыше кошку? Что это она там делает у водосточной трубы?
– Кошку? Я не вижу даже самой крыши!
– Как не видите? Вот эта большая, красная.
– Я вижу что-то красненькое, но, признаться, думал, что это флаг.
– Флаг?! Вы, наверно, притворяетесь… Просто дурачите меня.
– А я так, откровенно говоря, уверен, что это вы подсмеиваетесь надо мной. Я никак не могу понять, как это можно видеть на таком расстоянии кошку!
– Да? А вот вы убейте меня – я не пойму, как это на таком расстоянии можно не увидеть кошки! Она вся, как на ладони. Видите, лапой что-то скребет…
– Ха-ха! Может быть, она блоху поймала? Вы блохи не видите? Ну, признайтесь – ведь вы выдумали вашу кошку?
Так они долго говорили на разных языках.
Часто близорукие обладают странным свойством: тщательно скрывать свой недостаток. И из-за этого происходит много недоразумений, и многие попадают в неловкое положение.
Вы сидите в ресторане и неожиданно замечаете какого-то нового господина, который только что вошел в комнату. Вы не уверены – знаете вы его или нет. Лицо его сливается издали в бледное туманное пятно, на котором неясно отмечаются один глаз и какая-то черная повязка поперек лица.
Вы начинаете мучительно размышлять, знакомы вы с ним или нет?
Сомнения рассеиваются: новоприбывший сделал вам приветственный знак рукой, и вы, чувствуя, что он смотрит прямо на вас, меняете бессмысленное выражение лица на приветливо-радостное, вскакиваете с места и спешите к нему.
И, по мере приближения к этому господину, вы замечаете, что на его туманном, будто расплющенном лице появляется второй, недостававший ранее глаз, а черная трагическая повязка, которая казалась вам результатом какого-нибудь телесного повреждения, на самом деле – черные густые усы. И на расстоянии двух шагов от него вы уже начинаете сомневаться – знакомы ли вы с ним, а через один шаг уже уверены в том, что видите его в первый раз.
Но на вашем лице застыла первоначальная радостно-приветливая улыбка, и вы так и не успели согнать ее, а незнакомец уже заметил ваше поведение, заметил эту, такую глупую по своей ненужности, радостную улыбку, и смотрит на вас с чувством изумления и растерянности.
Чтобы рассеять как-нибудь это тяжкое глупое положение, вы, сохраняя на лице ту же глупейшую улыбку, глядите куда-то вдаль, делаете кому-то приветственные знаки, хотя впереди вас, кроме притворенной двери, никого нет, проскальзываете мимо незнакомца и в растерянности выпиваете у буфета рюмку водки, которая так противна после съеденных вами трубочек с кремом…
Еще более тяжелое впечатление получается, когда вы входите в ресторан, битком набитый публикой.
Проходя среди длинного ряда столиков, за которыми сидят странные люди без носов, глаз и губ, вы видите, что некоторые из них, как будто, при виде вас зашевелились и кланяются вам. Тогда вы, чтобы не показаться невежливым и вместе с тем не попасть в глупое положение, слегка наклоняете голову, делая что-то среднее между поклоном и отмахиванием от севшей на лоб мухи. А на лице блуждает та же бессмысленная неопределенная улыбка, и хочется скорее проскользнуть мимо этой проклятой публики со стертыми белыми пятнами вместо лиц, – тем более что сзади вы ясно слышите дружеский голос, позвавший вас по имени.
Вы хотите улизнуть, но тот же голос еще раз ясно и настойчиво окликает вас и – здесь наступает самый трагический момент: вы поворачиваетесь, с глупой улыбкой посматриваете на расплывшийся ряд столов и недоумеваете – с какого же стола слышался голос? На всякий случай дружески киваете головой толстому брюнету, подносящему ко рту какое-то желтое пятно (вино? яичница? платок?), в то самое время, как сзади вас дергают за фалды и говорят:
– Да здесь мы, здесь! Вот чудак! Неужели ты нас не видишь? Иди к нам.
«Неужели не видишь?!» Да конечно же не вижу! Господи…
II
Многие, вероятно, испытывали чувство, когда уронишь на пол пенсне и немедленно же попадаешь в положение человека, которому завязали глаза.
Человек, уронивший пенсне, прежде всего, как ужаленный, отскакивает от этого места, потому что боится раздавить ногами пенсне, отходит в самый дальний угол комнаты, становится на колени и начинает осторожно ползти, шаря по грязному полу руками. Его поиски облегчились бы, если бы на носу было пенсне, но для этого его надо найти, а найти пенсне, не имея его на носу, – затруднительно, сложно и хлопотливо.
Хорошо, если вблизи находится дальнозоркий человек. Он с молниеносной быстротой найдет пенсне, но при этом не упустит случая облить своего несчастного друга и брата – такого же человека, как и он сам, – ядом снисходительного презрения и жалости:
– Да где ты ищешь? Вот же оно! Эх ты! Слепая курица!
Я часто замечал, что дальнозоркие люди презирают нас и не прочь, если подвернется случай, подшутить, посмеяться над нами.
Один знакомый потащил меня в театр и там сделал меня целью самых недостойных шуток и мистификаций… А я даже и не замечал этого.
Сначала он не знал, что я близорук, и открылось это лишь благодаря простой случайности. В антракте после первого действия мы стояли в ложе бельэтажа, и мой знакомый рассматривал публику партера. Я стоял около и равнодушно обводил глазами тусклые белые пятна лиц, смутно проплывавших перед моими глазами.
– Смотрите, – сказал мой знакомый, дергая меня за руку. – Вот новый французский посланник!
– Где?!
– Вот видите, – внизу, около той ложи, в которой сидит декольтированная дама в сером.
Я хотел сознаться, что не вижу ни дамы, ни ложи, но боязнь бестактных насмешек и разговоров удержала меня от этого.
Я наклонился через барьер, бросил бессмысленный взгляд на опущенный занавес и с деланным оживлением воскликнул:
– Ах, вижу, вижу. Вот он.
– Да не туда! Вы совсем не туда смотрите!.. Влево, около второй ложи.
Я покорно повернул голову влево и, стараясь, чтобы он не проследил направление моего бесцельного взгляда, сказал:
– Ага! Вот он. Теперь я его узнал.
– Удивительно! Он только что сейчас скрылся в проходе. Как же вы могли его узнать?
– Да вы про кого говорите? – смущенно спросил я.
– Про того высокого в белых брюках, который стоит около оркестра?
– В белых брюках? – ахнул мой собеседник. – Протрите глаза! Там стоит господин, но цвета брюк его не видно, потому что его заслоняет дама в белом платье. Послушайте!!.. Вы дьявольски близоруки…
Я стал энергично отрицать это, и мое нахальство обидело его.
Он помолчал и через минуту, вглядываясь в толпу, шевелившуюся внизу, сказал:
– Вот идет ваш знакомый Петрухин. Он кланяется вам. Почему же вы не отвечаете ему?
Я перевесился через барьер и неопределенно закивал головой, закланялся, заулыбался.
– Смотрите, – тронул меня за плечо знакомый.
– Вдова Мурашкина с дочерьми – вон, видите, в ложе, что-то говорит о вас… Почему-то укоризненно грозит вам пальцем…
«Вероятно, – подумал я, – я им не поклонился, а Мурашкины никогда не прощают равнодушия и гордости».
Раскланялся я и с Мурашкиными, хотя никого из них не видел.
В этот вечер мой знакомый тронул меня до слез своей заботливостью: он беспрестанно отыскивал глазами людей, которые, по его словам, делали мне приветственные знаки, посылали дружеские улыбки, и всем им я, со своей стороны, отвечал, раскланивался, улыбался, принимая при этом такой вид, что замечаю их всех и без указаний моего знакомого…
А когда мы возвращались из театра, этот пустой ничтожный человек неожиданно расхохотался и заявил, что он все выдумывал: ни одного знакомого в театре не было, и я по его указаниям посылал все свои улыбки, поклоны и приветствия черт знает кому – или незнакомым людям, или гипсовым украшениям на стенах театра.
Я назвал этого весельчака негодяем, и с тех пор ни одна душа не услышит от меня о нем доброго слова. Наглец, каких мало.
Вообще театры пугают меня после одного случая: однажды я приехал в театр с опозданием – к началу второго действия и, впопыхах сбросив пальто на руки капельдинера у вешалки, ринулся к дверям. Но капельдинер бешено взревел, бросил мое пальто на пол, догнал меня и схватил за шиворот.
– Как вы смеете, черт возьми? – крикнул он.
Оказалось, что это был полковник генерального штаба, приехавший за минуту до меня и только что раздевшийся у вешалки.
Мы стали ругаться, как сапожники, и я заявил, что пойду сейчас к околоточному составить на него протокол. Я побежал по каким-то коридорам, после долгих поисков нашел околоточного и задыхающимся голосом сказал:
– Меня оскорбили, г. околоточный. Прошу составить протокол.
– Убирайтесь к черту! – завопил он. – Какой я вам околоточный?!
Когда я рассмотрел его, – он оказался тем же полковником генерального штаба, на которого я снова наткнулся в полутьме.
Изрытая проклятия, я опять побежал, нашел околоточного (уже настоящего) и, приведя его на место нашей схватки, указал на стоявшего у вешалки полковника:
– Вот он. Ругал меня, оскорблял. Арестуйте его.
И поднялся страшный крик и суматоха. Офицер назвал меня в конце концов идиотом, и я не спорил с ним, потому что после десятиминутных пререканий выяснилось, что это другой офицер, а тот, первый, давно уже ушел.
Все ругали меня: офицер, околоточный, капельдинеры…
Было скучно и неприветливо.
III
Однажды я изменил своим убеждениям.
Будучи прогрессистом, я, вообще, держусь такого взгляда, что с домашней прислугой обращаться должно строго и хотя и вежливо, но без тени фамильярности. Иначе прислуга портится.
В один дождливый вечер я зашел к знакомым. Радостно, всей гурьбой высыпали знакомые в переднюю встретить меня, и я стал дружески со всеми здороваться.
Седьмое рукопожатие предстояло мне проделать с молодой барышней в кокетливом переднике, но едва я протянул ей руку, – она спряталась назад и ни за что не хотела здороваться, хихикая и конфузясь. Сбитый с толку, недоумевающий, я настаивал, искал ее руку, а хозяева смущенно засмеялись и объяснили, что она – горничная.
Была преотчаянная минута всеобщего молчания и неловкости.
Не зная, что мне делать, я сказал:
– Все равно. Я все-таки хочу с ней поздороваться. Она такой же человек, как и мы, и, право, давно уже пора разрушить эти нелепые сословные перегородки…








