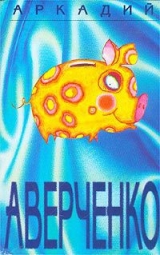
Текст книги "Том 6. Отдых на крапиве"
Автор книги: Аркадий Аверченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 32 страниц)
Аркадий Тимофеевич Аверченко
Собрание сочинений в шести томах
Том 6. Отдых на крапиве
Смешное в страшном
Извинение автора
Не преступление ли – отыскивать смешное в страшном?
Не кощунство ли – весело улыбаться там, где следовало бы рвать волосы, посыпать пеплом главу, бия себя в грудь, и, опустившись на колени возле вырытой могилы, долго неутешно рыдать?..
Вот два вопроса, которые были бы совершенно правильны, если бы… около нас был, действительно, настоящий труп.
Но Россия – не труп. Долго хлопотали, много сделали для того, чтобы превратить ее в неподвижное, гниющее, мертвое тело, однако – руки коротки у горе-хирургов. Пациентка все-таки жива.
У нее выпустили кровь, – новая кровь разольется по жилам и могучими бодрыми толчками пробудит к деятельности затихшее сердце.
Ей выкололи глаза, а она уже начинает прозревать.
Вырезали язык, а она говорит. Пока еще тихо, бессвязно, но будет час, загремит ее голос, как гром, и многие подлецы и шулера задрожат от ужаса, а для нас это будет раскатом весеннего грома, за которым следует бодрый, теплый дождик, освежающий, смывающий всю грязь.
Ей отрезали руки, ноги… Ничего! Придет час – срастется все. Еще крепче будет.
Ну, видите? При чем же здесь битье в грудь и посыпание скорбных глав пеплом?..
Значит, смеяться можно.
Больше того, – смеяться должно. Потому что у нас один выбор: или пойти с тоски повеситься на крючке от украденной иконы, или – весело, рассыпчато рассмеяться.
* * *
Здесь, перед вами – «очерки нового быта», выкованного мозолистыми руками пролетариата: Зиновьева, Троцкого и Ко…
Аркадий Аверченко
Контроль над производством
Один из краеугольных камней грядущего рая на земле – Третьего Интернационала, это:
– Контроль над производством. Твердо знаю, во что эта штука выльется.
* * *
Писатель только что уселся за письменный стол, как ему доложили:
– Рабочие какие-то пришли.
– Пусть войдут. Что вам угодно, господа?
– Так что мы рабочий контроль над производством. Выборные.
– Контроль? Над каким производством?
– Над вашим.
– Какое же у меня производство? Я пишу рассказы, фельетоны… Это контролю не поддается.
– Все вы так говорите! Мы выборные от типографии и артели газетчиков, и мы будем контролировать ваше производство.
– Виноват… Как же вы будете осуществлять контроль?
– Очень просто. Вот мы усаживаемся около вас, и… вы, собственно, что будете писать?
– Еще не знаю: темы нет.
– А вы придумайте.
– Хорошо, когда вы уйдете – придумаю.
– Нет, вы эти старые штуки оставьте! Придумывайте сейчас.
– Но не могу же я сосредоточиться, когда две посторонних физиономии…
– Простите, мы вовсе не посторонние физиономии, а рабочий контроль над вашим производством! Ну?
– Что «ну»?
– Думайте скорей.
– Поймите же вы, что всякое творчество – такая интимная вещь…
– Вот этого интимного никак не должно быть! Все должно делаться открыто, на виду и под контролем.
Писатель задумался.
– О чем же это вы призадумались, позвольте узнать?
– Не мешайте! Тему выдумываю.
– Ну, вот и хорошо. Только скорее думайте! Ну! придумали?
– Да что вы меня в шею гоните.
– На то мы и контроль, чтобы время зря не пропадало. Ну, живей, живей!..
– Поймите вы, что не могу я так сосредоточиться, когда вы каждую секунду с разговорами пристаете!
Рабочий контроль притих и принялся с любопытством разглядывать лицо призадумавшегося писателя.
А писатель в это время тер голову, почесывал у себя за ухом, крякал и, наконец, вскочил в отчаянии:
– Да поймите же вы, что нельзя думать, когда четыре глаза уставились на тебя, как баран на новые ворота.
Рабочий контроль переглянулся.
– Замечаете, товарищ? Форменный саботаж! То ему не разговаривай, то не смотри на него, а то он еще, пожалуй, и дышать запретит! Небось, когда нас не было – писал! Тогда можно было, а теперь нельзя? Под контролем-то, небось, трудно! Когда все на виду, без обману, – тогда и голова не работает?!.. Хорошо-с!.. Так мы и доложим, куда следует!
Рабочий контроль встал и, оскорбленный до глубины души, топоча ногами, вышел.
* * *
От автора.
В доброе старое время подобные произведения кончались так:
«…На этом месте писатель проснулся, весь облитый холодным потом».
Увы! Я кончить так не могу.
Потому что хотя мы и обливаемся холодным потом, но и на шестом году еще не проснулись.
Собачьи мемуары
43-го числа.
Если в Петербурге кто сейчас и в моде, – так это мы, собаки.
О нас только и разговоров, наше имя у всех на устах. На каждом шагу слышим:
– Собачья жизнь! В квартире собачий холод! Голоден, как собака! Собаке – собачья смерть!
А однажды я сама, своими ушами слышала:
– Писатель Горький стоит перед советской властью на задних лапках.
Так что отныне я могу называть Горького коллегой: оба пишем, оба умеем на задних лапках стоять.
* * *
53-го этого месяца.
Не только мы, но и наш язык стал входить в моду.
Один человек шел по улицам и говорит другому:
– Вот пошел глав кав арм.
Услышав собачьи звуки, я вежливо ответила: «гав, гав, арр!», но потом приятельницы объяснили мне, что я ввязалась в разговор совершенно неуместно. Люди разговаривали о главнокомандующем кавказской армией.
* * *
0027-го числа.
Разговору о нас много, а жрать нечего.
Мой хозяин раньше хоть корочку хлеба швырял на пол, а теперь я по целым часам сижу против стола и все время так виляю хвостом, что он даже делается горячий. Намек прозрачный, но хозяин делает вид, что не понимает…
Хуже того, – вчера я нашла на заднем дворе баранью кость с немножечком мяса, приволокла домой и спрятала под комод до ужина.
Семья хозяина увидела это, все бросились под комод, вынули кость и стали варить из нее суп, а меня выгнали из дому, – я думаю, с тайной надеждой, что я приволоку еще чего-нибудь.
Ужасно как есть хочется. Как собаке.
* * *
721-го числа.
Мы вошли в такую моду, что вчера, например, приятельница по секрету сообщила мне:
– Знаешь, говорят, у хлебных лавок выросли хвосты.
– Длинные?
– С полверсты.
– Ого! Воображаю, сколько в них блох.
* * *
Число забыла.
Видела хвост хлебной лавки. Мало похож на наш. Правда, вертеть им можно как угодно, но и только.
– Зачем этот хвост? – спросила я мизерную собачонку, шнырявшую подле.
– На хлеб. Стань сзади и ты получишь хлеб. Неглупо. Вежливо встала сзади всех, – ждала, ждала, – вдруг говорят:
– Хлеб получит только первая половина хвоста! Хорош был бы мой хвост, если бы я одну его половину питала, а другую нет.
Расходясь, все говорят:
– Собачья жизнь… Приятно, но не сытно.
* * *
Сегодняшнее.
Украла у мальчишки нищего кусочек хлеба, как дура, притащила домой, – опять хозяева отняли. Меня только погладили (подавитесь вы своим глаженьем), а маленькая дочка, глотая хлеб, просила:
– Мама, отдай меня в собаки!
* * *
Число собачье.
Отчаяние и ужас! Я знаю, что все собаки отвернутся от меня с презрением, но я больше не могу: пойду на улицу просить милостыню! Мне, породистой собаке, протягивать лапу, стоять на задних лапках, как какому-нибудь Горькому!
Но… будь что будет!
Чувствую, что вся покраснела от морды до кончика хвоста, когда, впервые в жизни, пролаяла сакраментальные слова:
– Подайте хлебца честной русской собаке! И пошло с тех пор…
* * *
Число такое-то.
Мое место на углу Невского и Владимирского – оказалось настолько интересным и доходным, что уже две собаки предлагают купить его за бараний череп и половину дохлой крысы…
Уже почти все собаки клянчат по углам милостыню.
Развратила нас коммуна.
Тайна графа Пурсоньяка (a la совдеп)
В одном из московских кинематографов показывают картину: «Тайна графа Пурсоньяка».
Еще до начала сеанса в кинематограф набивается масса скучающей, угрюмой, полуголодной публики.
Топают ногами, как косяк лошадей, нетерпеливо дожидаясь той минуты, когда можно будет, забыв окружающую прозу, с головой окунуться в сладкий одуряющий мир волшебной грезы, красоты и чарующего вымысла.
Электричество гаснет.
Темнота.
Чей-то голос, спотыкаясь на длинных словах, громко читает надпись на экране:
– «Тайна графа Пурсоньяка, или Отцвели уж давно хризантемы в саду»… «Граф Пурсоньяк потерял свою жену через два года после свадьбы».
– Вишь ты, – раздается в темноте сочувственный голос. – Отчего же она так скоро скапустилась?
Другой, тоже невидимый, отвечает:
– Мало ли? Сыпнячок или просто соседи на мушку взяли…
«После жены у графа осталась дочь, которую убитый горем отец отвез учиться в монастырь».
– Вот тебе!.. И отец, оказывается, убитый! Не повезло семейке…
– Дубина! Нешто это совсем убитый? Сказано тебе: убитый горем. Значит, не до конца. А только почему это он дочку сдал в монастырь? Нешто в монастырях учат?
– И очень просто: монастырь реквизировали, монахов по шеям, а замест этого – школа! Штука простая. А это что? «Когда дочь выросла, граф поехал, чтобы взять ее из монастыря»…
– Ах ты, чтоб тебя… Граф-то, товарищи, оказывается, комиссар!
– Тю на тебя! Откеда высосал?
– На автомобиле ж едет, Господи! «В лесу он встречает дочь дровосека, Генриэтту»… Во, братцы, лесу-то сколько, видали? Всю Москву обтопить можно! Хи, хи… Об чем это он с ней?
– Видимое дело, об дровах… не может ли, дескать, ваш папаша нам возика два дров предоставить… Гляди, гляди – душит ее. Ай да граф!
– Дурень ты не нашего Бога, – где душит? Обнимает он ее, а не душит…
– Ах ты ж, имперлист проклятый! Туда же!.. Хи-хи… До слез девку довел. А это чего? «В это время бедный дровосек сидел за своим скромным ужином»… Чего это он?.. Ах, чтоб тебя переехало! Ей-Богу, винище трескает и сыром заедает! Вот те и скромный! А сбоку говядина и булка. Ай да скромный!! Картинка-то французская? Ну и брехло ж эти французы. Дровосек, а? Хорош дровосек!
– А где ж жена евонная?
– Надо полагать, в очереди стоит.
– И то. Этакое брюхо набить – в десяти очередях настоишься. Ага! Ружье со стены снимает… Ну, теперь – баста! Сейчас этого графа к стенке…
– Где ж ты в лесу стенку найдешь?
– Ну так, может, заборчик какой…
– Именно вот. Для тебя, дурака, построили.
– Мне не требовается.
– А не требовается, так и не лезь со своим заборчиком! Не знаешь ты французского поведения, так и молчи. У них первое дело: «Позвольте вас пригласить, мусью, на дуэль»… – «Благодарю вас, хоша я не стреляю, ну да уж только для вас!» А ты – со своим забором; деревня!
– Нет, братцы, тут другое… Ишь ты: «Заблудившись в лесу, на графа нападает волк, но дровосек убивает волка. Первый горячо благодарит второго».
– А что, товарищи, волков едят?
– Отчего ж… Та же собака, только формат побольше.
– Да что ж это они от волка уходят, даже не оглянувшись. Эй, товарищи! Съестное забыли!
– Чего кричишь, дура! Думаешь, услышат?
– Ты б ему по-французскому крикнул, может, и обернется…
– «Часть вторая. Приехав в город, ничего не подозревающий отец заходит в магазин»…
– Это чего ж такое?! Ах, чтоб ты провалился! Ведь это он, товарищи, мануфактуру покупает.
– И без очереди.
– Без ордера от совнархоза!!
– Да, может, он сам ее и реквизирует!..
– Дровосек-то?
– А дровосек не может быть комиссаром?
– «… А в это время старый фермер, крестный Генриэтты, сидя у себя в саду, попивал вино»… Эк, их распьянствовало!.. Все тянут! Интересно, откуда этот старый черт вина достал?
– Самогон, я думаю.
– Темный-то? Орясина! Самое настоящее красненькое.
– Ну, значит, реквизировал. Тоже, поди, комиссар!
– Да ну вас всех к чертям. И граф у них комиссар, и дровосек комиссар, и фермер комиссар… Свои надоели так, что в собаку плюнешь, в комиссара попадешь – деваться некуда! Пойдем, ребята!
* * *
При выходе.
– А что, товарищи, смотрели вы картинку? Стоющая?..
– Не особо чтобы. Дело, видите ли, в том, что у комиссара жена от сыпняка кончилась, а он, осерчамши, всех монахов из монастыря повыкидывал, да дочку туда и втисни. Реквизировал автомобиль, да и давай по дровосековым дочкам ездить. Не стерпел этого ейный папенька, уложил съедобного волка и реквизировал всю мануфактуру, как говорится: завей горе веревочкой! Только всего и видели!
Теория Эйнштейна и теория Ползункова
Дело происходило в полуразвалившейся избушке одного из оазисов дикой Совдепии…
Туземцы, одетые в звериные шкуры и в башмаки из невыделанной кожи дохлой лошади, обступили туземца, одетого довольно прилично и только что вернувшегося из служебной командировки в Европу. Исступленное любопытство было написано на всех лицах…
– Ну, что? Ну, как там? Есть что нового? Привезли что-нибудь свеженькое?
– Да, да, – глубокомысленно кивнул головой приехавший. – Есть масса любопытного. Вы ведь совсем дикарями сделались, от Европы отстали, а там жизнь бьет ключом.
– То есть, кого бьет? – испуганно поежился скелетовидный совдепец.
– Никого. Сама по себе. Ах, какие открытия! Какие изобретения! Слышали вы, например, об открытии Штейнаха и о теории Эйнштейна?..
– Где уж нам!
– То-то и оно. Плесенью вы тут покрылись. Есть такой немец – Штейнах – и открыл он, что всякого человека можно обмолодить как угодно. Скажем, сколько тебе лет? 50? Пожалуйте, – вам уже 25 лет! Вам, молодой человек, 80? Чик, чик ножичком, – извольте получить, – вам уже 18 лет…
– Да как же он это делает, немецкая морда?
– А очень просто: железы старикам вырезывает.
– Которые железы?
– А черт его знает. Ему уж это видней.
– Как же он дошел до этого?
– Ну, как обыкновенно ученые доходят: взял человека, вырезал ему железу, а тот – глядь-поглядь – глаза закатил да и помер. «Давайте другого, – кричит Штейнах, – не туда ножиком заехал». Пожалуйте вам другого. Резанул другого, по другой железе, – икать стал старичок. Опять не туда! «Третьего давайте!» На восьмом, не то на девятом дошел до настоящей железы.
– То есть, как дошел?
– А вот этак: вырезал он старичку одному железу, а тот как вскочи, да сестру милосердия за талию: барышня, пойдем мазурку танцевать. «Матчиш, – испанский танец, шальной и жгучий!»… «Мне, – говорит, – теперь двадцать лет, и я хочу безумствовать!» Вырвался из рук и пошел по всей палате козла выкидывать. Ну, конечно, кое-как успокоили и в среднее учебное заведение определили!
– До того обмолодился?
– До того. Но, конечно, еще более заковыристая штука – теория Эйнштейна. Я читал – прямо за животики брался. И ведь все верно, все верно, не уколупнешь!
– Он, что же, скажите: тоже насчет старости?
– Нет, почище будет: всю геометрию распотрошил! Всю математику к чертям собачьим размотал.
– А именно-с?
– Помилуйте! «Вы, – кричит, – говорите тут, что между двумя точками прямая линия самая короткая, а я вам говорю, что это брехня! Может, кривая линия короче прямой!» Начинает доказывать – и верно! Кривая короче прямой. «Вы, – кричит, – говорите, что геометрическая линия не имеет толщины, ан нет! Имеет она толщину!» Ученые глядь-поглядь, – действительно имеет. «Какой осел сказал вам, что параллельные линии, сколько бы мы их не продолжали, – не сойдутся?!» Ученые, действительно, попробовали, построили параллельные линии – и что же! На шестисотом километре сошлись! «Я, – говорит, – вам все докажу! По-вашему дважды девять – восемнадцать, а по-моему, может, двадцать девять». Очень строгий мужчина! Такого накрутил, что теперича все заново нужно переделывать, – и математику, и геометрию, и геодезию всякую!
– Виноват, как, вы говорите, это называется?
– Чего-с? Это? Теория Эйнштейна.
– Так-с. Слушали мы вас, слушали, а теперь вы нас послушайте! У вас теория Эйнштейна, а у нас теория Ползункова. Изволили знать Ивана Егорыча Ползункова?
– Нет-с, не знаю.
– То-то и оно. Мы, правда, от Европы отстали, но и Европа-матушка от нас отстала – корпусов на двадцать!
– Был, изволите видеть, у нас такой человек, Иван Егорыч Ползунков, по бывшему его местоположению – учитель географии в уездном училище, а по нынешнему – при рубке дров состояли, саночки на себе возили… И додумался этот русский Эйнштейн до такой теории: «Ребята, – говорит он, – есть нам окончательно нечего, а есть надо. Шишек же еловых и сосновых в лесу сколько угодно. Африканские обезьяны их очень обожают. Если вы их сразу начнете жрать, то все передохнете в одночасье… То есть не обезьян жрать, а шишки. Наука же говорит, что постепенно можно приучить свой организм к чему угодно. И делайте, – говорит он, – вы так: выдается вам хлеба в день 24 золотника, а вы съешьте 23 золотника и одну еловую шишку; на другой день введите внутрь организма 22 золотника хлеба и 2 еловые шишки, потом 21 золотник и 3 шишки. Через 24 дня уже хлеб вам не нужен, – его вытеснит порцион в 24 еловые шишки, что и требовалось доказать». Так же и насчет одежды. «Скоро, – говорит, – у вас ее совсем не будет, и вы обмерзнете, как какие-нибудь дураки! А поэтому надо завести постепенно собственную шерсть. Я, – говорит, – братцы, читал в „Смеси“, что если лысый человек сидит в холодном помещении без шапки, то у него на голове очень просто начинают расти волоса». Вот по этой, значит, теории Ползункова и нужно постепенно приобретать волосяной покров, вроде собачьего меха. Срежьте один рукав на руке, выставьте ее гольем на холод, – она через месяц обрастет и ей будет тепло; срежьте другой рукав, обрежьте левую штанину, потом правую, на спине кус вырежьте – да через полгода вас родная мать не узнает: что это, мол, за горилла, – здравствуйте вам, – по лесу ходит, еловые шишки запросто жует?! Вот оно как, товарищ приезжий из Европы!
– Вы, собственно, что же этим хотите сказать?
– А то-с. У вас там теория Эйнштейна, а у нас теория Ползункова! И наш Ползунков всегда вашего Эйнштейна крыть может, и некуда немцу будет от ползунковских козырей деваться, потому ихняя кишка супротив нашей – дюже тонка-с!!..
Улитки
Голое, неприветливое, холодное поле… И по нему расползлись во все стороны сотни тысяч, миллионы улиток.
Ползет этакая маленькая беззащитная штучка, таща на своей спине хрупкий, прихотливо завивающийся спиралью домик, вдруг услышала шум, втянула внутрь свои рожки, втянулась вся – и нет как будто ее.
А по полю шагают, тяжело ступая, чьи-то огромные ноги в корявых, подбитых железом и медью сапожищах.
Ступил сапог раз – сотни улиток нет, ступил сапог другой раз – двух сотен нет…
Вместо прехорошенького домика, вместо хрупкого клейкого тельца, – бесформенная слизь, перемешанная с мелкими осколками.
* * *
Вся наша Россия распалась на два лагеря: на лагерь улиток, ползущих куда-то в неведомую даль с крохотным домиком на спине…
И на лагерь огромного, корявого, подбитого железом и медью сапога, шагающего по улиткам, стремящегося тоже черт его знает куда, черт его знает за чем.
* * *
Встретил я на севастопольской улице одну знакомую Улиточку со своим домиком-чемоданом на спине, приползшую сюда из Одессы. (Это было как раз в дни недоброй памяти одесской эвакуации – начало февраля.) Она буквально ползла пешком с пристани, изредка останавливаясь, спуская свой домик-чемодан на землю и тяжело дыша.
– Здравствуйте, Улиточка, – приветствовал я. – Откуда ползете?
– Из Одессы. Позавчера выехали.
– Ого! Быстро же вы двигаетесь. Вот уж нельзя сказать: Улита едет, когда-то будет.
– Да, – засмеялась она. – Мы, одесские улитки, – молниеносные улитки: раз, два и готово!
– Именно, что готово. Ловко распорядились. А теперь куда ползете?
– В гостиницу. Номер искать.
– Трудновато будет. Хотя за последние дни часть улиток и уползла за границу, но теперь эта ваша одесская эвакуация все щели забила. Многие ваши одесситы на улице будут.
– Ну, что ж делать, – вздохнула Улитка. – Как эвакуокнется, так и откликнется.
– Зачем вы Одессу сдали? – с любопытством осведомился я.
– Да кто ее там сдавал! Сама сдалась. Такой странный город. Ну-с, поползем.
* * *
К общему удивлению – моему, улиткиному и швейцарову – номер Улитка нашла.
– Вот это такой номер? – вползла Улитка в домик, немного больший, чем ее домик-чемодан.
– Да-с, – уверенно сказал швейцар. – Такой номер.
– Странный номер.
– Так точно. Многие удивляются.
– Постельное белье можно?
– Чего-о?
– Постельное белье!
– Первый раз слышу, – удивился швейцар.
– Ну, самовар.
– Еще чего захотите!
– И ужина нельзя получить?
– Да что вы, мадам! Это ведь – гостиница, а не дворец командующего.
Улитка раскрыла свой чемодан и, роясь в нем, деловито спросила меня:
– Чаю хотите?
– Да ведь нет чаю.
– Я устрою. Съесть чего-нибудь горяченького хотите?
– Издеваетесь!
– Вот увидите.
Дальнейшее показалось мне волшебным сном, сказочной иллюстрацией того, до чего может приспособиться улитка в своей ползучей жизни.
Она вынула из чемодана чайник; она вынула из чемодана спиртовую машинку; она вынула из чемодана маленькую сковородку, яйца, сало, ветчину и хлеб, она вынула сахар и конфеты.
– Ну, вот, – весело пискнула Улитка. – Пока вода закипит, я разложу вещи.
– Бедная вы, бедная, – пробормотал я сквозь слезы.
– А помню я вашу жизнь в Петербурге. Была у вас квартира с большой, теплой кухней, стены которой увешаны медной, ярко вычищенной посудой; были в квартире гостиная, спальня, столовая и кабинет.
– Да у меня все это и есть, – серьезно возразила она.
– Вот в этом чемодане. Поглядите-ка.
Вынула плед, купальный халат и крошечную подушечку.
Разостлала на голом тюфяке.
– Спальня!
Положила на убогий письменный стол коробку почтовой бумаги и вечное перо.
– Кабинет!
Поставила около карточки – мужа и матери:
– Портретная галерея!
Разложила на круглом столике две вилки и один нож. Поставила бутылку вина, две тарелки, стакан:
– Столовая!
Сняла с машинки чайник, поставила сковородку:
– Кухня! Видите, как просто? А все остальное, что не кухня, не спальня и не кабинет, все это – гостиная!
Садитесь, будете гостем. Ах, я забыла самое главное! Ванную комнату. Отвернитесь минут на пять: я приму ванну и переоденусь.
У нее в чемодане оказалось все: резиновый складной тазик, губка, мыло, маникюрный прибор.
– А рояля у вас там нет? – спросил я.
– Нет, – сказала Улитка, беззастенчиво расстегивая на кофточке кнопки. – Но ноты есть. Вожу с собой на случай, если где есть рояль. Не смотрите на меня!
В дверь постучали.
– Ах ты Господи! Ну, кто там еще?! Войдите! Вошел. Один.
– Будьте любезны очистить номер, он реквизирован. Сударыня, даю вам сроку десять минут. Довольно?
– Много даже. Долго ли умеючи!
И тут же на моих глазах Улитка снова стала вползать в свою раковину-чемодан: уложила спальню, столовую, кабинет, погасила кухню, уложила кладовую, винный погреб, оглядела номер опытным глазом, вздохнула и сказала:
– Пойдем, что ли.
Поползли мы. В конце коридора у окна остановились.
– Вот отсюда, может быть, не сгонят. И диванчик даже есть. Замечательно! Тут до завтра и устроюсь. Садитесь, будьте гостем. Хотите чайку, закусить? А? Все доступно, кроме ванной и кабинета.
* * *
Сели рядом на диванчик, долго смотрели в окно на крышу противоположного дома, освещенную светом невидимой лампы.
– А знаете, – вдруг сказала с легким вздохом Улитка. – Не люблю я чивой-то большевиков.
– Да что вы! С чего же это вы так?
– Так… Все из-за них. Ползаем мы, бедные улитки, ползаем – и когда этому будет конец, неизвестно.
– Послушайте, – шепнул я ей на ухо. – А вдруг завтра.
– Что… завтра?
– Представьте себе: в Петербурге восстание изголодавшихся, полузамерзших рабочих. Узнав о Петербурге – восстанет Москва! Восстание – все шире, все грознее… Латыши и китайцы расстреливаются освирепевшей толпой тысячами, комиссары в панике скрываются. Троцкого его же бывшие, помощники вешают на фонаре; Ленин, узнав об этой веселой суматохе, стреляется сам, красный фронт ломается, тает, – и вот уже все побежало, помчалось в слепой панике. Разве это не может быть?! Мрак для всего красного. Конец! И вот начинается новая русская жизнь: стучат топоры, молотки, не те, которые забивали гвозди в гроб, а другие – строящие новые здания, железнодорожные пути, вокзалы; идут пароходы, свистят поезда, звон, шум, трепет, веселый переклик и теплое роскошное солнце…
На крышу, по которой мечтательно блуждали наши глаза, вышел молодой кот…
Он сладострастно потянулся всеми четырьмя лапами и призывно мяукнул:
– Мя – я-я-я – у – у… Подождал. Нет ответа.
Он снова. Еще сладострастнее, еще призывнее:
– М-я-я-я-я – у – у – у!..
И вдруг из-за трубы показался другой кот, старый худой, с мудро-скептической мордой.
Покосился на первого кота и спросил раздражительно на своем кошачьем языке:
– М-я-я – у! Чего ты тут разорался? Чего, вообще, полез на крышу?
Молодой слегка сконфузился:
– Да ведь как же, дяденька… март!
– Где март? Который?
– Да вот этот… Сегодня.
– А ты в календарь смотрел?
– Где там! У моего хозяина не то что календаря – мышеловки нету!
– Что ж ты, каналья, не поглядев в святцы, бух на крышу! Где ты март нашел?.. Февраль только начали, а он – накося! Размяукался…
Старый кот сердито сверкнул глазами и ушел снова за трубу.
Молодой сконфуженно-недоумевающе пожал плечами, почесал лапой за ухом и, пробормотав: «Да, это я, кажется, тово… рановато», – стал спускаться вниз по желобу.
И все-таки в разбитое окно тянуло уже не резким зимним ветром, а теплым, предвесенним, еле слышный аромат которого могло почувствовать только молодое, изощренное обоняние.
И даже как будто капля теплого дождя упала мне на руку…
Плакала улитка.








