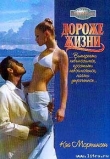Текст книги "Всё закончится на берегу Эльбы(СИ)"
Автор книги: Антонина Ванина
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 21 страниц)
Для девочек же поездка в Германию стала настоящим приключением, впрочем, как и для их тёти Агапеи. Незнакомая страна, множество незнакомых людей, и все приходились близнецам то дядьями, то кузенами. Но главное, все они говорили на другом языке. Конечно, дважды в неделю Лиза и Саша рассказывали урок учительнице немецкого языка. Но одно дело учиться, а другое – разговаривать по-настоящему, а не с учительницей.
Но самое главное удивление ждало девочек, когда они впервые увидели свою троюродную тётю Иду. Сёстры не знали свою мать, даже фотографии от неё не осталось, но она всегда представлялась им такой же, какими были они сами, какой оказалась и тётя Ида – невысокого роста, зеленоглазая с рыжими кудрями и веснушками на круглом лице. Поразительное сходство удивило и всех собравшихся на торжестве родственников.
– Да, – сипловато протянул профессор Книпхоф, – как же похожи на мою покойницу-жену. Одна порода.
Прадедушка оказался маленьким полноватым старичком в круглых очках. Ходил он медленно, опираясь на тросточку, и постоянно шаркал. Волосы его были абсолютно белые, а за густой бородой еле проглядывало лицо. Было в прадедушке что-то страшное и до дрожи пугающее. Он совсем не выглядел как милый старичок.
Отец никогда не говорил Лизе и Саше, чем занимается их прадедушка. Зачем же понапрасну пугать девятилетних девочек? А ведь профессор Книпхоф был анатомом, известным на всю Европу специалистом в своей области. Как и философ Николай Фёдорович, Книпхоф любил костерить теоретиков и превозносить практиков, только делал это куда агрессивнее и с азартом. И не мудрено, ведь он успел застать времена, когда патологическую анатомию человека брезговали изучать тщательно, больше полагаясь на общие заключения. Восемьдесят лет своей жизни Книпхоф провёл в моргах, на кладбищах и в анатомических театрах, доказывая, что человеческое нутро порой выглядит совсем не так, как о том привыкли думать. Он занимался только тем, что резал мертвые тела, извлекал из них внутренности, описывал их и обучал этому ремеслу других.
Но пока девочки ничего этого не знали, хотя один вид деда заставлял их сердечки сжиматься в невнятном страхе.
Доктор Метц и сам инстинктивно сторонился собственного деда, но разговора тет-а-тет не избежал. Главным образом старика интересовало лечение цесаревича. Но услышав, что внук уже давно этим не занимается, Книпхоф просто взорвался от негодования, отчего Метцу стало не по себе.
– Пауль, это просто позор нашей семье! Как ты мог уступить своё законное место какому-то шаману?
– Он не шаман, профессор, – покорно потупив взор, отвечал доктор Метц, – а ортодоксальный христианин. Он лечит молитвой. Не знаю как, но ему это очень хорошо удаётся.
– Что за чушь? Ты когда это успел стать таким религиозным? Может от проповедей этой Агапеи? Кстати, не из-за общения ли с ней мои правнучки так отвратительно говорят на родном языке?
– Русский тоже их родной язык. Поверьте, на нём они говорят безупречно.
– Но почем только на нём? Пауль, это просто неслыханное безобразие! Если ты не способен дать должное воспитание моим правнучкам, тогда дай мне сделать это самому.
Больше всего в жизни Пауль Метц опасался безграничного влияния деда. Именно в этом он видел главную причину, почему Ида осталась старой девой, и почему он сам почти до сорока лет не мог найти своего места в университетской и личной жизни. В научных кругах Европы для всех он был лишь внуком великого Книпхофа. Нет, доктор Метц вовсе не искал славы на хирургическом поприще. Он просто хотел жить собственной жизнью, без оглядки на одобрение профессором каждого его шага. Не хотел он того же и для своих дочерей, больше всего на свете не хотел.
– Пауль, – более мягким тоном обратился к нему Книпхоф, – зачем ты продолжаешь жить в этой варварской стране, если ты там уже не нужен? Здесь в Мюнхене не стреляют на улицах и никого не взрывают, и взрывать не будут. Потому что здесь Бавария, а не вольница для бомбистов.
– И вы хотите, чтобы я перевёз сюда своих детей?
– Да, я хочу, чтобы из моих правнучек выросли нормальные люди, получше иных внуков. Ты посмотри, кто сегодня сюда приехал...
– Ваши внуки и правнуки, профессор.
– Нет, приехали клерки, распорядители, – с брезгливостью перечислял Книпхоф, – торговцы и даже один писатель. Не этого я хотел для своей семьи. Только ты и Ида связали свою жизнь с медициной. Пауль, если бы ты только знал, как я ценю ваш выбор. А как я ценил твоего отца!.. Если бы он не был врачом и не проявлял интереса к инфекционным заболеваниям, я бы в жизни не выдал за него твою мать.
– Он и умер от тех самых инфекционных заболеваний, – мрачно напомнил ему Метц.
– Он пожертвовал собой, спасая людей во время эпидемии, Пауль. Даже я не могу похвастаться подобным. Ты же знаешь, живые люди меня мало интересуют. А его интересовали. И тебя интересуют, ведь так? Но что поделать, даже маленькие мальчики порой умирают от чрезмерной потери крови, тут уж ничего не поделать. А ты подумай, что будешь делать дальше, как жить и где работать. Подумай.
На следующий же день Павел Иванович с дочерями и Агапеей сел на поезд и отправился в Петербург. Даже думать о том, чтобы вернуться жить в Мюнхен, он не желал.
5
Мало что отвлекало доктора Метца в Петербурге от тоскливых мыслей. Работа подворачивалась редко, а свободного времени стало слишком много.
В один из дождливых дней Павел Иванович погрузился в чтение фантастического романа о цивилизации на Марсе. Тема показалась ему забавной и своевременной, ведь сейчас, когда астрономы всего мира наблюдали за великим противостоянием Марса и Земли, в газетах то и дело появлялись сообщения, что на красной планете видели странные вспышки, похожие на световые сигналы. Марсиане ли подавали их землянам или же это была лишь причуда природы, никто не знал. Но если верить писателю-фантасту, то на Марсе точно есть люди и там уже успел восторжествовать социализм. В его романе тяжелую работу за марсиан выполняли автоматы, а искусство не только ублажало взор людей, но и служило сугубо практическим целям. Детей же жители Марса воспитывали в духе рационализма, а все решения принимали коллективно, и от того на их планете больше не было места насилию. Одним словом – утопия.
Но кое-что в описанной марсианской цивилизации привлекло внимание доктора Метца: все жители этой планеты обменивались между собой кровью. Эту процедуру они называли обменом жизнью: юные давали свою кровь старикам и те получали с ней силу и молодость, а юные лишь преобразовывали свою природу от крови старших товарищей. Все жители красной планеты приходились друг другу братьями по крови, составляя чуть ли не единый организм. А главное – благодаря кровообмену марсиане обрели почти что вечную молодость.
Конечно, всё это лишь выдумка писателя. Но ведь доктор Метц уже слышал о чём-то подобном восемь лет назад в Лондоне, когда ему показали белую женщину Мери, которая утверждала, что пьёт только кровь и живёт уже много сотен лет. Не важно, правдивы её слова или нет, но в них, безусловно, что-то было. К тому же, мысль обретения бессмертия через кровь отчасти перекликалась с идеями "московского Сократа". После прочтения фантастической книги Павлу Ивановичу не давала покоя сама идея переливания крови. Что если это и есть путь к бессмертию?
Да, римскому императору Тиберию переливали кровь, но он всё равно умер. Так ведь и "переливание" в те времена было банальным питием крови – абсолютно бесполезной и вредной процедурой. Но с тех пор прошло много веков, и люди нашли способ переливать кровь из вены в вену. А не так давно врачи узнали, что кровь всех людей на Земле разделяется на четыре группы, и потому можно безопасно осуществлять гемотрансфузию от одного человека другому не опасаясь осложнений или даже смерти.
Павел Иванович сильно сомневался в пользе крови гемофилика для здорового человека, но вот наоборот... Что-то подобное он уже слышал от деда, вот только всерьёз не задумывался над практическим применением такой теории – повода не было.
Когда с цесаревичем случилось носовое кровотечение, которое не могли остановить целый день, Павел Иванович и предложил порциальную трансфузию крови для восполнения потерянной. На все заверения о безопасности процедуры последовал лишь решительный отказ – императрица вновь предпочла помощь сибирского старца.
После этого Павел Иванович, наконец, осознал, что его присутствие при дворе в качестве лейб-медика-консультанта абсолютно бессмысленно. Зачем здесь нужна медицина, если новаторские способы терапии заменила молитва?
Недолго думая, доктор Метц попросил отставку и незамедлительно её получил. Он покидал больного мальчика с лёгким сердцем, зная, что при нём всегда будут врачи, способные помочь, а главное, старец Григорий, который попросит у Бога здоровья для цесаревича.
– Хороший ты человек, Павел Иванович, – на прощание сказал Григорий доктору Метцу, – но без Бога живешь. Неправильно это. Оттого в жизни и беды все. Не думай, что человек может Бога обхитрить, грешно это.
Странное напутствие растревожило доктора, но вскоре забылось. На следующий день он полностью погрузился в заботы, связанные с переездом из Петербурга. Доктор Метц всерьёз намеревался перебраться в Мюнхен, где старые знакомые уже пообещали ему место преподавателя в университете. Вопрос с жильем он думал решить на месте, а на первое время воспользоваться навязчивым гостеприимством деда. Но только на первое время.
Просторная квартира в исторической части Мюнхена досталась профессору в качестве глубочайшей благодарности от семьи одного высокопоставленного пациента. Здесь хватило места и доктору Метцу и его дочерям и даже их няньке. Помимо самого профессора в доме жила Ида, хотя большую часть дня она проводила в госпитале, где служила сестрой милосердия.
Чаще в доме профессора Книпхофа можно было застать Гертруду фон Альнхафт. Это была элегантно одетая дама с изысканными манерами и подчеркнуто правильной речью. Своей прической и ухоженным лицом она показывала всем, что не намерена мириться с подступающей старостью. Но несмотря на все старания женщины, без труда можно было догадаться, что её жизненный опыт давно преодолел рубеж в шестьдесят лет.
Графиня фон Альнхафт принадлежала к той категории обедневших аристократов, у которых из всех унаследованных ценностей осталась лишь фамилия. В молодости она, отвергнутая свахами всех дворянских домов, связала свою жизнь с уже немолодым, но очень душевным и отзывчивым аптекарем. Их брак продлился недолго, и в тридцать лет графиня стала вдовой. Из живых родственников у неё остался только свёкор – старый придирчивый грубиян Книпхоф. Двадцать пять лет понадобилось графине, чтобы исчерпать до самого дня наследство покойного мужа, заложить дом и лишиться его. Дожив до этого страшного возраста – пятьдесят пять лет, графине перестало казаться, что профессор Книпхоф слишком уж невыносим. Так или иначе, за семь лет она прижилась в его доме, по вечерам развлекая Книпхофа разговорами на разные темы и игрой в шахматы.
Появление новых лиц весьма оживило застоявшееся болото профессорской квартиры. Графиня не могла устоять, чтобы не расспросить племянника покойного мужа о нравах далекой России.
– Не понимаю, как вы там жили, да ещё с детьми. Это ведь ужасно – в любой момент стать жертвой террористов. Наверное, эти несчастные отчаялись найти для себя справедливость, раз решились на убийства. Надеюсь, они щадят детей?
– Они живые мертвецы, – констатировал Метц. – Вряд ли таким людям присуще сочувствие и сострадание не то что к другим, даже к самим себе.
– Какой поэтический и пугающий эпитет вы им придумали, – восхитилась графиня, – "живые мертвецы".
– Это не эпитет, а факт. Революционеров судят и отправляют в ссылки, а они оттуда бегут и покупают поддельные паспорта, вернее паспорта уже умерших людей.
– Позвольте, но кто же может торговать такими вещами?
– Доктора при больницах, у которых умирают пациенты. Кто-то делает это из-за сочувствия идеям революции, кто-то просто из желания поживиться. А беглые революционеры присваивают себе имена покойников. Так с ними и живут, даже подписывают ими статьи в своих газетах.
– Какой кошмар! – поморщилась графиня.
– Революционеры, марксисты, – заворчал Книпхоф, ёрзая в своём кресле, – все они неучтенные пациенты психиатрических лечебниц. Вот главная примета нашего времени – больные люди ведут за собой массы.
– Что вы такое говорите? – возмутилась графиня. – Вы же учёный. Как вы можете так категорично утверждать, будто все революционеры нездоровы. Вы что же, обследовали их на предмет душевных болезней?
– Революция и есть их болезнь, – резко рявкнул профессор, ибо крайне не любил, когда с ним спорят. – Человек, которому пришло в голову разрушить вековые устои явно ненормален. А если учесть, что ему ненавистны все, кто хочет жить по-старому, то революционер ещё и опасный психопат.
– Боже мой, – наигранно закатила глаза графиня, – вас послушать, так все прогрессивные умы безумны. Какой же вы ретроград.
– Я нормальный человек, – прошипел профессор, а его густая борода негодующе растопырилась во все стороны, – в отличие от того Ницше, которого вы почитываете. Да-да я видел у вас его книжонки! А знаете, что с ним случилось, когда он покончил с бумагомарательством? Его свезли в психиатрическую лечебницу, а там он стал пить собственную мочу из сапога да ещё орал благим матом и называл себя Фридрихом-Вильгельмом IV? Это был не философ, а больной человек!
– О, Боже мой, – простонала графиня, – господин профессор, лучше просто скажите, что вам не близки его взгляды. И не надо так упирать на ненормальность. Все гении были и будут не от мира сего. Не стоит их мерить в узких рамках нормальности.
– А вы, госпожа фон Альнхафт, – коварно улыбнувшись, предложил профессор, – хоть раз зайдите в психиатрическую лечебницу и пообщайтесь с тамошними обитателями, если санитары разрешат, а потом расскажете нам о гениальности буйнопомешанных.
– Не сваливайте всё в одну кучу, – обиделась графиня. – Я же не говорю, что всех больных нужно выпустить из лечебниц. Я говорю лишь, что Ницше нужно понять не столько умом, сколько сердцем. Его философия как музыка, упоительная и ослепляющая своей ясностью. Вы просто не умеете его правильно читать.
– Да что вы? Зато я умею читать истории болезней. Будь я священником, то сказал бы, что Ницше был одержимым нечистой силой, которая надиктовала ему грязные книжонки. Может он и при виде распятия шипел и изгибался в корчах, как знать. Но я медик и потому вижу самую что ни на есть прямую связь между его, так сказать, философией и последовавшим за ней помешательством.
– Ницше действительно был не в ладу с христианством, – согласился с дедом Пауль Метц. – Графиня, вам ведь лучше известно, что он писал: есть боги, но нет Бога, а Бог лишь предположение. Широкая душа есть жалкие угодья. Война свершила больше великого, чем любовь к ближнему. Благо войны освящает всякую цель. Нищих следовало бы уничтожить. Милосердные лишены стыда и потому противны Ницше.
– Такая философия вам нравится, графиня? – вопросил Книпхоф. – Это философия не разума, а вырождения.
– Если долго вглядываться в бездну, бездна начнёт вглядываться в тебя, – процитировал Метц, отрешенно улыбнувшись. – Жутковато, не правда ли?
– А это его "Бог умер"? Это глупо даже для философии, такое мог написать только дурак. – Профессор повернулся к Гертруде и, хитро сощурившись, заметил. – Неплохой повод задуматься: а чего стоит такая дегенеративная философия?
– Дегенеративная?! – оскорбленно воскликнула фон Альнхафт.
– Да, любезная, именно что дегенеративная. Кстати, учение так любимого вами Фройда тоже не что иное, как дегенерация под видом научной дисциплины.
Такого поругания своих кумиров графиня не смогла стерпеть, но вместо того чтобы возразить, лишь задохнулась от негодования.
– Фройд настоящий шарлатан, – продолжал нажимать Книпхоф. – Вы хоть знаете, что все свои теории он сочинил после работы с душевнобольными?
– Это гениальнейший человек, – твердо и уверено заявила графиня. – История, господин профессор, нас рассудит. Когда-нибудь имя Фройда встанет в один ряд с Коперником и Дарвином.
– Не сомневаюсь. Достойная компания. Первый сказал, что человек отныне не центр космоса, второй – что человек есть животное. А сам Фройд видимо считает это животное похотливой тварью, у которой только одно на уме.
– Но почему же нет? – удивилась фон Альнхафт, – разве всем живым на планете не движет инстинкт размножения?
– Самое главное, что движет живыми существами, это желание поесть, – безапелляционно заявил Книпхоф. – Что-то давно в Европе не было голода. Люди подзабыли, что это такое и от сытой жизни начали выдумывать всякий бред про сношения с матерью и оскопление отца.
– Нет, – не унималась графиня, – либидо и есть движущий инстинкт человека,
– Гертруда, – недовольно воззрился на неё Книпхоф, – попробуйте для интереса не поесть дня три. Потом расскажете нам, о чём вы думали всё это время, желательно подробно и с рецептами. Тоже мне, выдумали движущий инстинкт. Крестьянин – вот кто на самом деле является двигателем цивилизации. Без него в городах не будет еды, и все эти орды психоаналитиков взвоют от голода, станут рыскать по городу в поисках чего-нибудь пожевать, а потом пожрут друг друга, наплевав на все приличия и врожденный гуманизм. Ни один горожанин не знает, как правильно держать плуг, с какой стороны доить корову и как растить брюкву. Крестьянин – вот столп цивилизации, он её фундамент. Не будет его, всё рухнет, и мир погрузится в варварство. Крестьянин есть основа и первопричина всего, понимаете графиня, крестьянин, который кормит наши желудки, а не бордельная шлюха, что ублажает чей-то половой инстинкт. Нет никакого эдипова комплекса. Любой нормальный ребенок привязан к матери только потому, что она его мать. Если сам Фройд когда-то и желал собственную мать, это ещё не повод утверждать, что все люди хотят того же. Не надо приписывать свои извращённые мании другим, да ещё утверждать, что это нормально. Болезнь не может быть нормой. Если Фройд всерьёз считает, что всё в этом мире вращается вокруг полового инстинкта, то ему самому стоит подвергнуть себя психоанализу. Себя, а не нормальных людей.
– Вы совершенно неправы, – обиделась графиня. – Вы не умеете читать ни Ницше, ни Фройда.
– Да что вы говорите?! Я-то как раз очень даже умею. Фройд называет свою писанину научной теорией, а я категорически заявляю, что и тени научности там нет и не было.
– Ах вот оно что! Значит, в вас говорит ревность академического учёного.
– А в вас говорит глупость, – отмахнулся Книпхоф, – А может вас одурманил какой-то психоаналитик? Они это могут даже без гипноза. Простыми разговорами вас могут завести в такие дебри сознания, что и не отличите мысли такого мошенника от собственных.
– Послушайте, профессор, – вскипела графиня, – я вам не маленькая девочка и не одна из ваших студентов. Нечего учить меня жизни! Я взрослая женщина и сама могу выбирать, что читать и как жить
– Да ради Бога! Но если ещё раз заведёте в этом доме разговор о фройдистских глупостях, я запрещу подавать вам обеды и ужины в пере воспитательных целях, – серьёзно заявил Книпхоф, сложив руки на круглом животе. – Вы поняли, я буду морить вас голодом, пока вы не проникнитесь самым главным инстинктом любого живого существа.
6
Шли годы. Доктор Метц всё больше погружался в работу, целыми днями пропадая в мюнхенском госпитале и в университете, где успел получить звание профессора. Лиза и Саша, ставшие в Баварии Лили и Сандрой, исправно ходили в школу и понемногу привыкали к прадедушке, пока и вовсе не перестали его побаиваться. А Агапея даже немного выучила немецкий язык, хотя говор её не был образцовым.
Вот только профессор Книпхоф недолюбливал старую крестьянку. Даже графиня, её ровесница, не держалась с Агапеей высокомерно. Книпхоф же постоянно упирал на дурное деревенское влияние, которая та оказывала на близнецов. Метц пытался объяснить деду, что его девочки не только немки, но отчасти и русские и латышки, и нет ничего плохого, если они будут знать язык, обычаи и веру своих дедов.
– Черт с ней, с верой, – разорялся Книпхоф, – но почему у них пост чуть ли не каждую неделю? Дети должны полноценно питаться.
– Профессор, они и так не выглядят худышками. Выходит, это питание им вполне подходит.
Но Книпхофа всё равно не устраивало влияние няни на рацион правнучек, и терпел он её только потому, что она приходилась близнецам родственницей.
Да и сама Агапея не жаловала старого профессора:
– Ворон потому триста лет живёт, что по полям брани летает и мертвечину склёвывает, – как бы невзначай сказала она доктору Метцу, пока тот читал газету за утренним кофе. – Чужая смерть – жизнь ему.
Доктор Метц только подивился ходу её мыслей.
– Агапея Тихоновна, с чего вы взяли, что ворон может столько жить?
– Так ведь в народе это испокон веков известно, – ответила она, продолжая махать тряпкой по пыльным полкам.
– Ваша народная мудрость не более чем суеверие. Ворон это не попугай, больше семидесяти лет он не проживёт. А на воле и того меньше. Так что, не выдумывайте.
Сказав это Метц остался доволен собой – рациональное знание должно искоренять житейские вымыслы. Однако он прекрасно понял витиеватый намёк старой крестьянки на долголетие деда и его специфическую работу.
Тут-то он и задумался: а что если близость профессора к мертвецам каким-то неизвестным образом повлияло на продолжительность его жизни? Что если в природе существует пока ещё не открытый никем механизм, где жизнь есть постоянная величина? Тогда смерть есть лишь её отсутствие, а сама жизнь как субстанция способна покидать одно биологическое тело и перетекать в другое. Такая теория могла бы объяснить, почему Книпхоф в свои сто с лишним лет здоров как бык и вынужден притворяться немощным, чтобы хоть как-то привлечь внимание родственников.
Рассуждения о природе жизни и смерти заставили доктора Метца вспомнить о напутствии "московского Сократа". Воскрешение усопших и идея победы жизни над смертью занимали его мысли с тех самых пор, как умерла Хельга. И новый повод для размышлений о вечном ему дал гость из Туманного Альбиона – верный ученик и последователь профессора Книпхофа – сорокапятилетний доктор Рассел.
Он приехал в Мюнхен специально для серьёзного разговора с доктором Метцем, но тот поймал себя на мысли, что не хочет видеть Рассела, памятуя, что для англичанина понятие врачебной этики лишь пустой звук. Но Рассел настоял на разговоре, от которого доктор Метц не смог уклониться.
– Почему вы меня избегаете? – спросил его гость. – Не так часто нам приходится видеться. Почти двадцать лет прошло с вашего визита в Лондон. Тогда я был моложе, да и вы не были профессором.
– Что сейчас с той белой женщиной? – поинтересовался доктор Метц.
– С Мери? – не выказав удивления, переспросил Рассел. – Ничего особенного. Она по-прежнему с нами. Общество, знаете ли, было вынужденно переехать из Лондона и поселиться в загородном особняке. Разумеется, я забрал Мери туда. В подвале для неё оборудовали удобную комнатку.
– Вы держите её в подвале?! – поразился доктор.
– Конечно, – как ни в чём не бывало подтвердил Рассел. – Вы же знаете, она не выносит солнечного света. Когда Мери жила в моей квартире, мне пришлось поставить в лаборатории глухие ставни.
– Я думал, вы собираетесь отпустить её.
– Нет, что вы. Тот реабилитационный комплекс, что написал для Мери ваш дед пока ещё рано опробовать.
– Почему?
– Потому что я привёз вам кое-что. – С этими словами доктор Рассел вынул из саквояжа банку, где в растворе плавало до боли знакомое доктору Метцу шишковидное тело. – Полагаю, предыдущее вы давно расщепили на сотню кусочков и окунули в десятки реактивов. Так что держите новое. И продолжайте исследовать.
Рассел поставил склянку на стол и придвинул её удивлённому доктору Метцу, но тот не решился к ней даже прикоснуться.
Один вид комочка нетленной плоти пробудил в его памяти страшные воспоминания: кричащая Мери, длинный крючок, уходящий вглубь её ноздри, чёрная кровь на абсолютно белой коже и шишковидная железа, подцепленная крючком. Ни один научный эксперимент не стоил таких страданий для живого существа, кем бы оно ни было.
– Нет, доктор Рассел, – резко заявил доктор Метц, – у меня полно работы в университете. Мне некогда заниматься... этим.
Англичанин недовольно передернул плечами и заметил:
– Послушайте, профессор Метц, Общество давно не спрашивает, чего вы хотите, а чего нет. Тогда в Лондоне вас предупреждали, что обратного пути не будет. Но вы на него ступили.
– Увы... – вздохнул доктор Метц, соглашаясь.
И Рассел одобряюще улыбнулся:
– Когда-то вы говорили, что смерть – это лишь клеточная патология. Стоит изменить механизм, и смерть обратится вспять.
– Это лишь теория, умозрительное предположение. У меня нет практического решения этой задачи.
– Но вы же знаете, что оно может найтись, – и Рассел подвинул банку с железой ещё ближе к доктору, – стоит лишь понять, что делать с этим. Вы же знаете, я вас не тороплю. Работайте, сколько потребуется, материал я вам предоставлю, только попросите.
– И вы опять выскребете мозг той несчастной женщине?
На лице Рассела отразилось недовольство таким прямолинейным вопросом, и холодным тоном он заявил:
– Вы же знаете, регенерация её организма абсолютна.
– И сколько раз вы уже удаляли ей шишковидное тело? Два, три, четыре? Или вы делаете это раз в год? Я просо хочу понять, есть ли предел её выносливости и вашего бессердечия?
– Не драматизируйте. В конце концов, Мери преступница и искупает свою вину с пользой для науки.
– А в чём повинен я?
– Ни в чём. Напротив, Корона благодарна вам за службу при правнуке покойной королевы. Но ещё больше мы будем вам благодарны, когда вы получите пресловутый эликсир бессмертия. Хотя, по праву первооткрывателя можете назвать его как угодно.
Когда Рассел покинул квартиру, доктор Метц впервые за долгие годы обратился к деду за советом. Он не знал что делать. Давнее напутствие "московского Сократа" говорило ему продолжить исследование, но тяжёлые воспоминания об измученной жительнице подземелий диктовали порвать все связи с альбионским Обществом.
– Знаешь, Пауль, – полусонно протянул профессор, сидя в своём любимом кресле, – больше полувека я бьюсь над этой загадкой: почему кому-то отмерено лишь тридцать лет жизни, а кто-то ходит по земле столетиями, не старея ни на день? Вот минул век, как я живу на свете, но я ни на шаг не приблизился к пониманию самой главной тайны мироздания. И уже вряд ли её разгадаю. Тебе лишь пятьдесят три года и ты в силах закончить эту работу за меня. Так что не отказывайся от предложения Рассела и прими его дары.
Никогда доктор Метц не стремился вершить великие дела и делать научный открытия, полагая, что это совсем не его призвание. Просто некогда Николай Фёдорович зажёг в нём искру сомнения в том, что природу нельзя преобразовать. А Рассел и вовсе показал, что в природе обитают существа, о которых ранее и помыслить было трудно. Только профессор Книпхоф признался честно, что не знает секрета бессмертия и даже не надеется его отыскать. Зато он желал, чтобы Метц узнал это секрет сам.
– Профессор, – попытался отговорить его доктор Метц, – я не уверен, что судьба отмерила мне тот же срок, что и вам.
– Ничего страшного. У тебя самого есть дети...
– Вы что же, – не поверил своим ушам доктор Метц, – хотите, чтобы Лили с Сандрой занялись медициной?
– Да нет же, торопыга, всегда ты меня не дослушиваешь! Какая медицина для этих четырнадцатилетних кокеток? Лет через пять ты выдашь их замуж за своих учеников, которые будут в состоянии продолжить наше семейное дело. Ты же преподаёшь в университете. Чего проще найти и воспитать толкового преемника своих идей. Главное, чтобы он вошёл в нашу семью. Тогда тебе и не придётся сомневаться в его верности.
– Вы уверены?
– Конечно. С твоим отцом всё вышло именно так.
Доктор Метц призадумался над словами деда. Конечно, единомышленника и продолжателя можно найти и среди своих учеников. Но подавлять волю дочерей и выдавать их замуж за нужных, но нелюбимых людей он точно бы никогда не стал.
После того разговора доктор Метц всё чаще вглядывался в лица своих студентов, ловил их малозначимые фразы, задавал им осторожные вопросы. Но молодых людей больше интересовало убийство эрц-герцога в Сараево, чем занятия по анатомии.
Отовсюду то и дело раздавался тревожный шепоток, что вскоре начнётся война между Австро-Венгрией и Сербией. Самые смелые предсказатели говорили, что германский император вступится за австрийских соседей, а русский царь – за сербских единоверцев.
– Нет, – уверено заявлял на это доктор Метц, – российский император не станет начинать войну, защищая цареубийц.
Через месяц, когда русские войска вторглись в Восточную Пруссию, профессор Книпхоф удостоил внука ехидным замечанием:
– Плохо же ты его знал. Хотя, чего ещё ожидать от дурака?..
Доктор Метц опешил от таких слов, даже не нашёлся, что возразить.
– А кто он, русский император, если не дурак? – продолжал Книпхоф. – Женился по любви, видите ли. А какое он имел на это право, а? Он же монарх, а монарх должен руководствоваться во всех вопросах только интересами своей державы, даже в выборе жены. Особенно в выборе жены. Разве никто не говорил ему, что гессенский дом болен? Что, никто не знал, что брат принцессы Алисы умер, потому что страдал от гемофилии? Нет, этот Николаус просто дурень...
– Профессор, – скорбно обратился к нему доктор Метц, – пожалуйста, перестаньте.
– Нет, он дурень, – настаивал старик. – Ладно, дочь германского императора больна порфирией. Но ведь ей не наследовать престол. А доживёт ли тот больной мальчик Алексиус до собственного царствования?
Но этот вопрос недолго занимал мысли доктора Метца. С началом войны в дом Книпхофа нагрянули баварские власти и объявили, что все подданные российской короны должны покинуть территорию Германии в ближайшие дни. Услышав это, доктор Метц спал с лица:
– Но как?.. – от нахлынувшего волнения еле выговорил он. – Это же мои дети. Что вы такое говорите, почему нужно высылать?
– Идёт война, профессор Метц, – чеканя каждое слово, изрёк чиновник. – Германская империя объявила России войну. Все российские подданные отныне наши враги.
– Вы что же, считаете, что мои пятнадцатилетние дочери могут оказаться русскими шпионками?
– Речь идёт вовсе не о ваших детях. Они такие же подданные империи, как и их отец. Нам известно, что в вашем доме проживает некая... – чиновник вынул из кармана постановление и с трудом зачитал, – Агапея Куликова.