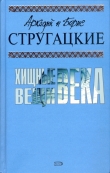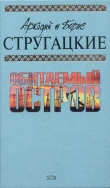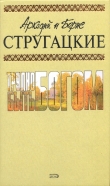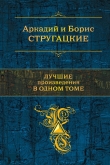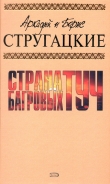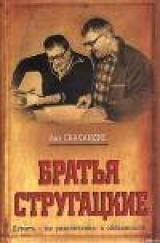
Текст книги "Братья Стругацкие"
Автор книги: Ант Скаландис
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 53 страниц)
Вот что написал Мешавкин в заключение своих воспоминаний (заметьте, в 1992 году, без всякой оглядки на обком, которого уже не было):
«Произошла на радость почитателям НФ стыковка поколений, двух крупных писателей, каждый из которых, в меру таланта, вписал своё имя в историю советской фантастики. Воспроизводимый журналом снимок документально свидетельствует: лауреаты не позируют, сидя рядком да ладком, им уютно вместе, они улыбаются».
А вот что можно прочесть в письме АНа, отправленном брату в Ленинград ещё за неделю до отлёта:
«Насчёт премии сообщил мне лично Сергей Абрамов, и уж извивался он, как поганая ужака под вилами, и я всё не понимал, в чём дело, пока не открылось с его слов, что есть и ещё одна премия, и её получил А.П. Казанцев „за заслуги перед советской фантастикой“. Я-то по малоумию сказал было, что мне-то де какое дело, но потом сообразил, что придётся при получении стоять с ним рядом и ухмыляться и ещё жать ему руку… тьфу. Ну, ничего не попишешь».
Ну и для полной ясности освежим в памяти известные страницы из повести «Хромая судьба», к 1992 году переизданной уже не раз и не два:
«По правой стене коридорчика поставлено было несколько стульев, и на одном из них, скрючившись в три погибели и опираясь ладонями на роскошный, хоть и потёртый бювар, торчком поставленный на острые коленки, сидел сам Гнойный Прыщ собственной персоной.
При виде его у меня, как всегда, холодок зашевелился под ключицами, и, как всегда, я подумал: „Это надо же, жив! Опять жив!“
<…>…Все эти мрачные и отвратительные герои жутких слухов, чёрных эпиграмм и кровавых легенд обитают не в каком-то абстрактном пространстве анекдотов, чёрта с два! Вон один сидит за соседним столиком, порядочно уже захорошевший, – добродушно бранясь, вылавливает из солянки маслину. А тот, прихрамывая на поражённую артритом ногу, спускается навстречу по беломраморной лестнице. А этот вот кругленький, вечно потный, азартно мотается по коридорам Моссовета, размахивая списком писателей, нуждающихся в жилплощади…
<…> Как относиться к этим людям, которые по всем принятым мною нравственным и моральным правилам являются преступниками; хуже того – палачами; хуже того – предателями! <…>
Они ходили среди нас с руками по локоть в крови, с памятью, гноящейся невообразимыми подробностями, с придушенной или даже насмерть задавленной совестью, – наследники вымороченных квартир, вымороченных рукописей, вымороченных постов. И мы не знали, как с ними поступать. <…>…Казалось, пройдёт год-другой, и они окончательно исчезнут в пучине истории и сам собою отпадёт вопрос, подавать им руку при встрече или демонстративно отворачиваться…
Но прошёл год и прошёл другой, и как-то неуловимо всё переменилось. Действительно, кое-кто из них ушёл в тень, но в большинстве своём они и не думали исчезать в каких-то там пучинах. Как ни в чём не бывало, они, добродушно бранясь, вылавливали из солянки маслины, спешили, прихрамывая, по мраморным лестницам на заседания, азартно мотались по коридорам высоких инстанций, размахивая списками, ими же составленными и ими же утверждёнными. В пучине истории пошли исчезать чёрные эпиграммы и кровавые легенды, а герои их, утратив при рассмотрении в упор какой бы то ни было хрестоматийный антиглянец, вновь неотличимо смешались с прочими элементами окружающей среды, отличаясь от нас разве что возрастом, связями и чётким пониманием того, что сейчас своевременно, а что несвоевременно.
И пошли мы выбивать из них путёвки, единовременные ссуды, жаловаться им на издательский произвол, писать на них снисходительные рецензии, заручаться их поддержкой на всевозможных комиссиях, и диким показался бы уже вопрос, надо ли при встрече подать руку товарищу имяреку. Ах, он в таком-то году обрёк на безвестную гибель Иванова, Петрова и двух Рабиновичей? Слушайте, бросьте, о ком этого не говорят? Половина нашего старичья обвиняет в такого рода грешках другую половину, и, скорее всего, обе половины правы. Надоело. Нынешние, что ли, лучше? <…>
Этот мерзкий старик, что сидел через два стула от меня, мог сделать со мной всё. Написать. Намекнуть. Выразить недоумение. Или уверенность. Эта тварь представлялась мне рудиментом совсем другой эпохи. Или совсем других условий существования. Ты перешёл улицу на красный свет – и тварь откусывает тебе ноги. Ты вставил в рукопись неуместное слово – и тварь откусывает тебе руки. Ты выиграл по облигации – и тварь откусывает тебе голову. Ты абсолютно беззащитен перед нею, потому что не знаешь и никогда не узнаешь законов её охоты и целей её существования…»
Да, конечно, образ, как всегда, собирательный. Есть в нём что-то и от Немцова, и от Сытина, и от Тушкана… Или от кого там ещё? Сегодня этих имён всё равно никто не помнит. А вот Казанцева в Гнойном Прыще узнали тогда многие, и не о чем тут дискутировать. Цитата, конечно, длинная получилась при всех сокращениях, но без неё – никак: лучше АБС всё равно не скажешь об этом. А сказать надо было, ох, как надо! Особенно сейчас, когда молодые в истории ельцинских 90-х путаются, какой уж там сталинизм! «Отец народов» у них размещается где-то между Иваном Грозным и Петром Великим.
Стругацких надо чаще перечитывать, чтобы порядок в голове наводить.
А история отношений АБС и Казанцева была богатой, но, в общем, однообразной. Обо всех конфликтах вспоминать точно не стоит. Расскажем о наиболее ярких моментах.
Взаимное неприятие автора и редактора, возникшее при первом знакомстве, быстро переросло в откровенное противостояние поколений и мировоззрений.
Взять хотя бы знаменитое расширенное совещание секции фантастики в ЦДЛ в конце марта далёкого 1963 года, когда на волне хрущёвских нападок на творческую интеллигенцию, оживились все сталинские недобитки. Это именно тогда Казанцев ухитрился назвать еврея Альтова «фашистом» за его некорректное отношение к постулатам Эйнштейна. АН не выдержал и, преодолевая страх, кинулся в бой. И бой был выигран. Только Казанцев не успокоился и в том же году рвался написать разгромную статью про Альтова и Журавлёву, предлагал, как всегда, Ефремову поучаствовать, а тот, как всегда, отказался.
А дальше в письмах АНа (одно письмо БНа – помечено отдельно) открывается нашему взору такая мозаика мелких и крупных пакостей:
«8.12.64 – Были в гостях у Ивана Антоновича. Он посещал Казанцева, Казанцев тяжело болеет и точит на нас чудовищный клык – обвинение в издевательстве над священными фольклорными реликвиями русского народа, хотел писать статью, но Ефремов его отговорил, намекнув, что он станет посмешищем на весь Союз».
«05.07.65 – Казанцев прислал в „Известия“ письмо „О странной позиции изд-ва „Молодая гвардия““, в каковом письме обвиняет изд-во в уклонении от курса советской фантастики и в сплачивании вокруг себя молодых литераторов, пишущих в подражание худшим западным образцам и в большинстве нерусской национальности».
«14.01.66 – …Ким (Роман Николаевич. – А.С.) говорил, что Казанцева предупредили на партбюро за страсть к доносам. Но это ещё не проверено. Нравится мне наша московская организация».
«16.05.66 – От Казанцева ничего не слышно, если не считать нового доноса относительно зарубежной фантастики в Б-ке мировой фантастики. Уже опять мылили холку издательству. Но вряд ли Казанцев на этом успокоится. Он где-то за кулисами готовит новую пакость».
«05.06.66 – Позавчера состоялось отчётно-перевыборное собрание творческого объединения прозы Московского отделения Союза писателей, и меня выдвинули кандидатом, а затем избрали членом этого бюро 252 голосами против 50. Вот так. Прочувствовал? Если да, то продолжаю…»
Казанцев при этом орал не своим голосом, что он решительно протестует, что Стругацкий скомпрометировал себя идеологически порочными книгами, что о Стругацких, наконец, есть специальное постановление ЦК ВЛКСМ!
В тот раз он проиграл, хотя постановление и в самом деле было.
«9.01.71 (пишет БН) – Мееров был в декабре у Казанцева. Казанцев помнит Ал. Ал-ча ещё по „Защите-240“, а потому считает своим. Много было разговоров о том, что „вот мы с вами понимаем фантастику, а эти, новые, братья всякие, только всё изгадили…“».
И, наконец:
«19.06.76 – Стало известно, что Казанцев и Колпаков написали чудовищно мракобесные доносы в „Правду“ самому Зимянину (в то время – главный редактор первой газеты страны и без пяти минут секретарь большого ЦК. – А.С.). Суть – сионисты в фантастике заедают православных, с одной стороны, а с другой – интеллектуалы отлучают от издательств партийных. Бред, но отвратно».
По-моему, достаточно. Казанцев шёл в ногу со временем: статьи и выступления на собраниях всё чаще заменялись телефонными звонками наверх и письменными доносами. В общем, к моменту трогательного «братания» в апреле 1981-го отношения его с АБС были уже именно такими, как описано в «Хромой судьбе». Кстати, до плотной работы над ней оставалось тогда меньше года.
Эту повесть не принято зачислять не только в первую тройку, но даже в первую десятку книг АБС. Понятно. Она – первая, да по существу, и единственная их нефантастическая книга. Повесть о фантасте. Фантастические сюжеты только разбросаны по ней в изобилии – не реализован ни один. Но я люблю эту повесть как-то особенно нежно именно за этот её «сугубый реализм» и прозу жизни – Прозу с большой буквы. И ценю её саму по себе безо всяких вложений. Мне даже фрагменты из «Града обреченного» (по журнальному варианту) были там не нужны. Вполне самодостаточная вещь. А уж «Гадких лебедей», тем паче, не могу и не хочу смешивать с печальной историей Феликса Сорокина. «Хромая судьба» – это уникальная и, безусловно, удачная попытка АБС написать автобиографическую повесть. Правда, суженная до биографии одного АНа и потому единственная у них, где хоть краем глаза читатель видит Москву. Подметил это Михаил Шавшин из группы «Людены», а я прочёл и не поверил ему. Да что я – сам БН удивился, но теперь уже многие разобрались: Москвы больше нет нигде, только упоминания топонима, а так – ни описаний, ни воспоминаний, ни тем более сюжетов, развернувшихся на улицах столицы. Вот какая уникальная повесть. И сочинялась она долго-долго.
Идея – сначала в виде пьесы про заимствованную у Акутагавы Мензуру Зоили, она же Изпитал (измеритель писательского таланта) – впервые мелькнула ещё в ноябре 1971-го в Комарове, когда заканчивали «Пикник». Потом подвёрстывались к этому замыслу и война с «МГ» в реальных фактах и документах, и желание сделать вещь очередным продолжением «Понедельника», и «Охота на василиска» – погоня за человеком, которого было опасно обижать, и сюжет об эликсире бессмертия, так и застрявший в повести изящным осколочком… Примерно к концу 1980 года все эти раздумья и метания перерастают в решимость писать и опять, как «Град», без всякой надежды на публикацию. Что ж, не привыкать! Но… неласковый 1981-й спутает все планы. Только в октябре БН доедет до Москвы, где познакомится с доктором Черняковым, и доктор поставит ему полушутливый диагноз: «С сердцем всё в порядке – перед нами обыкновенный обожравшийся большой советский писатель». В этот приезд они ничего не напишут. Будут только обсуждать «Хромую судьбу», всё ещё называемую «Мензурой Зоили», а потом – закинутую Вайнерами идею сотворить в соавторстве (вчетвером!) фантастический детектив. Однако уже в январе 1982-го опять в Москве появляется новое рабочее название – «Торговцы псиной» – и начинается работа всерьёз.
Второй раунд состоится в феврале, третий – в марте, на апрель они сделают перерыв. А в мае уже будет закончен черновик. И всё это в Москве. Что ж, для данной вещи вполне логично, хотя на самом деле логика тут совсем другая – логика Елены Ильиничны. Вообще, со здоровьем у АНа всё более-менее сносно, за лето он дважды съездит пообщаться с читателями. В июне – в Горький, где ещё и запишется на местном телевидении для научно-популярного фильма «Тайна всех тайн» – о контакте с внеземным разумом, и в очередной раз нелицеприятно выскажется о вмешательстве инопланетян в наши проблемы. Кстати, примерно в это же время сочинялся и сценарий мультфильма о пришельцах. А в августе он по приглашению Общества любителей книги побывает в Саратове и в Энгельсе. Выступления пройдут при полном аншлаге, и вообще ему очень понравится тамошняя публика.
В начале осени АН вдруг расщедрится на редкую по длине запись в тетради дневника. И там так много интересных набросков и просто неординарных мыслей – грех сокращать хоть что-то!
«4.09.82 <…> Для ТП („Торговцы псиной“. – А.С.)
1. Реминисценции
а. История первой любви
б. Эпизод с агрессивной глупостью (сортир и полковник Снегирёв) (очевидно, случай с дрожжами в канском сортире – в повесть эпизод, к сожалению, не вошёл. – А.С.)
в. Эпизод под Кингисеппом – убийство немца
г. Эпизод на Камчатке: увязшие в болоте танки, и танкисты уныло поют „А первой болванкой…“
2. Текущее чтение: Джеймс Клейвелл „Сегун“. <…> Книга неуклюжая, но интересная, множество ошибок, хотя автор и выразил благодарность ориенталистам.
3. Рассуждение о критике.
Ни как писателю, ни как читателю критика никогда и ничего мне не давала. Точнее, как писателю много вреда. По поводу „Новых сказок“: Желтобрыжейкин – „Сорокин-Воровкин настрекотал книжечку, редактор издал, вот и получилось обоим детишкам на молочишко…“ И Поросятников подхватил: „Чему учит Сорокин нашего молодого читателя?..“
Фонетически отвратные фамилии.
Маяковский: „Между писателем и читателем есть посредники, и вкус у этих посредников очень средненький“. Впрочем, это он, кажется, не о критиках, а об издателях. Всё равно верно.
4. О Рите надо упомянуть раньше. Однажды в порыве нежности и отчаяния: „Не надо писать книг, не надо рожать детей“.
5. Чачуа в подпитии, бряцая на гитаре и значительно поглядывая на захмелевшую Риту, поет: „Горела, падая, ракета, а от неё бежал расчёт…“ и „Скатертью, скатертью хлорциан стелется и забирается под противогаз…“
6. В связи с руководителем писательской организации: за всю жизнь не встречал ни одного начальника, к которому питал бы искреннее уважение. Разве что в училище зимой 43-го лейтенант, командир взвода, на лютом морозе с поднятыми ушами, ладный, лёгкий, зловещий. „Что вы ко мне как к спекулянту подходите? Что вы щуритесь, как коровья задница после случки?“ Он был из Бреста, один из немногих. Это о нашем председателе: принял делегацию писателей из Уругвая за делегацию писателей из Парагвая.
7. А вот создать бы такой аппарат – скажем, установить его в Бейруте под бомбами и снарядами, чтобы он транслировал на весь мир ужас, боль и отчаяние гибнущих, на стадионы, где вопят болельщики, на склады, где воруют кладовщики, в кабинеты к большим и малым бюрократам, – то-то все кинулись бы к посольствам, забросали бы окна камнями, забили бы бревнами в двери…
8. Мысли в метро: наверху началась война, термоядерные взрывы над Москвой, тьма, паника…
9. Кто правит судьбами мира: третьеразрядные актёры, недоучившиеся художники, несостоявшиеся поэты…
10. Меня ничто не удивит, я ожидаю всего, готов ко всему. То есть готов в том смысле, что приму с покорностью. Что угодно. Атомная война и убийство хулиганами дочери. Высадка марсиан и высылка из Москвы. Я только притворяюсь удивлённым, заинтересованным, испуганным или рассерженным. Таков ритуал, этого от меня ждут.
Гулял в дождь. Смотрел „Ураган“ (США). Выпивали с А. Черкасским и его женой Нелей».
На следующий день умер Илья Михайлович Ошанин. АН искренне считал тестя одним из лучших людей в своей жизни. У постели умирающего дедушки всю ночь просидела Маша.
К октябрю что-то изменилось в окружающем его пространстве, что-то смягчалось, безнадёга отступала.
8 октября он уезжает в Ленинград один, без Лены – работать над «Торговцами», которые уже через четыре дня станут «Хромой судьбой», обретут чудесный эпиграф из позднесредневекового Райдзана, найденный БНом в том же любимом красном томике японской поэзии, и, наконец, обработка черновика будет закончена.
В тот же приезд делаются наброски под названием «Встреча со Странниками». Понятно: это уже «Волны гасят ветер».
17-го АН уезжает. Вскоре приезжает вновь, и 24 ноября повесть будет закончена в чистовике, насколько вообще может быть закончена повесть, написанная в стол, тем более такая – о времени, о себе, о самых последних событиях.
Есть одна загадка в повести, которая для многих так и осталась неразрешенной, хотя авторы не раз давали по этому поводу объяснения – почему именно Булгаков стал для них символом верховного судьи в литературе, почему именно он держит в руках пресловутую «мензуру». Виталий Бабенко как-то даже спорил с АНом, доказывая ему, что этот пиетет неуместен: «Аркадий Натанович, да вы же вровень с ним, с Михаилом Афанасьевичем! Зачем же голову задирать?» А Стругацкий пыхтел в усы и говорил: «Ты ничего не понимаешь, Виталька, ничего ты не понимаешь…»
Задал и я свой вопрос об этом, уже БНу. Вот что он ответил:
«Впервые мне дали почитать Булгакова ещё в университете. Ни „Роковые яйца“, ни „Дьяволиада“ на меня, помнится, впечатления не произвели, хотя считались в те времена почти запретными. А может быть, именно поэтому – ведь я был правоверным комсомольцем. „Собачье сердце“ я прочитал уже в середине 60-х, в самиздате, и теперь оказался способен оценить Михаила Афанасьевича по достоинству, но настоящее обожание пришло, естественно, после „Мастера и Маргариты“ и, в особенности, после „Театрального романа“. Наша с АНом оценка Булгакова совпадала на сто процентов, разве что он больше, чем я, ценил „Белую гвардию“, но ведь и я её любил тоже, только поменьше – многое в ней мне казалось лишним (да и сейчас кажется – только что перечитал). Булгаков для нас был не просто великолепным писателем, носителем и источником лучшего в современной России языка (вместе с А. Толстым), – он был ещё и символом, кумиром, этическим образцом целой эпохи (чего никак нельзя было сказать об А. Толстом). Пушкин велик и любим, но – слишком далёк. Он – всё-таки Прошлое. Вечное, но Прошлое. Михаил же Афанасьевич – Настоящее. И даже в каком-то смысле Будущее. Он – существенная часть реальной жизни… Впрочем, всё это лишь слова, плохо передающие суть. А суть в том, что представить свою жизнь совсем без Булгакова я, разумеется, могу, но это будет – ущербная жизнь».
Закончив «Хромую судьбу», наверно, они оба догадывались, что к тексту ещё не раз и не два придётся вернуться – так, ради собственного удовольствия. Вряд ли могли они предположить, что уже через три года станут готовить рукопись к публикации.
Впрочем, учитывая, какую они написали следующую вещь, не удивлюсь, что и догадывались. Именно – догадывались, чувствовали, интуитивно, не логически. А предсказать, просчитать, спланировать перестройку не удалось никому.
Очень странное было время – начало 80-х. Рассказывая о нём, непрерывно сбиваешься с хронологии, словно и не было у него никакой хронологии. Всё монотонно, одинаково, тоскливо. А если и происходили какие-то события, их было очень трудно привязывать к этому рыхлому времени, и сегодня, спустя годы, нелегко вспоминать, что случилось раньше, что позже.
Вернёмся назад, в 1981 год. Там была не только «Аэлита».
АНу мечталось вновь и вновь возвращаться на Дальний Восток к навсегда полюбившимся местам. Однако преодолеть десять тысяч километров – не совсем простая задача. И времени, и денег, и сил хватало для этого далеко не всякий раз. Приморье – не Ленинград и даже не Крым, чтобы каждое лето туда ездить. Вот и не сложилось в 1978-м, когда планировал. Потом совсем не до того стало. И вот в 1981-м – повезло, и сразу с двух сторон. В Находке проводился Тихоокеанский международный семинар, одним из организаторов которого был Владимир Петрович Лукин. Он и предложил оплатить АНу дорогу туда. Кто оплачивал в итоге, сейчас уже трудно установить, потому что одновременно с этим АН договорился с обществом «Знание», и они вдвоём с Мирером поехали читать лекции по вполне официальной путёвке от Бюро пропаганды. Взяли и жён с собою. А заодно повидали дочку Миреров Варю – она там практику проходила. Ну и конечно, встретили Лукина, и опять Городницкого, который прибыл по приглашению Лукина. В общем, весёлая получилась поездка с массой счастливых совпадений. И отдохнули хорошо, как в молодости – будто второе дыхание открылось.
Прилетели во Владивосток 16 августа, вечером по местному времени и разместились для начала в одноимённой гостинице, ну а потом сразу началось путешествие – длиною больше чем в месяц (20 сентября – в Москву). Мелькают в путевом блокнотике АНа всякие имена и названия: база «Восток», биостанция «Витязь», остров Попова, корабли «Витязь» и «Гидронавт», какая-то Радуга без комментариев (уж не планета ли?)… Сутки им дали на акклиматизацию, а потом писатели начали выступать: у геологов, океанологов, гидрологов, биологов и прочих местных учёных. Варя Мирер, например, работала лаборантом на биостанции «Витязь», изучала эмбриологию морских ежей, а конкретно занималась их оплодотворением – романтическое занятие, которое привело в восторг Стругацкого: «Мартышка! (так он её звал и маленькую, и взрослую) Ты, стало быть, работаешь самцом морского ежа?»
У АНа всю жизнь был огромный интерес ко всяким морским тварям, особенно к гигантским головоногим. Он всё допытывался у научного сотрудника Кирилла Несиса: «Неужели так-таки и не осталось ни одного гигантского древнего кальмара? Ну, может быть, всё же где-нибудь есть хоть один?» И был очень разочарован уверенно отрицательным ответом.
На побережье они жили в специальном уютном домике – своего рода элитной гостинице для важных персон – с большими комнатами, с камином. Подружились с водолазами из Владика, с увлечением слушали их подводные истории и анекдоты. Много купались – там были чудесные пустынные пляжи: белый песок, прозрачная вода, а вокруг скалы, сосны…
На их лекции-выступления народу приходило невероятно много. То есть практически все, кто там жил, и приходили: по триста – по четыреста человек, залы набивались битком. Это называется «окраинный эффект»: пруд пруди поклонников, истосковавшихся по общению и событиям (заметим в скобках, что у Стругацких и в Питере, и в Москве полупустых залов не было никогда). Но, конечно, окраинная публика – совершенно особенная. Там была одна девочка, переписавшая всё собрание АБС от руки и принёсшая АНу на автограф всю эту гору тетрадок. А другой их поклонник, совсем уже дедушка, наоборот, книжек у себя дома не держал: что прочтёт – с удовольствием, сразу передавал другому, но читал страшно много, и АБС тоже знал почти наизусть.
Лукина встретили, будучи на одном из островов. Владимир Петрович находился на катере, проплывавшем мимо и вычислил место пребывания классика. Рассмотрев в бинокль его массивную фигуру, Лукин очень гордился, что правильно указал капитану маршрут. АН стоял на берегу величественный и красивый, как Робинзон Крузо или капитан Грант. Катер не мог подойти ближе из-за мели, и тогда Владимир Петрович прыгнул и поплыл навстречу. Это было чертовски эффектно, они там поснимались на память. Жаль, что пока так и не удалось найти ни одной фотографии, хотя их многие помнят.
Забавным заключительным аккордом стало происшествие в день отлёта. Кто-то подарил АНу отличный охотничий нож, да уж больно длинное было лезвие, и погранцы в аэропорту сразу сказали: это, мол, боевой клинок, на борт нельзя с таким, положено конфисковать. И тогда АН прочёл им целую лекцию о холодном оружии: современном и старинном, европейском, русском и японском, и так заболтал товарищей в форме, что те сломались в итоге и шепнули: «Бог с вами. Проходите, писатели!»
А ещё в 1981 – м выходит довольно любопытная книжица – «Трудно быть богом» и «Хищные веши века» (по тексту издания в «МГ», но с новым оформлением) в бакинском издательстве «Азернешр». Войскунский помог в минуту жизни трудную, связал с полезными людьми ещё в конце 70-х, и дело тянулось, как водится. Год на книге стоит 1980-й, но экземпляры авторские добрались до АНа только уже в январе. Один такой он и подарил Алексею Вольдемаровичу с супругой. Необычна надпись на титуле:
«Любимым Шилейкам сию книгу скорби, скорбя душою, повергаю к стопам».
Книжечка страшноватая, конечно – на «газетке», с отвратительным качеством печати, в дрянном картонном переплёте и картинки соответствующие. Но разве это повод для скорби? Поводом для скорби было другое. Бакинские ребята, как, впрочем, и многие жители кавказских и закавказских республик, при любых властях сохраняли рыночную экономику, поэтому главным было для них – денег заработать. Вот и экономили на всём. К сожалению, чуточку перестарались – решили сэкономить даже на авторском гонораре. Заплатили меньше, чем написано в договоре, потом шарахнули второй тираж и за него решили не платить вообще (вот когда появлялись первые контрафактные тиражи!). Но не на таковских нарвались! Закалённые в боях с чиновниками АБС вступили в сражение-переписку и, кажется, выцарапали из азербайджанских издателей почти всё, что им полагалось.
Но какой был реальный тиражу этой полукустарно изданной книги, теперь уже не узнает никто. Я только помню, что как раз тогда активно заработал чёрный книжный рынок на Кузнецком мосту в Москве, и я туда регулярно захаживал. Добрых полгода я раз в неделю, не реже, встречался там с одним и тем же человеком, приносившим полный портфель экземпляров этого азербайджанского шедевра. Я покупал (по 10 рублей за экземпляр при номинале 1 рубль 40 копеек) кривоватые блёклые книжки на все деньги, какие у меня были, вначале обеспечил ими всех друзей, а потом создавал обменный фонд, за счёт которого заметно приблизился к цели – полному собранию АБС. Перечитывать любимые повести по этому изданию сегодня немыслимо, но, всякий раз беря его в руки, я с теплотой вспоминаю бакинских аферистов, подаривших радость стольким людям в те годы.
Очень странное время.
10 ноября 1982 года умер Брежнев. Помню ощущение тревоги и вместе с тем надежды. У нас ведь со сменой лидера всегда менялись и эпохи. Хуже уже некуда – значит, будет лучше. Не угадали. Получилось, как в анекдоте. Пессимист: «Хуже уже не будет…» – Оптимист: «Будет! Будет!» Видимо, как раз тогда и придумали. До рассвета было ещё два с половиной года. Но странным образом для АБС это были далеко не худшие времена.
Прямо тогда же, в 1982-м появилось и первое книжное издание «Жука в муравейнике» в лениздатовском сборнике «Белый камень Эрдени». И «Отель „У погибшего альпиниста“», наконец, удостоился книжного формата у себя на родине (после доброго десятка изданий за рубежом) – вышел в «Знании» симпатичным таким, очень западным на вид покетом и нормальным тиражом в сто тысяч.
«Жук», взбаламутивший всех ещё в журнальном варианте, вызвал теперь новую волну критики и дискуссий в КЛФ.
Наверно, ни о какой другой их книге не спорили так много, как об этой. Да и по сей день продолжают спорить. Многие друзья АБС обижались на беспросветный мрак (хоть и понимали, с чем он связан) и доказывали братьям, что нельзя так плохо относиться к собственноручно и собственноголовно созданному миру. Критики обрушились, понятное дело и на пессимизм, и на отход от канонов марксизма, соцреализма и всех прочих правильных измов в сторону измов неправильных. А что касается фэнов, которых было уже много по всей стране, и члены КЛФ уже называли себя фэнами – так эти спорили не о литературе – они, как правило, устраивали диспуты этические, по самой сути проблемы. Они пытались решить вопрос, прав или не прав Рудольф Сикорски, убивший Льва Абалкина, как будто от этого зависела их личная судьба, а то и судьба страны. И сегодня вдруг понимаешь, что в каком-то смысле так оно и было: судьба Советского Союза, судьба России зависела и зависит от того, как мы все сделаем этот выбор между интересами личности и интересами общества. И, что любопытно, при ответе на вопрос возникает не два, а три полюса: на двух крайних те, кто не видит, о чем тут спорить. Одни – потому что убеждены в приоритете интересов общества (тут и коммунисты, и монархисты, и фашисты, и технократы), другие – потому что не менее свято верят в приоритет личности (либералы, искренне верующие христиане, буддисты, романтики, поэты, идеалисты всякого рода). Но есть ещё третьи. Их много. Они ни в чём не убеждены и ни во что не верят, они только знают, что проблема безумно сложна, почти не разрешима. Но решать её надо, и они готовы этим заниматься.
Мне кажется, что сами АБС относятся именно к третьей категории. Именно поэтому (вкупе с высочайшим художественным уровнем повести) «Жук в муравейнике» и производит на всех до сих пор такое ошеломляющее впечатление.
Даже не знаю, с чем сравнивать финал «Жука» по силе его воздействия на читателя. Идеально выстроена вся последняя глава, а последний эпизод и, конечно, последняя фраза: «И тогда Майя Тойвовна Глумова закричала» – это стопроцентный нокаут.
Я очень хорошо помню своё ощущение после того, как дочитал последний абзац и отложил журнал в сторону. К этому моменту лишь одно чувство, пожалуй, владело мною почти безраздельно – огромное, безграничное сожаление о том, что я всё это узнал и вынужден теперь принимать в этом участие.
Я высказал именно такую мысль вслух, и мой умный, мой ироничный друг Лёша Денисов, прочитавший повесть раньше меня – он любую книгу брал первым, потому что читал быстрее – ядовито подколол:
– Ни в чём ты не будешь принимать участия, забудешь всё через день.
Наши отношения с Лёшей всю жизнь чем-то напоминают мне отношения Стаса Красногорова с Виконтом («Поиск предназначения»).
Но он оказался не прав. Ведь я-то, к сожалению, не был нормальным человеком. И я понимал, что с этой тайной на плечах мне ходить теперь до конца жизни. Что, прочитав повесть, я принял на себя ответственность, о которой не просил и в которой, право же, не нуждался. Что отныне я обязан принимать какие-то решения, а значит – должен теперь досконально понять хотя бы то, что уже понято до меня, а желательно и ещё больше. А значит – увязнуть в этой отвратительной тайне… И какую-то совсем детскую благодарность ощущал я к Стругацким, которые до последней своей книги старались удержать меня на краю этой тайны. И какое-то ещё более детское, почти капризное раздражение против них – за то, что всё-таки не удержали…
Я ни о чём не забыл через день. И через год не забыл. Я и сегодня помню это ни с чем не сравнимое ощущение от могучего вторжения придуманного Стругацкими мира в реальную жизнь. Я перечитывал «Жука в муравейнике» много раз. Я не нашёл ответа на вопрос.